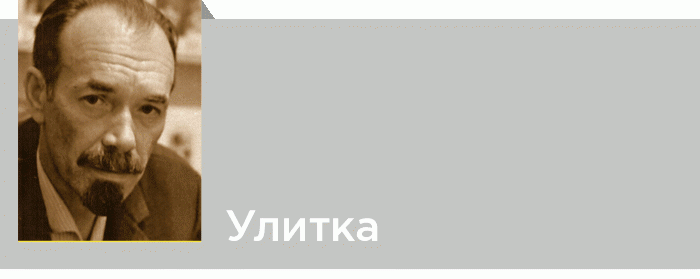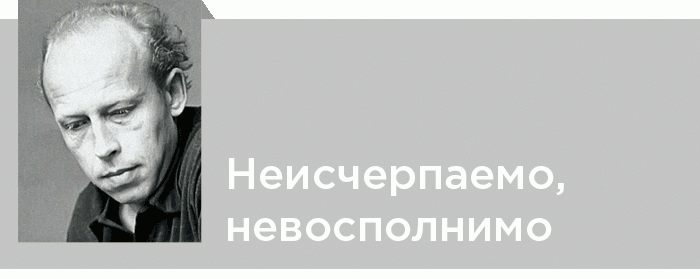Владимир Тендряков. Хлеб для собаки

Лето 1933 года.
У прокопченного, крашенного казенной охрой вокзального здания, за вылущенным заборчиком — сквозной березовый скверик. В нем прямо на утоптанных дорожках, на корнях, на уцелевшей пыльной травке валялись те, кого уже не считали людьми.
Правда, у каждого в недрах грязного, вшивого тряпья должен храниться если не утерян — замусоленный документ, удостоверяющий, что предъявитель сего носит такую-то фамилию, имя, отчество, родился там-то, на основании такого-то решения сослан с лишением гражданских прав и конфискацией имущества. Но уже никого не заботило, что он, имярек, лишенец, адмовысланный, не доехал до места, никого не интересовало, что он, имярек, лишенец, нигде не живет, не работает, ничего не ест. Он выпал из числа людей.
Большей частью это раскулаченные мужики из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины. Вместе с ними в наши северные места прибыло и южное словечко «куркуль».
Куркули даже внешне не походили на людей.
Одни из них — скелеты, обтянутые темной, морщинистой, казалось, шуршащей кожей, скелеты с огромными, кротко горящими глазами.
Другие, наоборот, туго раздуты — вот-вот лопнет посиневшая от натяжения кожа, телеса колышутся, ноги похожи на подушки, пристроченные грязные пальцы прячутся за наплывами белой мякоти.
И вели они себя сейчас тоже не как люди.
Кто-то задумчиво грыз кору на березовом стволе и взирал в пространство тлеющими, нечеловечьи широкими глазами.
Кто-то, лежа в пыли, источая от своего полуистлевшего тряпья кислый смрад, брезгливо вытирал пальцы с такой энергией и упрямством, что, казалось, готов был счистить с них и кожу.
Кто-то расплылся на земле студнем, не шевелился, а только клекотал и булькал нутром, словно кипящий титан.
А кто-то уныло запихивал в рот пристанционный мусорок с земли…
Больше всего походили на людей те, кто уже успел помереть. Эти покойно лежали — спали.
Но перед смертью кто-нибудь из кротких, кто тишайше грыз кору, вкушал мусор, вдруг бунтовал — вставал во весь рост, обхватывал лучинными, ломкими руками гладкий, сильный ствол березы, прижимался к нему угловатой щекой, открывал рот, просторно черный, ослепительно зубастый, собирался, наверное, крикнуть испепеляющее проклятие, но вылетал хрип, пузырилась пена. Обдирая кожу на костистой щеке, «бунтарь» сползал вниз по стволу и… затихал насовсем.
Такие и после смерти не походили на людей — по-обезьяньи сжимали деревья.
Взрослые обходили скверик. Только по перрону вдоль низенькой оградки бродил по долгу службы начальник станции в новенькой форменной фуражке с кричаще красным верхом. У него было оплывшее, свинцовое лицо, он глядел себе под ноги и молчал.
Время от времени появлялся милиционер Ваня Душной, степенный парень с застывшей миной — «смотри ты у меня!».
— Никто не выполз? — спрашивал он у начальника станции.
А тот не отвечал, проходил мимо, не подымал головы.
Ваня Душной следил, чтоб куркули не расползались из скверика — ни на перрон, ни на пути.
Мы, мальчишки, в сам скверик тоже не заходили, а наблюдали из-за заборчика. Никакие ужасы не могли задушить нашего зверушечьего любопытства. Окаменев от страха, брезгливости, изнемогая от упрятанной панической жалости, мы наблюдали за короедами, за вспышками «бунтарей», кончающимися хрипом, пеной, сползанием по стволу вниз.
Начальник станции — «красная шапочка» — однажды повернулся в нашу сторону воспаленно-темным лицом, долго глядел, наконец изрек то ли нам, то ли самому себе, то ли вообще равнодушному небу:
— Что же вырастет из таких детей? Любуются смертью. Что за мир станет жить после нас? Что за мир?..
Долго выдержать сквера мы не могли, отрывались от него, глубоко дыша, словно проветривая все закоулки своей отравленной души, бежали в поселок.
Туда, где шла нормальная жизнь, где часто можно было услышать песню:
Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
страна встает со славою
на встречу дня…
Уже взрослым я долгое время удивлялся и гадал: почему я, в общем-то впечатлительный, уязвимый мальчишка, не заболел, не сошел с ума сразу же после того, как впервые увидел куркуля, с пеной и хрипом умирающего у меня на глазах.
Наверное, потому, что ужасы сквера появились не сразу и у меня была возможность как-то попривыкнуть, обмозолиться.
Первое потрясение, куда более сильное, чем от куркульской смерти, я испытал от тихого уличного случая.
Женщина в опрятном и поношенном пальто с бархатным воротничком и столь же опрятным и поношенным лицом на моих глазах поскользнулась и разбила стеклянную банку с молоком, которое купила у перрона на станции. Молоко вылилось в обледеневший нечистый след лошадиного копыта. Женщина опустилась перед ним, как перед могилой дочери, придушенно всхлипнула и вдруг вынула из кармана простую обгрызенную деревянную ложку. Она плакала и черпала ложкой молоко из копытной ямки па дороге, плакала и ела, плакала и ела, аккуратно, без жадности, воспитанно.
А я стоял в стороне и — нет, не ревел вместе с ней — боялся, надо мной засмеются прохожие.
Мать давала мне в школу завтрак: два ломтя черного хлеба, густо намазанных клюквенным повидлом. И вот настал день, когда на шумной перемене я вынул свой хлеб и всей кожей ощутил установившуюся вокруг меня тишину. Я растерялся, не посмел тогда предложить ребятам. Однако на следующий день я взял уже не два ломтя, а четыре…
На большой перемене я достал их и, боясь неприятной тишины, которую так трудно нарушить, слишком поспешно и неловко выкрикнул:
— Кто хочет?!
— Мне шматочек, — отозвался Пашка Быков, парень с нашей улицы.
— И мне!.. И мне!.. Мне тоже!..
Со всех сторон тянулись руки, блестели глаза.
— Всем не хватит! — Пашка старался оттолкнуть напиравших, но никто не отступал.
— Мне! Мне! Корочку!..
Я отламывал всем по кусочку.
Наверное, от нетерпения, без злого умысла, кто-то подтолкнул мою руку, хлеб упал, задние, желая увидеть, что же случилось с хлебом, наперли на передних, и несколько ног прошлось по кускам, раздавило их.
— Пахорукий! — выругал меня Пашка.
И отошел. За ним все поползли в разные стороны.
На окрашенном повидлом полу лежал растерзанный хлеб. Было такое ощущение, что мы все вгорячах нечаянно убили какое-то животное.
Учительница Ольга Станиславна вошла в класс. По тому, как она отвела глаза, как спросила не сразу, а с еле приметной запинкой, я понял — она голодна тоже.
— Это кто ж такой сытый?
И все те, кого я хотел угостить хлебом, охотно, торжественно, пожалуй, со злорадством объявили:
— Володька Тенков сытый! Он это!..
Я жил в пролетарской стране и хорошо знал, как стыдно быть у нас сытым. Но, к сожалению, я действительно был сыт, мой отец, ответственный служащий, получал ответственный паек. Мать даже пекла белые пироги с капустой и рубленым яйцом!
Ольга Станиславна начала урок.
— В прошлый раз мы проходили правописание… — И замолчала. — В прошлый раз мы… — Она старалась не глядеть на раздавленный хлеб. — Володя Тенков, встань, подбери за собой!
Я покорно встал, не пререкаясь, подобрал хлеб, стер вырванным из тетради листком клюквенное повидло с пола. Весь класс молчал, весь класс дышал над моей головой.
После этого я наотрез отказался брать в школу завтраки.
Вскоре я увидел истощенных людей с громадными кротко-печальными глазами восточных красавиц…
И больных водянкой с раздутыми, гладкими, безликими физиономиями, с голубыми слоновьими ногами…
Истощенных — кожа и кости — у нас стали звать шкилетниками, больных водянкой — слонами.
И вот березовый сквер возле вокзала…
Я кой к чему успел привыкнуть, не сходил с ума.
Не сходил с ума я еще и потому, что знал: те, кто в нашем привокзальном березнячке умирал среди бела дня, — враги. Это про них недавно великий писатель Горький сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают». Они не сдавались. Что ж… попали в березняк.
Вместе с другими ребятами я был свидетелем нечаянного разговора Дыбакова с одним шкилетником.
Дыбаков — первый секретарь партии в нашем районе, высокий, в полувоенном кителе с рублено прямыми плечами, в пенсне на тонком горбатом носу. Ходил он, заложив руки за спину, выгнувшись, выставив грудь, украшенную накладными карманами.
В клубе железнодорожников проходила какая-то районная конференция. Все руководство района во главе с Дыбаковым направлялось в клуб по усыпанной толченым кирпичом дорожке. Мы, ребятишки, за неимением других зрелищ тоже сопровождали Дыбакова.
Неожиданно он остановился. Поперек дорожки, под его хромовыми сапогами, лежал оборванец — костяк в изношенной, слишком просторной коже. Он лежал на толченом кирпиче, положив коричневый череп па грязные костяшки рук, глядел снизу вверх, как глядят все умирающие с голоду — с кроткой скорбью в неестественно громадных глазах.
Дыбаков переступил с каблука на каблук, хрустнул насыпной дорожкой, хотел было уже обогнуть случайные мощи, как вдруг эти мощи разжали кожистые губы, сверкнули крупными зубами, сипяще и внятно произнесли:
— Поговорим, начальник.
Обвалилась тишина, стало слышно, как далеко за пустырем возле бараков кто-то от безделья тенорит под балалайку:
Хорошо тому живется,
У кого одна нога,
Сапогов не много надо
И портошина одна.
— Аль боишься меня, начальник?
Из-за спины Дыбакова вынырнул, райкомовский работник товарищ Губанов, как всегда с незастегивающимся портфелем под мышкой:
— Мал-чать! Мал-чать!..
Лежащий кротко глядел на него снизу вверх и жутко скалил зубы. Дыбаков движением руки отмахнул в сторону товарища Губанова.
— Поговорим. Спрашивай — отвечу.
— Перед смертью скажи… за что… за что меня?.. Неужель всерьез за то, что две лошади имел? — шелестящий голос.
— За это, — спокойно и холодно ответил Дыбаков.
— И признаешься! Ну-у, заверюга…
— Мал-чать! — подскочил опять товарищ Губанов.
И снова Дыбаков небрежно отмахнул его в сторону.
— Дал бы ты рабочему хлеб за чугун?
— Что мне ваш чугун, с кашей есть?
— То-то и оно, а вот колхозу он нужен, колхоз готов за чугун рабочих кормить. Хотел ты идти в колхоз? Только честно!
— Не хотел.
— Почему?
— Всяк за свою свободушку стоит.
— Да не свободушка причина, а лошади. Лошадей тебе своих жаль. Кормил, холил — и вдруг отдай. Собственности своей жаль! Разве не так?
Доходяга помолчал, помигал скорбно и, казалось, даже готов был согласиться.
— Отыми лошадей, начальник, и остановись. Зачем же еще и живота лишать? — сказал он.
— А ты простишь нам, если мы отымем? Ты за спиной нож на нас точить не станешь? Честно!
— Кто знает.
— Вот и мы не знаем. Как бы ты с нами поступил, если б чувствовал — мы на тебя нож острый готовим?.. Молчишь?.. Сказать нечего?.. Тогда до свидания.
Дыбаков перешагнул через тощие, как палки, ноги собеседника, двинулся дальше, заложив руки за спину, выставив грудь с накладными карманами. За ним, брезгливо обогнув доходягу, двинулись и остальные.
Он лежал перед нами, мальчишками, — плоский костяк и тряпье, череп на кирпичной крошке, череп, хранящий человеческое выражение покорности, усталости и, пожалуй, задумчивости. Он лежал, а мы осуждающе его разглядывали. Две лошади имел, кровопиец! Ради этих лошадей стал бы точить нож на нас. «Если враг не сдается…» Здорово же его отделал Дыбаков.
И все-таки было жаль злого врага. Наверное, не только мне. Никто из ребятишек не заплясал над ним, не стал дразнить:
Враг-вражина,
Куркуль-кулачина
Кору жрет.
Вошей бьет,
С куркулихой гуляет
Ветром шатает.
Я садился дома за стол, тянулся рукой к хлебу, и память разворачивала картины: направленные вдаль, тихо ошалелые глаза, белые зубы, грызущие кору, клокочущая внутри студенистая туша, разверстый черный рот, хрип, пена… И под горло подкатывала тошнота.
Раньше мать про меня говорила: «На этого не пожалуюсь, что ни поставь — уминает, за ушами трещит». Сейчас она подымала крик:
— Заелись! С жиру беситесь!..
«С жиру бесился» я один, но если мать начинала ругаться, то всегда ругала сразу двоих — меня и брата. Брат был моложе на три года, в свои семь лет умел переживать только за самого себя, а потому ел — «за ушами трещит».
— Беситесь! Супу не хотим, картошки не хотим! Кругом люди черствому сухарю рады-радехоньки. Вам хоть рябчиков подавай.
О рябчиках я только читал стишки: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!» Объявить голодовку, вообще отказаться от еды я не мог. Во-первых, не разрешила бы мать. Во-вторых, тошнота тошнотой, картинки картинками, а есть-то мне все-таки хотелось, и вовсе не буржуйских рябчиков. Меня заставляли проглотить первую ложку, а уж дальше шло само собой, я расправлялся с обедом, вставал из-за стола отяжелевший.
Вот тут-то все и начиналось…
Мне думается, совести свойственно чаще просыпаться в теле сытых людей, чем голодных. Голодный вынужден больше думать о себе, о добывании для себя хлеба насущного, само бремя голода понуждает его к эгоизму. У сытого больше возможности оглянуться вокруг, подумать о других. Большей частью из числа сытых выходили идейные борцы с кастовой сытостью — Гракхи всех времен.
Я вставал из-за стола. Не потому ли в привокзальном сквере люди грызут кору, что я съел сейчас слишком много?
Но это же куркули грызут кору! Ты жалеешь?.. «Если враг не сдается, его уничтожают!» А это «уничтожают» вот так, наверное, и должно выглядеть черепа с глазами, слоновьи ноги, пена из черного рта. Ты просто боишься смотреть правде в глаза.
Отец как-то рассказывал, что в других местах есть деревни, где от голода умерли все жители до единого — взрослые, старики, дети. Даже грудные дети… Про них-то уж никак не скажешь: «Если враг не сдается…»
Я сыт, очень сыт — до отвала. Я съел сейчас столько, что, наверное, пятерым хватило бы спастись от голодной смерти. Не спас пятерых, съел их жизнь. Только чью — врагов или не врагов?..
А кто враг?.. Враг ли тот, кто грызет кору? Он им был — да! — но сейчас ему не до вражды, нет мяса на его костях, нет силы даже в его голосе…
Я съел весь свой обед сам и ни с кем но поделился.
Есть мне приходится по три раза в день.
Как-то под утро я внезапно проснулся. Мне ничего не приснилось, просто взял да открыл глаза, увидел комнату в загадочно-пепельном сумраке, за окном серенький, уютный рассвет.
Далеко на пристанционных путях заносчиво прокричала маневровая «овечка». Ранние синицы попискивали на старой липе. Скворец-папаша прочищал горло, пробовал петь по-соловьиному — бездарь! С болот на задах нежно, убеждающе закуковала кукушка. «Кукушка! Кукушка! Сколько мне жить?» И она роняет и роняет свое «ку-ку», как серебряные яички.
И все это происходит в удивительно покойных сереньких сумерках, в тесном, притушенном, уютном мире. В нечаянно вырванную у сна минуту я вдруг тихо радуюсь очевиднейшему факту — существует на белом свете некий Володька Тенков, человек десяти лет от роду. Существует — как это прекрасно! «Кукушка! Кукушка! Сколько мне?..» «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!..» Щедра без устали.
В это время далеко, где-то в самом конце нашей улицы загремело. Распарывая сонный поселок, приближалась расхлябанная телега, сминая серебряный голос кукушки, писк синиц, потуги бездарного скворца. Кто это и куда так сердито спешит в такую рань?..
И неожиданно меня ожгло: кто? да ясно! Об этих ранних поездках говорит весь поселок. Комхозовскнй конюх Абрам едет «собирать падалицу». Каждое утро он въезжает на своей телеге прямо в привокзальный березняк, начинает шевелить лежащих — жив или нет? Живых не трогает, мертвых складывает в телегу, как дровяные чурки.
Гремит расхлябанная телега, будит спящий поселок. Громит и стихает.
После нее не слышно птиц. Какую-то минуту просто никого и ничего не слышно. Ничего… Но странно — нет и тишины. «Кукушка! Кукушка!..» Ах, не надо! Не все ли равно, сколько лет проживу на свете? Да так ли уж мне хочется долго жить?..
Но словно ливень из-под крыши, обрушились проснувшиеся воробьи. Зазвенели ведра, раздались женские голоса, заскрипел ворот колодца.
— Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! Любая работа! — Сильный, с вызовом баритон.
— Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! — повторил мальчишеский альт.
Это тоже высланные куркули — отец и сын. Отец — высокий, костлявоплечистый, бородатый, сурово-важный, сын — жилисто-худенький, веснушчатый, очень серьезный, постарше меня года на два, на три.
Каждый наш день начинается с того, что они громко, в два голоса, почти высокомерно предлагают поселку чистить помойки.
Я не должен есть свои обеды один.
Я обязан с кем-то делиться.
С кем?..
Наверное, с самым, самым голодным, даже если он враг.
Кто — самый?.. Как узнать?
Не трудно. Следует пойти в березовый скверик и протянуть руку с куском хлеба первому же попавшемуся. Ошибиться нельзя, там все — самые, самые, иных нет.
Одному протянуть руку, а других не заметить?.. Одного осчастливить, а десятки обидеть отказом? И это будет воистину смертельная обида. Те, к кому рука не протянется, будут вывезены конюхом Абрамом.
Могут ли обойденные согласиться с тобой?.. Не опасно ли открыто протягивать руку помощи?..
Конечно же, я тогда думал не так, не такими словами, какими пишу сейчас, тридцать шесть лет спустя. Скорей всего я тогда вовсе не думал, а остро чувствовал, как животное, интуитивно угадывающее будущие осложнения. Не разумом, а чутьем тогда я осознал: благородное намерение — разломи пополам свой хлеб насущный, поделись с ближним — можно свершить только тайком от других, только воровски!
Я украдкой, воровски не доел то, что поставила передо мной на стол мать. Я воровски загрузил в свои карманы честно сэкономленные три куска хлеба, завернутый в газету комок пшенной каши величиной с кулак и чистый, совершенный, как кристалл, кусочек сахара-рафинада. Среди бела дня я вышел на воровское дело — на тайную охоту на самого, самого голодного.
Я встретил Пашку Быкова, с которым учился в одном классе, жил на одной улице, дружить не дружил, а враждовать остерегался. Я знал, что Пашка голоден всегда — днем и ночью, до обеда и после обеда. Семья Быковых — семь человек, все семеро живут на рабочие карточки отца, который работает сцепщиком на железной дороге. Но я не поделился с Пашкой хлебом — не самый…
Я встретил скрюченную бабку Обноскову, которая жила тем, что собирала на обочинах дорог, на полях, на опушках леса травки и корешки, сушила, варила, парила их… Другие такие одинокие старухи все поумирали. Я не поделился с бабкой — еще не самая.
Мимо меня протрусил Борис Исаакович Зильбербрунер в галошках, привязанных веревочками к грязным лодыжкам. Если б я встретил этого Зильбербрунера раньше, то, как знать, возможно, решил — тот самый. Недавно он был одним из шкилетников, торчащих возле столовки, но приноровился делать рыболовные крючки из проволоки, за них платили даже куриными яйцами.
Наконец я налетел на одного из шатающихся по поселку слонов. Широченный, что платяной шкаф, в просторном мужицком малахае цвета пахотной земли, в запорожской, казацкой шапке — грачиное гнездо, с пышными, голубовато-бледными ногами, которые при каждом шаге тряслись, как овсяный кисель, и смогли бы уместиться только каждая в банной лохани.
Может, и он был еще не тот самый… Продолжи я свою охоту, наверное, наскочил бы на более несчастного, но остатки обеда жгли меня сквозь карманы, требовали: делись немедля!
— Дяденька…
Он остановился, тяжело дыша, нацелил на меня со своей башенной высоты глаза-щелки.
Бледное раздутое лицо вблизи поражало неестественным гигантизмом — какие-то плавающие, словно дряблые ягодицы, щеки, низвергающийся на грудь подбородок, веки, совсем утопившие в себе глаза, широченная, натянутая до труппой синевы переносица. На таком лице ничего нельзя прочесть, ни страха, ни надежды, ни растроганности, ни подозрительности, — подушка.
Терзая карман, я неловко стал освобождать первый кусок хлеба.
Разглаженная физиономия дрогнула, туго надутая, с короткими, грязными, несгибающимися пальцами кисть протянулась, взяла кусок нежно, настойчиво, нетерпеливо. Так берет из руки хлеб теленок с теплым носом и мягкими губами.
— Спасибо, хлопчик, — сказал фистулой слон.
Я выложил ему все, что у меня было.
— Завтра… На пустыре… Возле штабелей… Что-нибудь еще… — пообещал я и кинулся прочь с облегченными карманами и облегченной совестью.
Весь день я был счастлив. Внутри, в подреберье, где живет душа, было прохладно и тихо.
На пустыре, возле штабелей… Да этот раз я нес восемь кусков хлеба, два ломтика сала, старую консервную банку, набитую тушеной картошкой. Все это я должен был съесть сам и не съел, сэкономил, когда отворачивалась мать.
Я бежал к пустырю вприпрыжку, придерживая обеими руками оттопыривающуюся на животе рубаху. Чья-то тень упала мне под ноги.
— Молодой человек! Молодой человек! Молю! Уделите минутку!..
Ко мне ли обращаются столь почтительно?..
Ко мне.
Поперек дороги стояла женщина в пыльной шляпке, известная всем по прозвищу Отрыжка. Она была не слонихой и не шкилетницей, просто инвалидкой, изуродованной какой-то странной болезнью. Все ее сухое тело неестественно измято, скрючено, вывернуто — плечики перекошены, спина откинута, маленькая птичья голова в замусоленной суконной шляпке с тусклым перышком где-то далеко позади всего тела. Время от времени эта голова делает отчаянное встряхивание, словно хозяйка собирается лихо воскликнуть: «Эх! И спляшу вам!» Но Отрыжка не плясала, а обычно начинала сильно-сильно подмигивать всей щекой.
Сейчас она подмигивала мне и говорила страстным, слезливым голосом:
— Молодой человек, поглядите на меня! Не стесняйтесь, не стесняйтесь, вниммательней!.. Вы когда-нибудь видели обиженное богом существо?.. — Она подмигивала и наступала на меня, я пятился. — Я больна, я беспомощна, но у меня дома сын… Я — мать, я люблю его всей душой, я готова на все, чтоб его накормить… Мы оба забыли вкус хлеба, молодой человек! Маленький кусочек, прошу вас!..
Веселое до жути подмигивание всей щекой, черная рука с грязной тряпочкой, чтоб промокнуть глаза… Откуда она узнала, что у меня под рубахой хлеб? Не сказал же ей слон, который ждет меня на пустыре. Слону выгодно молчать.
— Готова встать перед вами па колени. У вас такое доброе… у вас ангельское лицо!..
Как она узнала о хлебе? Нюхом? Колдовством?.. Я не понимал тогда, что не я один пытался подкормить ссыльных куркулей, что у всех простодушных спасителей было красноречиво воровское, виноватое выражение лица.
Устоять перед страстью Отрыжки, перед ее развеселым подмигиванием, перед скомканной грязной тряпицей я не мог. Я отдал весь хлеб с ломтиками сала, оставив вместе с банкой тушеной картошки только один кусок.
— Это я обещал…
Но Отрыжка пожирала сорочьими глазами консервную банку, трясла пыльной шляпкой с перышком, стонала:
— Мы гибнем! Мы гибнем! Я и мой сын — мы гибнем!..
Я отдал ей и картошку. Она засунула банку под кофту, жадно блеснула глазом на оставшийся в моей руке последний ломоть хлеба, дернула головой эх, спляшу! — еще раз подмигнула щекой, пошла прочь, накрененная набок, как тонущая лодка.
Я стоял и разглядывал хлеб в руке. Кусок был мал, завожен в кармане, помят, а ведь я сам позвал — приходи на пустырь, я заставил голодного ждать целые сутки, сейчас я ему поднесу такой вот кусочек. Нет, уж лучше не позориться!..
И я с досады — да и с голода тоже, — не сходя с места, съел хлеб. Он неожиданно был очень вкусен и… ядовит. Целый день после него я чувствовал себя отравленным: как я мог — вырвал изо рта у голодного! Как я мог!..
А утром, выглянув в окно, я похолодел. Под окном у нашей калитки торчал знакомый слон. Он стоял, облаченный в свой необъятный кафтан цвета свежевспаханного поля, сложив жабьи мягкие руки на тучном животе, ветерок шевелил грязный мех на его казацкой шапке, — недвижим и башнеподобен.
Я сразу почувствовал себя гадким лисенком, загнанным в нору собакой. Он может простоять до вечера, может так стоять и завтра и послезавтра, спешить ему некуда, а стояние обещает хлеб.
Я дождался, пока мать ушла из дому, забрался в кухню, отвалил от буханки увесистую горбушку, достал из мешка десяток крупных сырых картофелин и выскочил…
У пахотного кафтана были бездонные карманы, в которых, наверное, могли бы исчезнуть все наши семейные запасы хлеба.
— Сынку, нэ вирь подлой бабе. Немае у нэй никого. Ни сына нэма, ни дочкы.
Я и без него об этом догадывался — Отрыжка обманывала, но попробуй отказать ей, когда стоит перед тобой изломанная, подмигивает щекой и держит в руке грязную тряпицу, чтоб промокнуть глаза.
— Ой, лыхо, сынку, лыхо. Смэрть и та грэбуе… Ой, лыхо, лыхо. — Сипло вздыхая, он медленно отчалил, с натугой волоча пышные ноги по занозистым доскам поселкового тротуара, обширный, как стог, величественный, как обветшалый ветряк. — Ой, лыхо мни, лыхо…
Я повернулся к дому и вздрогнул: передо мной стоял отец, на гладко выбритой голове играет солнечный зайчик, тучновато-плотный, в парусиновой гимнастерке, перехваченной тонким кавказским ремешком с бляшками, лицо не хмурое и глаза не завешаны бровями — спокойное, усталое лицо.
Шагнул на меня, положил на мое плечо тяжелую руку и надолго загляделся куда-то в сторону, наконец спросил:
— Ты дал ему хлеба?
— Дал.
И он снова вглядывался в даль.
Я люблю своего отца и горжусь им.
О великой революции, о гражданской войне сейчас поют песни и складывают сказки. Это о моем отце поют, о нем складывают сказки!
Он из тех солдат, которые первыми отказались воевать за царя, арестовали своих офицеров.
Он слышал Ленина на Финском вокзале. Он видел его стоящим на броневике, живым — не на памятнике.
Он был в гражданскую комиссаром Четыреста шестнадцатого ревполка.
У него на шее рубец от колчаковского осколка.
Он получил в награду именные серебряные часы. Их потом украли, но я сам держал их в руках, видел надпись на крышке: «За проявленную храбрость в боях с контрреволюцией»…
Я люблю отца и горжусь им. И всегда боюсь его молчания. Сейчас вот помолчит и скажет: «Я всю жизнь воюю с врагами, а ты их подкармливаешь. Не предатель ли ты, Володька?»
Но он тихо спросил:
— Почему этому? Почему не другому?
— Этот подвернулся…
— Подвернется другой — дашь?
— Н-не знаю. Наверное, дам.
— А хватит ли у нас хлеба накормить всех?
Я молчал и смотрел в землю.
— У страны не хватает на всех-то. Чайной ложкой море не вычерпаешь, сынок. — Отец легонько подтолкнул меня в плечо. — Иди играй.
Знакомый слон начал вести со мной молчаливый поединок. Он подходил под наше окно и стоял, стоял, стоял, застывший, неряшливый, лишенный лица. Я старался не глядеть на него, терпел, и… слон выигрывал. Я выскакивал к нему с куском хлеба или холодной картофельной оладьей. Он получал дань и медлительно удалялся.
Однажды, выскочив к нему с хлебом и хвостом трески, выловленным из вчерашней похлебки, я вдруг обнаружил, что под нашим забором на пыльной траве валяется еще один слон, укрытый извоженной, когда-то черной железнодорожной шинелью. Он лишь приподнял навстречу мне нечесаную, в колтунах и болячках голову, прохрипел:
— Ма-а-льчик! По-ми-раю!..
И я увидел, что это правда, отдал ему кусок вареной трески.
На следующее утро под нашим забором лежали еще три шкилетника. Я попадал уже в полную осаду, я теперь не мог уже ничего вынести, чтобы откупиться. Пятерых не подкормишь от своих обедов и завтраков, да и запасов у матери на всех недостанет.
Брат бегал смотреть на гостей, возвращался возбужденно-радостный:
— Еще один шкилетник к Володьке приполз!
Мать ругалась:
— Лежку устроили, словно мы всех богаче. Прикормили паразитов, ироды!
Как всегда, она ругала сразу двоих, хотя брат был не виновен ни сном ни духом. Мать ругалась, но выйти и отогнать голодных куркулей не решалась. Молча проходил мимо голодного лежбища и мой отец. Мне он не сказал в упрек ни единого слова.
Мать приказала:
— Вот кувшин — за квасом в столовку сбегай. И быстро мне!
Делать нечего, я принял из ее рук стеклянный кувшин.
Сквозь калитку на волю я проскочил беспрепятственно, не вялым слонам и не еле ползающим шкилетиикам перехватить меня.
Я долго толкался в столовке-чайной, покупал квас. Квас был настоящий, хлебный — никак не витаминный морс, — потому продавался не каждому, кто захочет, а только по спискам. Но торчи не торчи, а возвращаться надо.
Они меня ждали. Все лежачие сейчас торжественно стояли на ногах. Каскады заплат, медь кожи сквозь прорехи, зловещие оскалы заискивающих улыбок, знойные глаза, безглазые физиономии, тянущиеся ко мне руки, тощие, как птичьи лапы, круглые, как мячи, и надтреснутые, шершавые голоса:
— Хлопчик, хлебца…
— По крошечке…
— Помираю, ма-а-альчик. Перед смертью куснуть…
— Хошь, руку свою съем? Хошь? Хошь?..
Я стоял перед ними и прижимал к груди холодный кувшин с мутным квасом.
— Хле-ебца-а…
— Корочку…
— Хошь, руку свою?..
И вдруг со стороны, энергично тряся пером на шляпке, налетела Отрыжка:
— Молодой человек! Молю! На коленях молю!
Она действительно упала передо мной на колени, заламывая не только руки, но и спину и голову, подмигивая куда-то вверх, в синее небо, господу богу.
И это была уже лишка. У меня потемнело в глазах. Из меня рыдающим галопом вырвался чужой, дикий голос:
— Ухо-ди-те! Уходи-те!! Сволочи! Гады! Кровопийцы!! Уходите!
Отрыжка деловито поднялась, стряхнула мусор с юбки. Остальные, разом потухнув, опустив руки, начали поворачиваться ко мне спинами, расползаться без спешки, вяло.
А я не мог остановиться, кричал рыдающе:
— Уходи-те!!
С инструментом на плечах подошли работяги — бородатый, степенный отец с конопатым, очень серьезным сыном, который был старше меня только на два года. Сын небрежно двинул подбородком в сторону разбредавшихся куркулей:
— Шакалы.
Отец важно кивнул в знак согласия, и они оба с откровенным презрением посмотрели на меня, встрепанного, заплаканного, нежно прижимающего к груди кувшин с квасом. Я для них был не жертва, которой нужно сочувствовать, а один из участников шакальей игры.
Они прошли. Отец нес на прямом плече пилу, и та гнулась под солнцем широким полотнищем, выплескивала беззвучные молнии, шаг — и вспышка, шаг и вспышка.
Наверное, моя истерика была воспринята доходягами как полное излечение от мальчишеской жалости. Никто уже больше не выстаивал возле нашей калитки.
Я излечился?.. Пожалуй. Теперь бы я не вынес куска хлеба слону, стой тот перед моим окном хоть до самой зимы.
Мать ахала и охала — ничего не ем, худею, синячищи под глазами… Она трижды на день устраивала мне пытку:
— Опять уставился в тарелку? Опять не угодила? Ешь! Ешь! На молоке сварена, масла положила, посмей только отвернуться!
Из муки, хранившейся к праздникам, она пекла мне пироги с капустой и рубленым яйцом. Я очень любил эти пироги. Я их ел. Ел и страдал.
Теперь я всегда просыпался перед рассветом, никогда не пропускал стука телеги, которую гнал конюх Абрам к привокзальному скверику.
Гремела утренняя телега…
Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня…
Гремела телега — знамение времени! Телега, спешившая собрать трупы врагов революционного отечества.
Я слушал ее и сознавал: я дурной, неисправимый мальчишка, ничего не могу с собой поделать — жалею своих врагов!
Как-то вечером мы сидели с отцом дома на крылечке.
У отца в последнее время было какое-то темное лицо, красные веки, чем-то он напоминал мне начальника станции, гулявшего вдоль вокзального сквера в красной шапке.
Неожиданно внизу, под крыльцом, словно из-под земли выросла собака. У нее были пустынно-тусклые, какие-то непромыто желтые глаза и ненормально взлохмаченная на боках, на спине, серыми клоками шерсть. Она минуту-другую пристально глядела на нас своим пустующим взором и исчезла столь же мгновенно, как и появилась.
— Что это у неё шерсть так растет? — спросил я.
Отец помолчал, нехотя пояснил:
— Выпадает… От голода. Хозяин ее сам, наверное, с голодухи плешивеет.
И меня словно обдало банным паром. Я, кажется, нашел самое, самое несчастное существо в поселке. Слонов и шкилетников нет-нет да кто-то и пожалеет, пусть даже тайком, стыдясь, про себя, нет-нет да и найдется дурачок вроде меня, который сунет им хлебца. А собака… Даже отец сейчас пожалел не собаку, а ее неизвестного хозяина — «с голодухи плешивеет». Сдохнет собака, и не найдется даже Абрама, который бы ее прибрал.
На следующий день я с утра сидел на крыльце с карманами, набитыми кусками хлеба. Сидел и терпеливо ждал — не появится ли та самая…
Она появилась, как и вчера, внезапно, бесшумно, уставилась на меня пустыми, немытыми глазами. Я пошевелился, чтоб вынуть хлеб, и она шарахнулась… Но краем глаза успела увидеть вынутый хлеб, застыла, уставилась издалека на мои руки — пусто, без выражения.
— Иди… Да иди же. Не бойся.
Она смотрела и не шевелилась, готовая в любую секунду исчезнуть. Она не верила ни ласковому голосу, ни заискивающим улыбкам, ни хлебу в руке. Сколько я ни упрашивал — не подошла, но и не исчезла.
После получасовой борьбы я наконец бросил хлеб. Не сводя с меня пустых, не пускающих в себя глаз, она боком, боком приблизилась к куску. Прыжок — и… ни куска, ни собаки.
На следующее утро — новая встреча, с теми же пустынными переглядками, с той же несгибаемой недоверчивостью к ласке в голосе, к доброжелательно протянутому хлебу. Кусок был схвачен только тогда, когда был брошен на землю. Второго куска я ей подарить уже не мог.
То же самое и на третье утро, и на четвертое… Мы не пропускали ни одного дня, чтоб не встретиться, но ближе друг другу не стали. Я так и не смог приучить ее брать хлеб из моих рук. Я ни разу не видел в ее желтых, пустых, неглубоких глазах какого-либо выражения — даже собачьего страха, не говоря уже о собачьей умильности и дружеской расположенности.
Похоже, я и тут столкнулся с жертвой времени. Я знал, что некоторые ссыльные питались собаками, подманивали, убивали, разделывали. Наверное, и моя знакомая попадала к ним в руки. Убить ее они не смогли, зато убили в ней навсегда доверчивость к человеку. А мне, похоже, она особенно не доверяла. Воспитанная голодной улицей, могла ли она вообразить себе такого дурака, который готов дать корм просто так, ничего не требуя взамен… даже благодарности.
Да, даже благодарности. Это своего рода плата, а мне вполне было достаточно того, что я кого-то кормлю, поддерживаю чью-то жизнь, значит, и сам имею право есть и жить.
Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть.
Не скажу, чтоб моей совести так уж нравилась эта подозрительная пища. Моя совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно для жизни.
В тот месяц застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось ходить в красной шапке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя.
Произведения
Критика