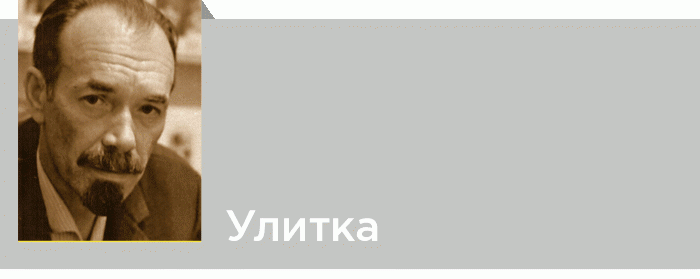Неисчерпаемо, невосполнимо
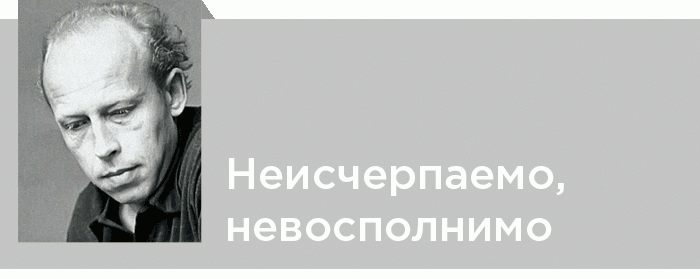
Кардин В.
Когда сегодняшний день становится вчерашним, меняются его краски, иначе звучат доносящиеся сквозь гул десятилетий слова, по-другому воспринимаются многие факторы. Дни войны, уже отступившей в историю, сейчас высвечиваются по-новому.
В 1944 году Илья Эренбург на вопрос американца, что думают русские о будущем, ответил: «Нам некогда — мы воюем». И впрямь, солдату, броском приближающемуся к вражескому доту, некогда углубляться в раздумья. То, что на армейском языке именуется ближайшей задачей, задачей дня, требовало от фронтовиков нечеловеческого напряжения, предельной сосредоточенности.
Литература, особенно в первые послевоенные годы, готовно следовала за такой именно фронтовой жизнью: поле боя, марш, бесхитростный земляночный быт, деловые командирские совещания... Не только в том, разумеется, причина короткого века многих тогда написанных и восторженно оцененных критикой книг. Принимая их за конечную, исчерпывающую правду войны, критика спешила закрыть тему, отечески призывала, например, молодых поэтов, донашивавших шинели, перестроиться соответственно с перестройкой экономики, корила, что «не могли оторваться от окопных представлений... словно продолжали окопную жизнь, в то время как…».
Литература не могла не жить окопной жизнью, остававшейся неизбывно реальной, следовательно, не спешившей обнажить свои глубины. К ним-то и предстояло пробиваться, уходя от описательства, от недавнего «нам некогда — мы воюем». Да, И. Эренбург сказал тогда правду. Но солдат, бросавшийся под пулеметные очереди, думал, надеялся обмануть смерть и верил в долгие достойные годы, щедро оплаченные кровью. В это верили народы...
Книга о войне удерживается на плаву обычно в том случае, когда в ней, не тесня и не упрощая войну, присутствует грядущее, в которое верил боец, когда автор озабочен и проблемами, о которых не всегда успевал подумать солдат, но уже сталкивался с ними, соприкасался. «Меня интересует не сама война, но нравственный мир человека, возможности его духа», — признается Василь Быков.
Вчерашние лейтенанты, начавшие писать лет через десять после отгремевших залпов, проявили такой интерес раньше, осознаннее, чем старшее писательское поколение.
Константин Симонов не отступал от фронтовой темы, сохранял верность ей до последнего дня. Владимир Тендряков незадолго до смерти обратился к своему солдатскому прошлому. Повесть К. Симонова «Софья Леонидовна» и рассказ В. Тендрякова «День, вытеснивший жизнь» опубликованы посмертно. Их авторы, подобно многим ветеранам Отечественной войны, покинули жизнь в пору зрелости и унесли с собой уникальный опыт.
Литература о войне будет создаваться и после нас. Верится, она достигнет большего совершенства. Но то, что принесено людьми с войны, никто другой никогда уже не принесет...
Если исключить войну, то в судьбах К. Симонова и В. Тендрякова, как и в природе их дарований, мало общего. Но войну не исключишь. В ней К. Симонов обрел себя. В. Тендряков — это подтверждено посмертно опубликованным «Днем, вытеснившим жизнь» — жил с чувством неистребимости фронтового прошлого. В отличие от сверстников В. Тендряков не спешил рассказать о фронте, хотя знал его лучше многих (более двух лет солдатом, сержантом; в самой гуще, в Сталинграде, под Харьковом). Его писательская биография не похожа не только на симоновскую, но и на биографии большинства однокашников послевоенного Литинститута — создателей «лейтенантской» прозы. Он одержимо устремлялся «за бегущим днем» (название одного из его романов).
Но и К. Симонов, родившийся восемью годами раньше В. Тендрякова, тоже составлял некое исключение среди писателей-сверстников, продолжая работать над военной темой и в ту пору, когда новое поколение прозаиков принесло свое знание войны.
Читая роман «Живые и мертвые», примыкающие к нему повести «Пантелеев» и «Левашов», мы обычно чувствуем несочи- ненность того, что рассказано автором,— близость факта, запечатленного в слове и реально пережитого.
Повесть «Софья Леонидовна» составляла первоначально одну из сюжетных линий романа «Живые и мертвые» и, как писал Л. Лазарев, автор обстоятельного послесловия к публикации, вынута из романа в самый последний момент по соображениям локализации сферы действия, сгущения сюжета вокруг Синцова.
Рассказано здесь о подполье, то есть о том, к чему К. Симонов в жизни непосредственно не был причастен. Он угадывал сложности, подводные рифы, ожидающие его, чувствовал и драматизм положения некоторых подпольщиц. Скажем, Тони, вступившей в любовную связь с немецким офицером, что, как сказано в повести, было «на самый крайний случай» предусмотрено в работе осведомительницы.
Однако не Тоня, попавшая в мучительный переплет, не радистка Маша приковывают к себе внимание писателя. Повесть прежде всего о Софье Леонидовне, о внутренней несовместимости обыкновенного порядочного человека и обыкновенного фашизма. Эта несовместимость становится реальной силой в ожесточенной борьбе.
Какая-то часть читателей, привыкших к литературным стереотипам, утвердившимся вскоре после войны, может ждать от Софьи Леонидовны антипатриотического поведения: из бывших, дворянка, семья пострадала от советской власти.
Прилипко, в гораздо меньшей степени бывший, не колеблясь принимает сторону немцев, его племянник Шурик торопливо делает карьеру полицая. Полное соответствие Прилипко и Шурика анкетному стереотипу (был ущемлен, а с приходом немцев предал) не слишком обогащает наше понимание психологии предательства. Придет время, В. Быков и А. Адамович займутся художническим исследованием зловещего явления — измены, и все окажется куда как не просто.
К. Симонов скорее намечает проблему, нежели углубляется в нее. Жертвует одним ради выигрыша в другом. Но выигрыша не ценой эффектного поворота — вопреки. Софья Леонидовна движима органической порядочностью, душевной чистоплотностью — качествами, которые К. Симонов связывает с истинной интеллигентностью.
Интеллигентность Софьи Леонидовны еще и в брезгливости, в отвращении к хамству, вульгарности, нуворишскому размаху, который охотно выдает себя за широту души. Потому ей отвратителен Шурик, его пошлая и ничтожная жизнь.
Война. До щепетильности ли тут? Достаточно факта: Шурик — полицай. Софье Леонидовне недостаточно. Она втолковывает Маше, что фашизм — не монопольное достояние немцев, Шурик тоже настоящий фашист и взошел он на соответствующих «нравственных» дрожжах.
Мы увидим, кстати, что и В. Тендряков не считает душевную вульгарность и фашизм явлениями разноплановыми. Не всякая, естественно, вульгарность ведет к фашизму, но в родстве они подчас состоят. Понадобилось время, чтобы писатели, обдумывая нравственную подоплеку военного единоборства, заметили и эту его сторону.
В ряде произведений о войне, написанных по горячим следам событий, интеллигент, особенно старой закваски, выглядел не слишком презентабельно. Хорошо, когда всего лишь неумеха, недотепа, а то, глядишь, и трусоват. Авторов настораживала сама независимость мышления и высказываний.
Сергей Волков из повести «Еще заметен след» в те годы вряд ли был возможен как персонаж положительный, и упорство, с каким Д. Гранин отстаивает репутацию своего героя, не лишено прямой, правда несколько запоздалой, полемичности.
К. Симонов менее склонен к полемике, но отнюдь не уступчив. Он акцентирует умственную и духовную самостоятельность Софьи Леонидовны, ее непохожесть на остальных. Непохожесть не порок и необязательно признак дурного индивидуализма.
«На революцию и на все происшедшее после нее в стране у Софьи Леонидовны были тоже свои собственные и вполне определенные взгляды... Поначалу довольно далекая от тех взглядов, которые устанавливались и торжествовали в стране, она постепенно пришла к согласию с ними и даже к увлечению ими со своего, особого бока».
Такие несколько обзорно переданные воззрения нам известны по романам и повестям о старых специалистах, с большими или меньшими колебаниями принявшими послеоктябрьскую действительность.
К. Симонова не столько занимают воззрения Софьи Леонидовны, сколько ее натура — неизменная и независимая при любых обстоятельствах, при крутой их перемене. Логично предположить, что если бы писатель вернулся к повести, намереваясь довести ее до кондиции, он прежде всего постарался бы ответить на вопросы, не отпускавшие его и после завершения романа «Живые и мертвые». Зимой 1960 года К. Симонов писал из Ташкента знакомому американскому литератору:
«Меня волнует вопрос: ради чего это было, что мы защищали с таким ожесточением и решимостью? А для того, чтобы ответить на этот вопрос прежде всего самому себе, очень полезно пожить вот так, как здесь, среди людей и дел, не имеющих прямого отношения к литературе, но имеющих самое прямое отношение к ответу на этот вопрос...»
Иначе говоря, ответ на вопрос «ради чего?» он искал в послевоенной жизни, сегодняшнем бытии ветеранов.
Там же искал ответы и Владимир Тендряков, писавший о нынешних днях, «забыв» о собственной фронтовой юности. Но, заканчивая шестой десяток, вернулся к ней, ничего ровным счетом не запамятовав, сопрягая былое с новым своим опытом — человеческим и художническим. Он неотступно работал над военным циклом, будто догадываясь, что дни его сочтены.
Ни о чем таком, конечно, В. Тендряков не догадывался. Человек трезвого мышления, он отвергал предчувствия и не думал, что рассказу «День, вытеснивший жизнь» суждено увидеть свет, когда его самого уже не станет. Нам, надеюсь, еще предстоит прочитать рассказы незавершенного цикла...
Три десятилетия В. Тендряков жил с подспудной памятью о войне.
Отношения здесь тонкие; полагаю, писатель потратил немало усилий на их выяснение. Ему надо понять, во имя чего, почему, насколько изменяется необстрелянный человек, приближаясь к Линии Фронта. Слова «Линия Фронта» В. Тендряков пишет с прописных букв, У него этот термин означает не просто передовую, а рубеж жизни. Жизни и смерти.
С жизнью покамест все ясно. В начале марша боец Сашка Глухарев ловок, самоуверен; нескладен, комичен вчерашний студент Чуликов; хозяйствен и молчалив мужичок-кулачок Ефим Михеев; неизменно пронырлив Нинкин.
А со смертью неясно. Даже со смертью врага. Несмотря на полную определенность и правомерность призыва: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!»
У сержанта Тенкова, уже потерявшего на войне отца, есть все основания для лютой ненависти к гитлеровцам. Ему бы ликовать, заметив лежавший в лебеде труп соломенно-рыжего парня в зеленом мундирчике. Однако в нем поднимается брезгливость... Остальные бойцы тоже почему-то не радуются, им не по себе: «Кто сказал, что труп врага сладко пахнет? Столь же отвратительно, как и любой другой труп». В. Тендряков оспаривает этот звучный афоризм. Его герои, едва вступив в жизнь, столкнулись со смертью. И представление о гибели вмещалось в песенную строку: «Если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой». К смерти они готовы еще меньше, чем к только что сделанному печальному открытию: танки «КВ», сотрясавшие брусчатку на парадах, горят, как спички.
Они увидели смерть, увидели рыжего немца в траве, услышали шелест снарядов над головой — и что-то переменилось. Переменилась повадка Сашки Глухарева: сдал голос. Зато Чуликов, смущенно сносивший грубоватые Сашкины шуточки, зашагал увереннее. Почувствовав близкое дуновение смерти, люди предстали в ином качестве, самоопределились. Молодые бойцы вступают в зону испытаний. Одно из них — неизвестность. Она станет постоянной спутницей этих ребят, идущих в сторону Ливии. В голове Тенкова проносится: «...бесплотный дух смерти. Вот только бы знать, коей или не моей?..»
В первый фронтовой день острее всего ощущалась неизвестность. Может, оттого он, и не тускнеет в памяти, хотя за первым днем обычно следовали испытания потяжелей, гибель друзей, госпитальные муки. В. Тендряков сам испил чашу до дна, демобилизовался с искалеченной рукой. Но, обратившись к окопной юности, он воссоздавал далекий день, соотнося его с более поздними днями, когда уточнялись, закреплялись строжайшие нормы фронтовой этики. Теперь нам ясно: вот откуда его ощущение неразрывности той военной поры и наставшей мирной жизни, вот откуда его нетерпимость и максимализм. В. Тендряков имел право вести отсчет с «дня, вытеснившего жизнь». Тогда зарождалось то, что утвердилось потом. Зарождалось почти у всех одинаково, утверждалось по-разному.
Тендряков созрел как художник к середине 50-х годов. И утвердился в своих основных творческих принципах. Его неожиданный фронтовой рассказ закономерно продолжает все созданное им прежде.
Спустя сорок с лишним лет В. Тендряков снова шагал к Линии Фронта, где каждый отметает в себе случайное и наносное. В том для писателя смысл «дня, вытеснявшего жизнь», проявившего подлинную сущность человека.
Постоянное стремление В. Тендрякова к контрастам, доходившее, бывало, и до лобовых противопоставлений, резко заявляет о себе и здесь. Все в рассказе контрастно, начиная от времени, которое делится на солнечное предвоенное и наступившее грозовое. И день сержанта Тенкова, его товарищей по взводу — череда альтернатив. Больших и малых, бросающихся в глаза и еле уловимых.
В. Тендряков, как и прежде, устремлен к тому неотвратимому моменту, когда на очереди шаг, обнажающий нутро человека. И бой для него — генеральная проверка нравственной сути бойца.
Вообще-то у каждого своя война. По-разному ощущался фронт и по мере удаления от передовой, в зависимости от длительности пребывания в зоне смерти. Для солдата стрелковой роты командный пункт полка — глубокий тыл. Офицер связи из штаба дивизии прибывает на КП полка как на передовую. Шансов схлопотать пулю или осколок и у офицера связи предостаточно. Но его фронтовое мироощущение в чем-то отлично от мироощущения такого же лейтенанта, поднимающего в атаку свой взвод. Девушка-снайпер видит немца иначе, чем девушка-переводчик. Танковый экипаж, запертый в раскаленной стальной коробке с узкой смотровой щелью, воспринимает бой не так, как расчет «сорокапятки», поставленной на прямую наводку. Связист, в одиночку тянущий провод, тоже воспринимает войну на свой лад. А разведчики, идущие в ночь за Линию? Или подпольщик, чья гибель окутана глухой тайной, которая иной раз не поддается отгадке? Угоди Тоня из «Софьи Леонидовны» в руки гестаповцев, кто потом узнает о ней правду?
Смерть, скажут, всюду смерть. Но связист, ползущий, чтобы устранить обрыв кабеля, встретит ее с глазу на глаз. Никто не расскажет о его гибели. Не зря говорили: на миру и смерть красна.
Странный каприз памяти: в первые послевоенные годы редко вспоминался фронт. Потом фронтовые картины, лица однополчан оживали все неотвратимее.
Рассказ «День, вытеснивший жизнь» можно, казалось бы, рассматривать и вне армейской биография В. Тендрякова. Только как факт биографии писательской. Но не отделяются друг от друга та биография и эта. В. Тендряков, допрашивая сержанта Тенкова, допрашивает и собственное прошлое. Он заново всматривается в лица товарищей по оружию. Воинские достоинства, выказанные в первые часы подхода к Линии, не потеряли своей ценности и сегодня, когда Линия отступила а историю.
Однако слабости и пороки не стали достоянием прошлого. Нравственное размежевание проходит и сейчас по тем же линиям, что и в те времена. Правда, раньше позволительно было всего только не жаловать Зычко за солдафонские придирки. Сейчас, на передовой, опасна его философия: «О себе требтуй... Шо був добреньким, забудь!» Как забыть? Проще пареной репы: все время береги себя, выискивай любую щель, выгадывай минуту, чтобы быть подальше от Линии.
Мудрость Зычко — обоснование подлости: кто-то вместо тебя должен идти в огонь. Это не только фронтовое, но и извечное: если не ты, то кто же?..
Примет Тенков мудрость Зычко, заночует с подводой в лесу — останется жив, а тяжело раненный Феоктистов умрет.
Недостаточно проявить смелость, выполняя приказ. Куда больше смелости требуется для самостоятельного решения. Тенков не заночует в лесу. Подвода заберет Феоктистова, Зычко напросится в сопровождающие — все-таки в тыл — и погибнет от шальной пули. Все вроде бы рассчитал, а войну не перехитрил. «Смелого нуля боится, смелого штык не берет» — это в стихах. Утверждение комиссара Корнева, героя раннего симоновского рассказа «Третий адъютант», будто храбрых убивает реже, чем трусов, похоже на благое пожелание. Впоследствии К. Симонов старался опровергнуть подобные афоризмы. По-моему, их перечеркивают короткие слова похоронки: «Пал смертью храбрых...»
Бесшабашный Нинкин убит раньше расчетливого Зычко. Никакого противопоставления в том нет. Рока тоже нет. Есть беспощадная неизбежность. Нужна великая отвага, чтобы одолеть, повернуть вспять гитлеровские дивизии. Нужно здравое понимание совершающегося. Оно помогает сделать то, что потом назовут чудом.
Чем дальше, тем выше ставит наша литература думающего бойца, офицера, генерала. Физическая смелость зависит от смелости душевной, умственной.
Сержант Тенков этого еще не сознает (писатель Тендряков сознает отлично), но с удивлением замечает, как день — лишь один день войны — породнил его с ребятами из взвода, сблизил с Чуликовым.
На марше Тенков поднял немецкую листовку. Она оскорбила его своей тупостью («Спеши спасти свою жизнь!»), вульгарной примитивностью, циничным черносотенством. Заманивая в плен, гитлеровцы давали понять, каким они видят советского бойца, русского человека. Ставка делалась на звериные начала, низменные инстинкты. Стиль листовок будет меняться. Но неизменно отношение фашизма к нам как к недочеловекам, подлежащим уничтожению. Уцелевшие обрекались на темноту, одичание; тут-то среди всего прочего сгодится и сомнительный афоризм, отвергнутый сержантом Тенковым: труп врага хорошо пахнет.
Брезгливое презрение Тенкова к гитлеровцам сходно с брезгливостью, какую вызывал у Софьи Леонидовны Шурик Прилипко. Фашизм самим фактом своего присутствия на земле оскорбителен для каждого, кто верит в совесть, разум, прогресс и сражается за них.
Потомственный интеллигент Симонов и крестьянский внук, интеллигент в первом поколении Тендряков непредугадываемо совпали. Интеллигентность для них — прежде всего внутренняя культура, она не всегда зависит от количества прочитанных книг и образовательного ценза родителей, но всегда непримиримо враждебна фашизму. Отечественная война для обоих писателей — война глубоко антифашистская; их герои — антифашисты по убеждению, душевному складу. И это создает атмосферу нравственной бескомпромиссности, царящую в двух столь разных произведениях. Здесь беспощадно обличается гитлеризм. Мещании до мозга костей, Гитлер знал, на каких струнах надо играть, чтобы вызвать массовый психоз, развратить души. Не знал только, что струны быстро лопну».
Повесть и рассказ — это, наверно, так немного рядом с полками, уставленными книгами о войне. Но сколько говорят они все о той же неизбывно длящейся войне.
Мы в чем-то по-новому увидели Симонова и открыли нового Тендрякова, получив печальную возможность строить предположения, как бы Симонов дорабатывал «Софью Леонидовну», что бы еще написал Тендряков, какие горизонты открывались перед ними. Остро почувствовали невосполнимость утраты. Увидели истоки мужества, необходимого на войне и за письменным столом.
«Человеческое мужество, очевидно, всегда предполагает привкус горечи, потому что мужественному человеку всегда не удается довершить всего того, что он хотел. Все, что они хотели, совершали в жизни совсем другие люди, но они ведь хотели не того или хотели очень малого». Это в письме Симонова из больницы. Продолжение одного нашего разговора... Приведенные строки характеризуют самого Симонова. Не в меньшей степени и Тендрякова. Людей, успевших на своем веку многое совершить, изведать, но умерших ранее срока, оставив на столе белеющую страницу.
Л-ра: Новый мир. – 1985. – № 9. – С. 262-266.
Произведения
Критика