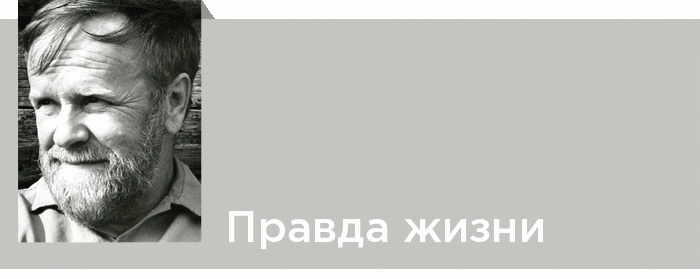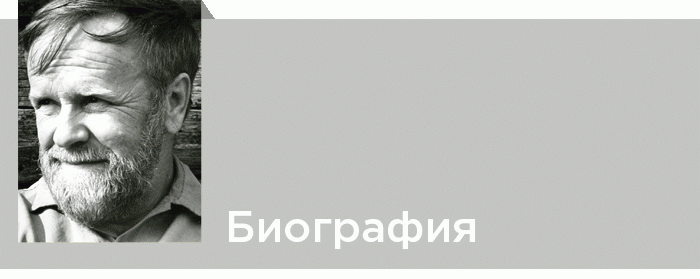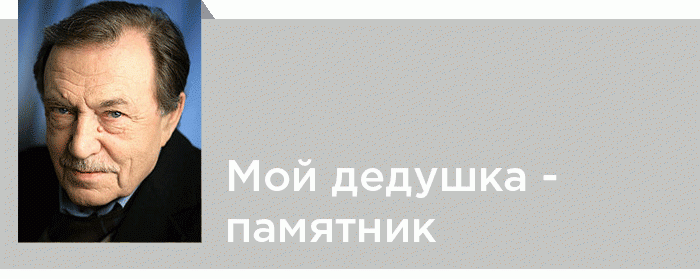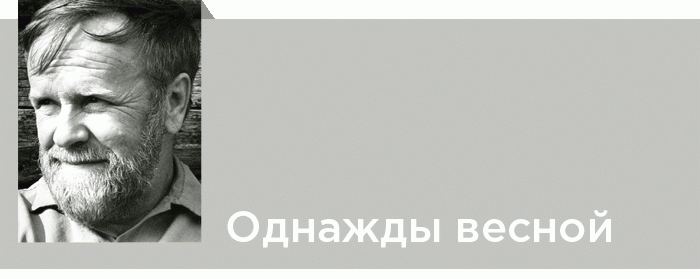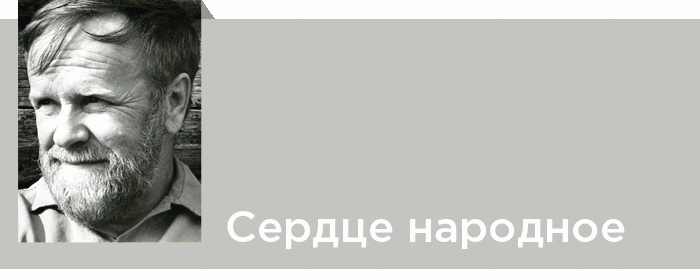На тихой Вологодчине
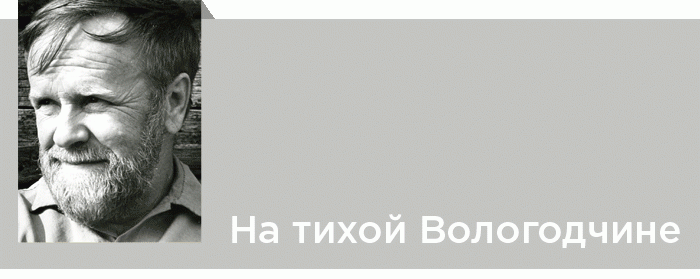
Закрывая книгу Василия Белова, уносишь с собой впечатление, что посетил вместе с добрым и умным спутником его тихую родину. Он душою слит с ее скромной, неяркой прелестью, и потому мир, встающий со страниц его книги, цельный, абсолютно достоверный. У вас ни на минуту не возникает сомнения в том, что вы побывали не где-нибудь, а в вологодской деревне, в гостях у деревенского жителя. Только человеку, сызмала знакомому с крестьянским трудом, весна, пробуждение деревьев от зимнего сна могут напомнить процесс тканья — привычного сельского промысла: «На березах еле слышно оживают размякшие ветки, от лопающихся почек они тоже меняются, делают свой уток и основу». Все, что происходит на земле, в природе, увидено глазами деревенского человека, хозяина, работника, обжившего окружающий мир, приложившего к нему руки и потому приросшего к нему душой. Он способен увидеть в природных явлениях нечто соотносимое с предметами своего хозяйственного обихода, орудиями, плодами трудов, одеждой, даже пищей: «густое, как сусло, вешнее тепло», «неуловимые сети ранних сумерек», «огненные лучины молний», «густого замесу надменная туча», «белое молоко тумана», «гром уже не урчал, а трещал, словно кто-то невидимый по швам распарывал громадную небесную шубу», «под снежными холстами сузились и стали меньше окрестности деревеньки».
В таком же тесном, нерасторжимом союзе живет герой Белова с домашним зверьем, ощущая его как бы заодно с собой. Ему ничего не стоит сравнить себя с животным: «Весь остаток дня я ходил злой, словно оставленный в деревне козел, когда все стадо до самой последней старой козы на пастбище, а он, этот козел, один на один с пустой и жаркой деревенькой». Сравнение, конечно, шуточное, но не случайно сорвавшееся с уст, потому что зверь в художественном мире Белова — большая персона, если и не равновеликая человеку, то сопоставимая с ним. Потому лай обыкновенных деревенских собак выглядит как событие, каждый участник которого колоритен, значителен и индивидуален: «Вдруг Авениров пес, который сидел на дороге и жмурился, спокойно и мощно облаял меня... его сиплого и жуткого «вув-вув!» было достаточно, чтобы сразу во всех домах и поветях, из-под всех крылечек и рундуков сказалась добрая дюжина самых разнокалиберных голосов. Они заливались вдохновенно и отовсюду, некоторые с искренним пафосом. Другие лаяли из чувства подражания, а третьи — сами не зная зачем, вероятно просто от скуки жизни». Это из «Плотницких рассказов», в которых сильна юмористическая струя. В рассказе «Кони» — освещение иное. Большая часть его посвящена описанию коней обыкновенного маленького колхозного стада, каждый из которых наделен своей индивидуальностью, обликом, характером, непростым внутренним миром, биографией. Уничтожить их нельзя, не нанеся урон самому человеку, связанному с этим живым, многоликим, немало потрудившимся для него миром животных. Поэтому, когда в конце рассказа коней за ненадобностью убивают, это выглядит не только как колоссальная катастрофа в жизни главного героя — пастуха Лабути, но и как сигнал о бедствии в более широких масштабах, о возможном торжестве всего грубого, недоброго, что заключено в антиподе Лабути — шофере Сереге.
Ради «меньшего брата» достойно и погибнуть, как погиб главный герой повести «Деревня Бердяйка», спасая во время пожара колхозного быка Мазурика. Бесконечная нежность и доброта доярки Катерины из «Привычного дела» к своим подопечным делает ее образ особенно поэтичным. Это как бы воплощенное материнство, силой своей любви освящающее все живое; телята напоминают ей ее детишек: «телятишки, как ребятишки, ревели, трубили...» А собственные дети словно бы в родстве с «братьями нашими меньшими»: «беленькой мышкой приткнулась Катюшка, Мишка совсем еще воробышек...» Она и погибает от непосильной для нее тяги к тому, чтобы одарить теплом своего сердца всех нуждающихся в этом. У заменившей ее другой матери столь же щедрое сердце, такая же способность самоотвержения во имя всего живущего: «вся деревня говорила, что дело это верное и что никого нет лучше Нюшки заменить Катерининым ребятишкам родную мать, да и коровам прежнюю обряжуху». Перечисление в одном ряду осиротевших ребятишек и осиротевших коров не может покоробить читателя так же, как и то, что один из самых драматических моментов в биографии героев подан через описание жизни их коровы, их Рогули, в главе, так и называющейся: «Рогулина жизнь». Животное — это опора существования деревенского человека, связывающее его с землей, со всем окружающим, призывающее его к добру, к воспитанию в себе гуманного и поэтического начала.
Чисто крестьянский взгляд у героев Белова и на орудия своего труда, на все те вещи, которые неотъемлемой частью входят в их быт. Для них это почти живые существа, как бы друзья, с собственным обличьем, способностью вступать в сложные контакты со своим хозяином-человеком. Таким одушевленным, разумным товарищем и спутником всей его жизни является для плотника Сметаны из повести «Деревня Бердяйка» его топор. Потому так естественно выглядят в описании этого топора слова, обозначающие части живого организма: «Топор у Сметаны горбоносый, с длинной пятой. Широкие тонкие «щеки» на одной линии с носком и пятой лезвия, топорище с брюшком».
Все вещи и даже само жилье как бы сочувствуют человеку в его горестях и радостях, как это было у Ивана Африкановича, главного героя «Привычного дела». Заболела у него жена Катерина, и в «доме сразу как нетоплено стало», возвращается она из больницы, поправившись от первого приступа, и все вокруг празднует вместе с ним; утро для него светло, его приветствует даже колхозная колотушка, возвещающая о начале работы: «Колотушка — старый плужный отвал, висевший тут же у бревен — радостно загудел от ударов железкой, словно ждал этого всю ночь».
Мир деревенских вещей сросся с человеком, стал его продолжением, поэтому о нелюбимой женщине здесь вполне можно сказать, что «она засыпала на его руке тотчас же, бездушная как нетопленная печь», о ребенке, плачущем из-за отсутствия матери, что его «губы складывались горькой подковкой», о мужчине, напуганном болезнью любимой жены, — «самого будто стреножили, белый свет стал низким и нешироким, ходишь как в тесной, худым мужиком срубленной бане».
Одушевляя и наделяя все вокруг свойствами своей натуры, человек у Белова обогащается сам, учится извлекать поэзию из самых обыденных явлений. Каким, например, чудесным может показаться пение обыкновенного самовара, если слушать его неравнодушно: «На столе таинственно и музыкально — тоненько поет самовар. Чего только не слышится в этом напеве! Присядь на лавку за стол, прислушайся, и твою душу ознобит на секунду холодный посвист январской вьюги, потом самовар тоненько прозвенит свадебным колокольчиком, потом затихнет и вдруг точно запоет песню неведомого бабьего хора, не спетую еще песню и самую первую песню, которую ни за что не запомнить, так она хороша и так неуловима в этих сумерках». Это гимн поэтическому чувству деревенского человека, его творческой способности, которая глубоко интересует Белова как писателя.
Попадая в сферу его внимания, все непосредственно крестьянское, бытовое, каждодневное преображается, начинает источать волны поэзии: «А вот осень выдохнула за ночь прозрачные клубы сиренево-желтоватых осинок», «Где-то далеко-далеко чуялись бравурно-печальные возгласы изнемогающей в полете журавлиной стаи».
Границы художественного мира Белова отмечены двумя полюсами: на одном господствует стихия крестьянско-мужицкая, и тут в выражениях не стесняются: «Мороз ярился, как стоялый откормленный овсом жеребец», на другом — прямо противоположном — рафинированно-интеллигентская, изъясняются иначе: «под этот звон подступает к изголовью усталая ласка сна». Сочетание этих двух контрастирующих элементов, их взаимопроникновение и взаимодействие составляют своеобразие художнического мироощущения Белова. На современной литературной карте он занимает срединное положение между такими писателями, как Ф. Абрамов, продолжающий традиции деревенских бытописателей с их знанием крестьянского уклада и любовью к крепкому, соленому слову, и Ю. Казаков, мастер нежной, лирической, тонко психологической миниатюры, ведущий свою родословную от И. Бунина, И. Тургенева.
У Белова есть произведения, в которых одна из этих тенденций берет верх. Таков, например, рассказ «Дама с горностаем» — маленький психологический этюд о несостоявшейся любви, о сложных преображениях человеческой души, написанный в манере позднего И. Бунина. И изысканность его производит впечатление чрезмерной. Подлинные открытия ждут Белова там, где он строго бережет свою кровную связь с Вологодчиной, осознавая все ее значение для себя с позиции интеллигентного человека, прошедшего искус мировой культурой. Это делает позицию Белова созвучной тем настроениям современной интеллигенции, которые заставляют ее эстетизировать все исконно русское, мужицкое, самобытное, искать предметы крестьянского быта, тот же самовар, например, на полках художественных, сувенирных и антикварных магазинов. От нередкого в таких случаях эстетства и погони за модой Белова удерживает глубина и серьезность его привязанности к родному дому, которая позволяет ему за всеми вещами видеть человека, их создавшего, его заботы, тревоги, духовные потребности. Писатель четка ориентирует нас на психологию деревенского человека, для которого красота и польза тесно взаимосвязаны. Для него прекрасно все, что целесообразно, в чем есть житейская необходимость, что служит ему на совесть. И, наоборот, целесообразно то, что прекрасно, — как, например, полезна, живительна и прямо спасительна для Ивана Африкановича, героя повести «Привычное дело», заблудившегося в лесу, красота той осины, которую он искал для своей хозяйственной надобности и которая не только послужила ему ориентиром, но и как бы придала ему, вконец измученному, силу для борьбы за жизнь.
Поэтическое чувство деревенского человека питается из иных, чем у горожан, источников — прежде всего из непосредственной близости к природе, определяющей неторопливый, несуетливый ритм его существования. В этом отношении особенно показательны начало и концовка повести «Деревня Бердяйка», своеобразное идейнофилософское обрамление рассказа о событиях в одной вполне земной деревеньке. Начинается повесть с описания ночного пейзажа, исполненного так, что читатель при желании мог бы воспринять его как типичное, общее для многих таких ночей состояние природы: «Ночью над рекой Каменкой, в ивовых кустах и поросших лютиком паводках скрипят и скрипят коростели. Поднимается над поймой туман, заволакивая матово-сизой испариной осоковые омуты и щучьи заводи. С поля по усталой, нагретой за день земле наплывают полночные холодки, а в деревне неутомимо трынкает гармонь. Плясали около сельповской лавки». Измените форму и число первого начального слова — «не ночью», а «по ночам» — и в пейзаже ничто не изменится. Таким часто могли его видеть не только отцы и деды героев повести, но й самые дальние их предки. Но замена не пройдет незаметно: не каждую ночь, наверное, играли на гармони и плясали именно у сельповской лавки. Растяжимость настоящего времени, когда речь идет о природе, неуловимо сменяется очень конкретным, сиюминутным, настоящим временем деревенских событий. А в следующем предложении о пляске у сельповской лавки автор свободно и легко меняет настоящее время на прошедшее, тоже очень конкретное, и дальнейшее повествование поведет уже в этом временном ключе. Вся эта тонкая игра должна создать у читателя впечатление согласованности жизни человека и природы, голос гармони органически вписывается в ночные звуки, служит как бы их естественным продолжением. Природа со своей вечной красотой благосклонно приемлет в себя музыку человека, наделяя одновременно своей неповторимой прелестью обычную колхозную вечеринку.
С еще большей силой это прозвучит в конце повести: прошли перед нами вполне конкретные, земные жизненные судьбы, разных героев с их печалями и радостями, погиб, спасая во время пожара колхозное стадо, главный герой Саша Петряев, его жена Анютка, познав и радость любви, и боль потери, остается на пороге материнства. Первый знак его приближения приурочен автором к весеннему воскрешению природы: «Как-то на заре у покосины родилась и расцвела знойная песня косачиной любви, а с нею и пошло. Приободрились березки, потемнели остожья... Как раз; в эту пору, вытаскивая однажды чугун из печи, и почуяла Анютка еле заметный толчок где-то внутри». Это совпадение делает рождение будущего ребенка почти символическим, знаменующим собой непрерывность, жизни и неиссякаемость любви и красоты несмотря ни на что.
Ритмы и циклы жизни природы и человека не могут, конечно, полностью совпадать, но они влияют друг на друга, замедляя ход событий, позволяя деревенскому человеку видеть то, что проскальзывает перед глазами горожанина в быстро бегущем потоке лиц, происшествий. Само время предстает перед ним во вполне осязаемом, доступном органам чувств облике. «Шум реки для меня как шум времени. Он напоминает мне о моих предках»; «Пролетело над Бердяйкой много птичьих стай и хмурых осенних облаков. Прошло несколько месяцев. Зима прикатила вьюжная, но не холодная». Смена времен года, наступление зимы, неустанный ход времени ассоциируются в последнем случае с движением птиц и облаков, которое можно наблюдать из окна избы. Эта неспешность ритмов существования придает особую зоркость взгляду и слуху человека, которую Белов нередко декларирует в своих произведениях.
«Привычное дело», глава «На бревнах», возвращение Катерины, ненадолго поправившейся, из больницы — самый светлый эпизод в жизни главного героя Ивана Африкановича. Повествование об этом радостном событии обрамлено описанием двух чудесных летних ясных солнечных восходов: один — накануне дня возвращения Катерины; другой — после него. Каждый из них воплощает наступление гармонического прекрасного мига, своей повторностью знаменуя внутреннюю закономерность его. Описания эти перекликаются между собой своими временными характеристиками. Вот первое: «Белая ночь ушла вместе с голубыми сумерками, багряная заря подпалила треть горизонта, и вся деревня замерла, будто готовясь к пробуждению. В это самое время за палисадом мелькнуло девичье платье... И тотчас же из-за леса выпросталось громадное солнце... На бревна, где только что сидели парень и девушка, слетела щекастенькая синичка». И ночь не могла уйти, и громадное солнце, конечно, не могло так быстро взлететь над лесом, как пробежала девушка с ночного свидания или порхнула синичка. Соотнося их движения, автор как бы фиксирует, останавливает самый миг начала утра, момент, когда встает солнце. Это же повторяется и в заключающем главу втором описании восхода: «Часа через полтора опять посветлело над лесом, опять голубоватые сумерки начали таять в неуспевшем охладиться воздухе, и снова на бревна слетела вчерашняя синичка... Птаха поскакала по бревнам, спорхнула на землю и поклевала оброненное девушками подсолнечное семечко. Какой-то листок в палисаде Ивана Африкановича чуть шелохнулся, словно бы просыпаясь, и заря опять широким полотнищем охватила лилово-золотой окоем, добела раскаляя синие бока вчерашних облаков, всю ночь недвижно дремавших на краю неба. Как раз в это время Мишка Петров воровски выскочил на дорогу из калитки Дашки Путанки». Здесь опять скоординированы бесконечно малые, мгновенные явления: шелохнулся листик, синичка клюнула семечко — с широким всеохватным пожаром зари. Показана чудесная гармония природы, где великое и малое не заслоняют друг друга, не мешают друг другу, где ничто не пропадает зря. И разворачивается вся эта благодать как будто ради Ивана Африкановича, чтобы сделать его праздник особенно прекрасным и памятным. Пейзажные зарисовки нужны здесь Белову отнюдь не как декорация, фон для действия. И задача для него заключалась не только в том, чтобы показать, как природа сочувствует человеку. Этот художественный ход давно уже известен в литературе и ничего оригинального теперь в себе не несет. Вся суть в том, что в природе сейчас повторяется то же, что и в жизни Ивана Африкановича. Ее течение, дотоле и после того изобиловавшее тревогами из-за большой семьи, колхозных неурядиц, болезни, а затем и смерти выбившейся из сил жены Катерины, здесь делает остановку. Но этот миг так прекрасен, так наполнен счастьем, дарит ему ощущение такой полноты существования, которое перевешивает все. Он один стоит всей жизни таких людей, как непутевый Мишка Петров с его похождениями, нелепой женитьбой на бестолковой Дашке Путанке. Потому так естественна вписывается в эту главу символика самого широкого масштаба.
В главе выделяются два равнозначных эпизода — один, связанный с возвращением Катерины, другой — с вечерней беседой деревенских мужиков на бревнах у дома Ивана Африкановича. Принимает в ней участие и сам успокоенный и счастливый Иван Африканович, рассказывая о своей военной службе. Один из присутствующих вспоминает анекдот о том, как три главы союзных государств, воюющих против Гитлера, придумывают кару для него после победы. Последнее и самое острое слово остается за часовым-солдатом, стоявшим на страже, которому глава нашего государства поручает эту задачу: «Не ты ли, Иван Африканович, стоял тогда на посту?» — спрашивают слушатели. «Нет, я был тогда в госпитале», — вполне серьезно отвечает Иван Африканович, не отрицая самой возможности быть тем солдатом, устами которого могла говорить вся Россия, победившая силами именно таких мужиков. Маленькая в масштабе всей страны, личная, интимная радость героя так же легко сопрягается с его высокой исторической миссией, как колебание листика в его палисаднике с восходом громадного вечного солнца.
Для деревенского человека, по Белову, нет в природе ничего мелкого, незначительного, не заслуживающего внимания. Ежедневно он учится наблюдать необъятность бытия, трепет жизни в каждом самом маленьком существе, и это придает силы ему самому. Вот, например, эпизод «воскрешения из мертвых» деда Николая в «Деревне Бердяйке». Совсем было занемогший, почти умирающий дед выздоравливает не с помощью лекарств, а потому, что его снова потянуло к самому любимому для него крестьянскому занятию — к косьбе. И это оказалось целительным, его как будто позвали еще пожить голоса окружающего, описанные в этом эпизоде с большой тонкостью и очень многозначительно: мушиное гудение, звон капель из рукомойника, постукивание часов-ходиков. «На улице у самых окон с дзиканьем метнулись и пронеслись два стрижа; над крышей, где-то в теплой небесной глубине, накатился и смолк громовой гул реактивных самолетов». И все это оказалось решающим для деда в момент, когда ему так страстно захотелось на луг, к косарям, что он воочию увидел и услышал все, что там происходит: «Дед явственно услышал и крики баб на лугу, и звон наставляемых кос, и тонкий комариный писк».
Понимание значительности всего сущего от самого малого до самого великого и есть то, на чем сходятся интеллигент и колхозник, хотя тот и другой чувствуют это по-своему. Дед Николай, конечно, не мог бы так выразиться о комарах, как говорит сам автор в рассказе «Клавдия»: «комары вызванивали свои спокойно-щемящие симфонии». Каждая из сторон приходит к пониманию жизни разными путями — один от постоянного общения с природой через разумный, благородный труд у земли, другой — от книг, от напряженных размышлений и поисков смысла бытия. Встречаясь, два эти мироощущения помогают друг другу, одно подводит под все прочную жизненную основу, другое открывает в этом же глубины философского содержания.
Особенно это сказывается в лучшей повести В. Белова «Привычное дело». Как мы уже говорили, в ней есть глава, посвященная «жизнеописанию» коровы Рогули. Для Ивана Африкановича она заслуживает такого «жизнеописания», потому что она важная персона, кормилица его детей и опора его жизни, ради нее, запасая ей корму, надорвалась Катерина. Окруженная любовью и почитанием своих хозяев, Рогуля почти как равный член семьи. Для автора же жизнь обыкновенной буренки тоже полна смысла и значения, но иначе, по другой причине, потому что это живое существо, со своими ощущениями, своим, если так можно выразиться, внутренним миром: «ей плохо помнились те редкие случаи, когда нарушалась ее вневременная необъятная созерцательность», «сквозь дрему накатывались к ней видения прошедших весен, лет, осеней и зим, но она туг же забывала эти видения». Для осиротевшей по смерти Катерины семьи Ивана Африкановича необходимость зарезать Рогулю — величайшая трагедия, для автора это тоже трагедия, но в более широком плане. Не случайно он вводит в повествование рассказ, как на Рогулю однажды напала медведица. Важно и то, что автор сочувствует медведице: она сама голодна, она — мать, и ее ждут тоже голодные медвежата и, когда ей не удалось убить Рогулю, она в отчаянии, плача, спасается от пастуха. Смысл всего этого в том, что без драмы не обходится ни жизнь человека, ни жизнь природы, на которую автор при всей своей любви к ней отнюдь не склонен смотреть сквозь розовые очки. Ведь та же осинка, которая своей красотой придала заблудившемуся Ивану Африкановичу новые силы, явилась ему после того, как он намаялся в лесу, наслушался его пугающих ночных шумов, звучавших как безбрежный, величественный, угрюмый прибой океана. Для Ивана Африкановича, после похорон Катерины заболевшего душой, потерявшего волю к жизни, испытание страхом смерти — жестокая, но необходимая операция. У него впервые возникают мысли о том, для чего же живет человек: «И вдруг Иван Африканович удивился, сел прямо на мох. Его как-то поразила простая, никогда не приходившая в голову мысль: вот, родился для чего-то он, Иван Африканович, а ведь до этого-то его тоже не было... И лес был, и мох, а его не было, так не все ли равно, ежели и опять не будет? ...Ну, а другие-то, живые-то люди?.. Ведь они-то будут, они-то останутся? ..Выходит, жись-то все равно не остановится и пойдет как раньше, пусть без него, без Ивана Африкановича. Выходит все-таки, что лучше было родиться, чем не родиться... Нет, надо идти. Идти, выбраться...» За какие-то считанные секунды в голове у героя вспыхивает и практически решается вопрос, над которым человечество бьется веками и который для автора есть предмет сложных, постоянных размышлений. У героя нет ни возможности, ни навыков для специальных сугубо философских умствований, но зато, возникая в нем на какой-то миг и под давлением тяжких обстоятельств, эта проблема принимает ясную в своей житейской мудрости форму самого непосредственного призыва к действию.
Оставаясь самим собой, не отказываясь от своей не менее нужной интеллектуальной миссии, автор берет уроки, которые преподает ему народ. «Весенняя ночь» — небольшой, очень изящный рассказ, безгеройный, бессюжетный, лирический пейзажный этюд — описание времен года, природы родной Вологодчины. В основе — философское раздумье о постоянных круговоротах природы, о бесконечности жизни. При этом интеллектуальное начало самым естественным образом смыкается с тем, что идет от народной сказки, включая в себя образы фольклора: «Еще не стихло зеленое, разнузданное пиршество лета, а нити грибных дождей уже напрасно сшивают самобранную июльскую скатерть», «Первый трескучий гром чисто и смело прокатился над миром. Будто раскатилась каменка нездешней, какой-то сказочно богатырской бани».
Учиться у народа его верному, величественному в своей простоте здравому смыслу автору тем легче, что он осознает себя его прямым наследником, выходцем из Вологодчины, связанным с нею самыми непосредственными родственными узами. Образ блудного сына, которого ностальгия гонит к родному деревенскому пепелищу из странствий по чужим землям, городам, дорогам от благ цивилизации, неслучайно то и дело возникает в прозе Белова. Он может принимать разные лики: автобиографический, как в «Бобришном угоре», и отчужденный от автора, как в «Плотницких рассказах». Он может лишь на миг мелькнуть среди других образов, а может стоять в центре произведения, как в повести «За тремя волоками», где сюжетную основу составляет возвращение героя на родину, поиски им родной деревеньки Каравайки. Его ожидало немало печального, потому что его Каравайка уже давно не существует, ее постигла участь многих маленьких заброшенных деревенек, но много и радостного, потому что в пути он встретил некогда любимую женщину, воскресившую в нем воспоминания о юности и первой любви.
Сложные противоречивые последствия имеют эти встречи и для другой — деревенской стороны. «Деревня Бердяйка», эпизод с Геннадием Лукиновым, некогда уехавшим в школу ФЗО и возвращающимся, чтобы похоронить отца и увезти лучшую невесту. Занимает он всего лишь одну главку из 11, но роль его в общей структуре повести исключительно велика.
В повести несколько сюжетных линий, связанных с разными героями: председателем колхоза Сергеем Ивановичем и дедом Николаем, каждый из которых возвращается к жизни, пройдя через сильнейшие испытания, один — болезнью, другой — колхозными неурядицами. У жителей деревни свои, не всегда добрые взаимоотношения, но в момент, когда Геннадий Лукинов после похорон отца внезапно для всех увозит Валю Новожилову с собой в город, деревня Бердяйка осознает себя единым целым. Обида нанесена не только Саше Петряеву, у которого отбили невесту, а всей Бердяйке. «Накануне Геннадий заколотил старыми досками окна отцовского дома, отчего весь посад сразу стал невеселым... Бердяйка, словно недоумевая, притихла. Машина с упрямым ворчанием укатила в синеватую прозрачность полей и перелесков, где бесшумным огнем полыхали обдутые ветрами березняки и осинники. Осень, словно веселый маляр, бродила по гулким лесным коридорам, по светлым сенцам полянок и пожней, небрежно махая своей безжалостной кистью». Увидеть в ландшафте нечто напоминающее избу, ее сенцы и коридоры, а в разрушительном движении осени — работу маляра, конечно, мог только тот, кто с детства приучил к крестьянскому свой глаз. Исконно деревенское, всосанное с молоком матери отшлифовано рукой интеллигентного мастера, приобретшего привычку к усложненному, отвлеченному мышлению и тонкому, сугубо индивидуальному чувствованию. Это придает образу родной избы, которую оставил Геннадий, исключительную емкость и подвижность. Отчий дом как бы гонится вслед за своим хозяином, не желая отпускать его так легко, без боли. Разлука тяжела и самому хозяину, женившемуся на здешней уроженке, чтобы сохранить с родиной связь.
Приняв на себя часть того удара, который был направлен лично против Саши, Бердяйка самортизировала силу этого удара, общим сочувствием помогая своему любимцу изжить обиду. Общность интересов деревни и ее сына, незримая поддержка, которую она ему оказывает, подчеркнута в следующей сцене — сцене веселой деревенской встречи праздника 7-го ноября, которую Бердяйка всегда отмечала сообща. В ней вновь повторяется образ дома, как бы раздвигающего свои пределы: «Несколько разноцветных бабьих голосов тут же незаметно приладилось к Натальиному, и песня словно раздвинула желтые стены Татьяниной избы. И снова широкая, как осенняя зарница, мелодия торжественно нарастала в избе». Гостеприимно, вместительно и незлопамятно деревенское жилье, врачуя одних и прощая другим, объединяя своей поэтичностью разных и многих. Отнять у него эту поэтичность и красоту — значит отнять душу, погубить, потому что оно является одной из опор всей жизни деревни. Эта мысль подтверждается рассказом о смерти отца Геннадия Лукинова — плотника Ильи Степановича. Смерть его и ускорена-то тем, что хозяйка последнего дома, который он поставил, отказалась от каких бы то ни было украшений.
Белов отнюдь не считает, что все в этом отношении обстоит благополучно, присоединяется к таким писателям, как В. Тендряков или В. Солоухин, неоднократно высказывавшим тревогу о затухании в деревне подлинно оригинального народного творчества. Как показывает В. Белов, это печально, но не безысходно, так как сами духовные поэтические возможности народа не исчерпаны. Писатель видит доказательства этого в том, как его герои воспринимают окружающий мир, природу, животных, вещи, одушевляя и поэтизируя все, с чем имеют дело. История жизни скромнейшего, но умеющего страстно любить и глубоко чувствовать Ивана Африкановича есть подтверждение того, что можно быть поэтом в душе, не занимаясь поэзией профессионально.
Народное поэтическое мировоззрение, с его ясностью, простотой, силой, позволяющей поэтизировать все целесообразное, что у мещанина превратилось бы в практицизм, делячество, — и высокая духовность интеллигента, с ее тонкостью и изощренностью, склонностью к абстрактному мышлению, умением соотносить жизненные явления с накопленными человечеством культурными ценностями. Мысль о равенстве этих двух начал, пропитывающая собою весь художественый строй прозы Белова, не исключает возможности видеть их глубокую разницу. Наоборот, именно потому они так и нужны друг другу, что различны.
Глубокий, коренящийся в самых основах мировосприятия Белова демократизм сказывается и в его трактовке «тяги в народ», той волны обратного движения к природе, к предкам, к деревне, которым охвачены сейчас многие завзятые горожане. У Белова это отнюдь не привилегия неких духовных аристократов, пресыщенных городской культурой интеллигентов. Среди «блудных сыновей» в его прозе самые разнообразные персонажи — майор, инженер, мастер-строитель. О социальном положении некоторых, как в рассказе «Поющие камни», и вообще ничего не сказано. Родина всех идущих к ней с добром встречает одинаково, всем дарит чудесные, глубоко поэтические миги встречи с прошлым, с юностью, с тем, что в каждом есть лучшего.
Л-ра: Север. – 1978. – № 6. – С. 112-118.
Произведения
Критика