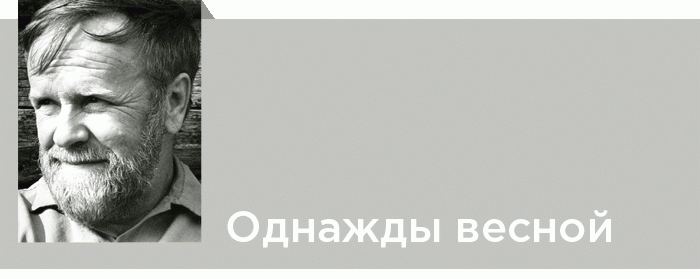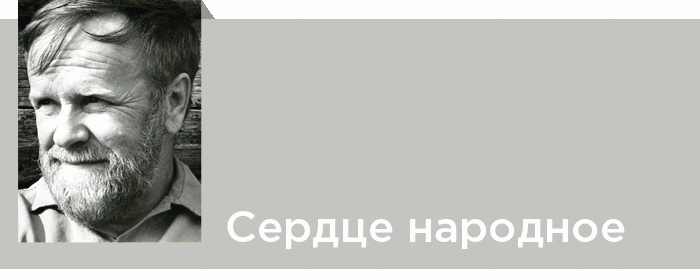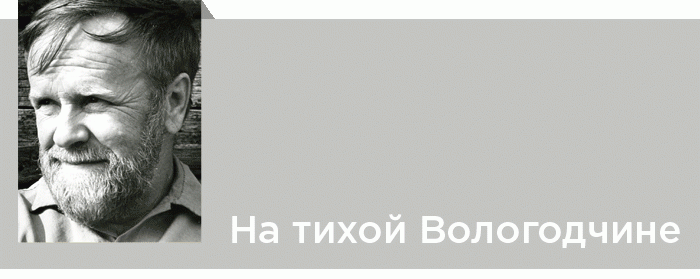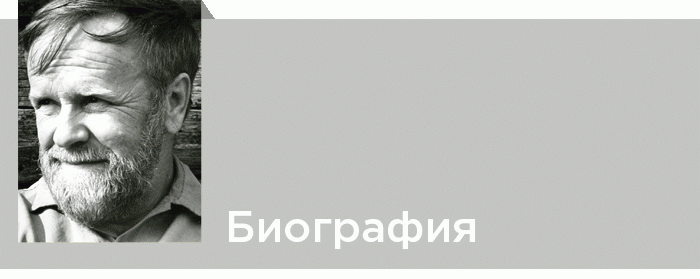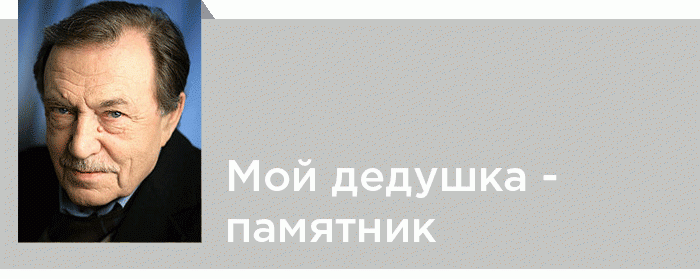Правда жизни – правда искусства (Размышления о прозе Василия Белова)
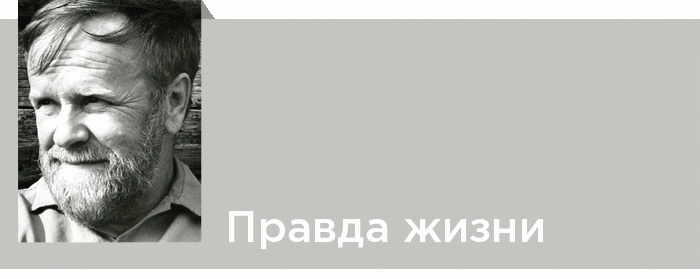
Анатолий Знаменский
В 1966 году появилась повесть Василия Белова «Привычное дело», которая сделала тогда молодого еще автора широко известным писателем, подавшим своего рода заявку на место в нашей отечественной классике. Несмотря на то, что за плечами автора были уже такие безусловно талантливые произведения, как «Деревня Бердяйка» и в особенности «За тремя волоками», эта новая повесть — из прошлого одной семьи — стала этапной и в творческой биографии русского писателя В. Белова, и в так называемой «деревенской прозе» 60-70-х годов вообще. После нее уже невозможно стало писать о деревне послевоенной поры «по-старому», так, как писали до Белова.
Известно, что вслед за появлением крупного, эпохального произведения на ту или иную тему (историческую, социально-нравственную), тема эта как бы «закрывается» в литературе — вовсе или хотя бы временно. Так, например, после «Войны и мира» Л. Н. Толстого в России почти перестали писать об Отечественной войне 1812 года; после «Тихого Дона» М.А. Шолохова фактически «закрылась» тема казачества и гражданской войны 1918-21 гг., не считая ее областных, мало что проясняющих модуляций из-за Урал-реки, Даурии, Забайкалья. Точно так же и тема послевоенной деревни в ее этнографически-нравственном аспекте получила в повести В. Белова свое почти исчерпывающее решение.
Жизнеописание семьи бывшего фронтовика, а ныне колхозника Ивана Дрынова с его незабываемыми откровениями («У меня рука кому хошь копоти нагонит!..», но — при этом — «Все мы, Парменушко, под сельпом ходим...»), да и весь жизненный колорит и удел затерянной в болотном бездорожье деревушки (которую условно следовало бы назвать Африкановкой — по имени родителя) воспроизведены на высочайшем художественном уровне, по образцам русской классики. Но это пристальное, добросовестное и в высшей степени заинтересованное исследование деревенского уклада, сиюминутное фотографирование жизни — даже при очень чувствительной и многоцветной пленке — как выяснилось дальше, не совсем, видимо, удовлетворило автора, повлекло его вглубь, к истокам.
Литература проистекает из необходимости осмысления жизни, желания понимать не только ее лицо, но и внутренние закономерности ее, и тайные пружины. Недаром Леонид Максимович Леонов сказал как-то, что «писатель — есть следователь по особо важным делам человечества»... Попытка же проникнуть в глубь жизни и ее проблем косвенно, скажем, через рассказы и побывальщины бабушки Евстолии («В большой-то деревне, в болотном краю жили невеселые мужики, одно слово — пошехонцы...»), была, по-видимому, далеко недостаточной для того, чтобы высветить до конца истоки и первопричины того «растительного» до некоторой степени бытия, которое с такой исключительной силой воспроизвел автор. Потребовалось обратиться к свидетельствам других старожилов этих мест, стоящих на более высоком уровне понимания, а именно к ветеранам и «заслуженным людям», пребывающим ныне на покое, Авинеру Козонкову и Олеше Смолину, — и необходимые разъяснения были получены. Для этого писателю пришлось несколько изменить угол наблюдения и вместо нравственно-этнографического подхода избрать социально-нравственный и на этой основе создать еще одну замечательную повесть, повесть-исследование или диспут — «Плотницкие рассказы».
Художественное исследование жизни «Плотницких рассказах» вывело писателя на новый уровень, он сумел показать уже не только судьбу личности (семьи), но судьбу целой деревни, края, причем не только в ретроспекции (как было, с чего начиналось и во что выливается ныне), но и высветить некоторые предпосылки будущего, когда почти неминуемо возникнет проблема сселения и исчезновения подобных деревушек, которые как бы исчерпали себя в великих невзгодах военной поры и последующих преобразованиях. Эта повесть получила впоследствии такую же полную и заинтересованную прессу, как «Привычное дело». Объясняется это, на наш взгляд, не только полемической остротой ряда диалогов и положений в этой вещи с ее открытой для критики «сердцевиной», но и тем, по-видимому, что к прозе Василия Белова успели привыкнуть и, так сказать, притерпеться. Проза эта получила (точнее, завоевала!) право «на прописку», определились ее координаты — хотя и огромные, простирающиеся прямо к вершинам русской классики, но все же обозримые и понятные как специалистам, так и доброжелательному читателю. И потому бывшая невнятность критики, отмеченная в соприкосновении с «Привычным делом» и жизнью многострадального Ивана Африкановича, сменилась вполне активным и позитивным анализом нового шедевра Василия Белова.
Нет необходимости нынче перечислять все критические и литературоведческие работы о «Плотницких рассказах». Очень, к примеру, хороший, исчерпывающий анализ повести был дан в обзорной работе В.И. Протченко «Современная повесть о деревне (к проблеме народного характера)», помещенной в журнале «Русская литература» № 4 за 1970 год (издание Академии наук СССР, «Пушкинский Дом»). «Для новой прозы о деревне (С. Залыгин, Ф. Абрамов, В. Белов и др.), — писал критик, — характерна тенденция к отражению конкретно-социологических процессов, повышенный интерес к достоверно-фактической основе, стремление к убедительной несомненности воспроизведенных картин жизни. Большинство писателей... стремятся исходить не из готовых социологических посылок, а пытаются постичь достоверные истины в результате скрупулезного исследования объективных общественных явлений».
В статье получили обстоятельное освещение и «необыкновенная находчивость и прямо-таки дерзкая изобретательность Виньки Козонкова, всегда умеющего найти выход из неблагоприятного положения за счет ближних либо интересов дела», и трудолюбивая честность, выносливость (так же и в плане социальном) Олеши Смолина и всей его трудовой семьи. Подчеркивалось, что в повести с особой обнаженностью проходит мысль о несовместимости, непримиримости народно-созидательного начала и враждебных ему антиобщественных, деклассированно-разрушительных элементов...
«Только грани воспитании личности в духе неразрывности и соподчиненности ее интересов и устремлений с интересами и условиями жизни своего народа, — писал критик,— только при органическом совмещении личных забот и помыслов с заботами и судьбами народными возможно формирование полноценного нравственного облика человека». Другой важный вывод из повести критик видел в том, что «...неустанный труд, труд как жизнестроительство, обогащает и украшает самого человека, способствуя сохранению и приумножению из поколения в поколение не только трудовых навыков и секретов производственного мастерства, но и здоровой трудовой нравственности, мудрого понимания жизни и красоты окружающей природы».
Откровения Авинера Козонкова были столь глубокомысленны я по-своему общественно значительны, а простодушная и почти «святая» готовность Олеши Смолина «сосуществовать» и до семижды семи раз прощать (по библии) и даже петь в обнимку одну и ту же песню 20-х годов («Под частым разрывом гремучих гранат отряд коммунаров сражался...») настолько поразительна, что экскурс в прошлое этих людей и деревенского люда в целом следовало продолжить. Но уже не в личностном плане, а в «мирском», общественном. Во всяком случае, у художника снова возникла такая необходимость — для лучшего понимания дня нынешнего и даже времен грядущих. Тема автором расширялась и углублялась в дальнейшей работе.
Собственно говоря, писатель действовал в рамках определенной общественной потребности, о которой весьма доходчиво, аргументированно говорил на VI Всесоюзном съезде советских писателей другой крупный наш писатель Федор Абрамов. Знаток жизни и литературы вообще (а «деревенской темы» в особенности), он приглашал взглянуть на эту так называемую деревенскую тему «с высоты вавилонской башни» века и понять, какие поистине эпохальные процессы ныне происходят в деревне, какая кровная необходимость стоит ныне перед всей нашей литературой. Старая деревня с ее тысячелетней историей уходит в прошлое. Рушатся вековые устои, изменяется само «материнское лоно» России, и поэтому мы с обостренным вниманием вглядываемся в тот тип человека, который был создан деревней, в ту деревенскую Русь, где зарождался и складывался наш национальный характер; вглядываемся в наших матерей и отцов, дедов и бабок. Ведь на плечах этих безымянных тружеников и воинов стоит здание всей нашей сегодняшней жизни!
«Да, темные и малограмотные, да, наивные и чересчур доверчивые, да, порой граждански невоспитанные, но какие душевные россыпи, какой душевный свет! Бесконечная самоотверженность, обостренная русская совесть я чувство долга, способность к самоограничению и состраданию, любовь к труду, к земле я всему живому...» — говорил Федор Абрамов (см. публикацию речи в журнале «Наш современник» № 9 за 1976 год), а в завершение делал очень важный вывод: «Нельзя заново возделать русское поле, не возделывая души человеческие, не мобилизуя всех духовных ресурсов народа».
Теперь в центре внимания Василия Белова стала эпоха «великого перелома», то есть общественных процессов конца 20-х и начала 30-х годов в русской северной деревне. Мы говорим о романе «Кануны», который можно без сомнения считать энциклопедией крестьянской жизни на рубеже эпохи, в канун коллективизации. Эта книга впитала в себя не только художественные достижения всей нашей литературы на данную тему, в том числе и такого выдающегося романа современности, как «Поднятая целина», но и громадный опыт народа в последующие годы, опыт и раздумья ветеранов, живых свидетелей эпохи. Мимо этого не мог пройти писатель.
Колорит художественной палитры Василия Белова в описаниях русской природы, деревенской «натуры», крестьянского быта, человеческих характеров позволяет не только представить и почувствовать эту жизнь вещественно — на вкус, цвет, запах и крепость «настоя», но и проникнуть заинтересованным сердцем в ту потаенную суть бытия, высший смысл этой традиционной жизни, который лежит в ее основе и который прямо отразится позже в названии новой книги Василия Белова «Лад». Мудрость вековая и равновесие целесообразности правят этой простой жизнью, которая вершится в некой задумчивой безмятежности (как бы!) — и в бревенчатом обиталище, и на хозяйственном подворье, и в поле (зимой и летом!), на покосе, рубке леса и непременном игрище под праздник. И недаром старик Никита Рогов, хранитель жизненных традиций, в вечерней молитве просит коленопреклоненно господа не только «дать ослабу душе и телу», но и... соблюсти их (крестьян) «от всякого мечтания и темныя сласти...»
Нет, не темные скопидомы и бесстрастные «куркули» живут в вологодской деревеньке Шибанихе, а труженики и мудрецы, знающие кровную необходимость и частного, индивидуального труда, и выгоду общинного пользования лугом и поскотиной, и несомненную пользу всякой добровольной кооперации — хоть вокруг машины, трактора и сепаратора, хоть в создании общественного семфонда, страховых отчислений, или при артельном сооружении мельницы, которая еще раз объединит их кровным делом и справедливой зависимостью общего житья на земле. Всякий труд, если он не лишен смысла, — радостен.
Уже не раз подчеркивалось в критике поразительное знание Василием Беловым предмета повествования, всей крестьянской жизни и сельского быта до мельчайших деталей. Взять ли описание мужицкого подворья в деревне Шибанихе — семьи Роговых, или вечерних посиделок с непременной домашней работой (дабы и в досуг попусту не гуляли руки!), или праздничного гулянья на святки, или же непрерывно меняющегося и тем в особенности благотворного для человека крестьянского труда — все дышит правдой, непредвзятостью, силой и красотой. А некоторые атрибуты и подробности бытия под пером писателя приобретают значение символа. Вот описание вековой сосны посреди снежной поляны близ деревни Шибанихи:
«...Саженях в ста от него зеленой горой высилась вековая сосна. Павел замер, словно боясь вспугнуть зеленое лесное видение, никогда не видел он такой великой сосны. Ветер обдул с дерева все до последней снежинки, каждая тяжелая лапа будто жила сама по себе, гордая своей отдельной красотой и независимая от других. Но как же едины, как дружны были эти широкие лапы на отдельных толстых оранжево-медных сучьях, спадающих от материнского в три обхвата ствола!»
В другом месте картина как бы дополняется, прописывается:
«...мерцали, золотились на солнышке червонно-коричневые мутовки сосен. Обволоченные нежным зеленцом хвои, сосны эти были недвижимы, но они жили сейчас полнее и шире других дерев, их безмолвие таило в себе какое-то скрытое благородство. Жила, созерцала, не мешая другим, наслаждалась солнцем и пила поднебесную синеву каждая пара иголочек, ясно видимая по отдельности. Но в то же время она, каждая пара игл, была частью, и все дружно облепляли тонкий сосновый пруток, и каждый пруток был на своем месте, в каждой сосновой лапке. В свою очередь, каждая сосновая лапа жила отдельно и вместе с другими; они, не враждуя друг с другом, переходили в более крупные ветки. Ветки незаметно перевоплощались в мощные бронзовые узлы, расчлененные по всей кроне и объединенные в ней, единой и неделимой.
В каждой сосне не было ничего лишнего, и они, дополняя друг дружку, каждая по-своему сберегали лесную семью...»
Как видим, это уже не просто спелый, сильный сосняк, но Русский Лес, который олицетворяет Страну и Народ.
Некоторые наши талантливые новеллисты, в особенности мастера «лирической прозы», как бы умышленно абстрагируются от «слишком прозаических» обстоятельств и терминов (вроде «актив», «госзаем», «собрание», «обязательство» и т. д.) и житейских, сугубо временных примет мира сего, погружая человека в раздумья и томления «вечного порядка» — жизнь и смерть, юность и старость, любовь и ревность и т. д. и т. п. В иных случаях такая избирательность и изысканность переходят в манерничанье и кокетство «умением». Прозе Василия Белова органически чужды какие-либо внешние «приемы» и изыски художественности. Писатель с таким масштабом дарования сам, даже не прибегая к трудам основоположников эстетики, знает и чувствует, что «прекрасное... — есть жизнь». И если взять, к примеру, начальную главу повести «Привычное дело», разговор подвыпившего Ивана Африкановича со своим заезженным и безотказным мерином Парменам, то налицо явно полемическое отношение автора к самой постановке вопроса о том, что в жизни «художественно», а что нет. Художественно то, что истинно. Под его пером повседневно-текущие подробности быта становятся в ряд с вечными проблемами и темами бытия — жизни и смерти, добра и зла.
Поэтизируется у Белова не только и не столько сельская природа, крестьянский быт и досуг, но и самый труд. Сколько прелести в этой простейшей (и нелегкой, окажем) работе — зимней вывозке сена с остожьев на усадьбу!
Интересно, что всякие опасения и сомнения в будущих делах и задумках (скажем, строить или не строить мельницу) решаются здесь же, в процессе труда, в осознании кровной необходимости, в общении с землей, инвентарем, инструментом и даже умным, все понимающим мерином Карьком. А когда тесть Иван Никитич остережет Павла словом сомнения насчет того, что он затевается с мельницей не совсем обдуманно, в «ненадежное время», молодой зять Павел бодро и находчиво усмехнется: «А когда время было надежное?..»
Устои и первородство сельской жизни освящены опытом веков. Тут ко всякого рода «переустройству» подходить надо бы с великой оглядкой. Волюнтаризм, вредный безусловно во всяком деле, здесь опасен вдвойне, ибо касается основной массы народа. Так же, как и в других краях России, мысли эти и заботы тревожат наиболее раздумчивых людей и здесь, в Шибанихе.
И тут старому большевику Лузину есть что сказать на сомнения изверившегося и усталого интеллигента Прозорова, на предвзятое смешение идеи с безыдейными отклонениями и завихрениями, доводящими всякую здравую мысль до абсурда. Он сам видит, как к здоровому и верному движению народной жизни по его, Лузина, партийной программе все сильнее и определеннее примазывается нечто чуждое и вредное, чего никто, собственно, не мог заранее и предположить...
Василию Белову, как народному писателю, есть что отстаивать. Не раз уже говорилось, и говорилось доказательно, что деревня — исторически — была в течение веков хранительницей нравственных норм и устоев всего русского народа. Ребенок, видевший, как бабушка кладет в возделанную ею грядку огуречное семечко, а с течением времени срывает с уплетня, пахнущего жизнью, зеленый, пупырчатый огурчик и здесь же, над грядкой, дает ему (даже немытым, а наскоро вытертым о фартук), — этот ребенок усваивает почти бессознательно (точнее — органически, без всякого усилия) главное: прямую взаимосвязь труда и — жизненного блага, работы на земле и — насущной пищи, узнает наслаждение жизнью. Здесь (по Сухомлинскому) начинается и завершается весь круг нравственного и этического воспитания. Отсюда начинается человек как индивид и как общественная единица, не в пример иному молодому горожанину, умеющему только заводить регочущий магнитофон либо сшибать палкой (по известному опыту академика Павлова) близлежащий плод — независимо от того, свой он или чужой, зрелый или зеленый...
Здесь именно, в рамках нового, городского, многоэтажного жизнеустройства, и возникает широкая тема для новой книги Василия Белова — «Воспитание по доктору Споку»...
Завершая разговор, хочется напомнить слова известного писателя Василя Быкова, сказанные в юбилей другого русского прозаика: «Литература для него отнюдь не цель, а лишь средство выражения истины, гораздо более высокой и значительной, чем его искусство и он сам...» Сказанное с полным правом можно отнести и к творческому импульсу писателя Василия Белова, с единственным лишь уточнением: столь высокое призвание и подвижническое отношение к избранному делу не может не порождать и высочайших образцов искусства.
Л-ра: Север. – 1981. – № 2. – С. 118-122.
Произведения
Критика