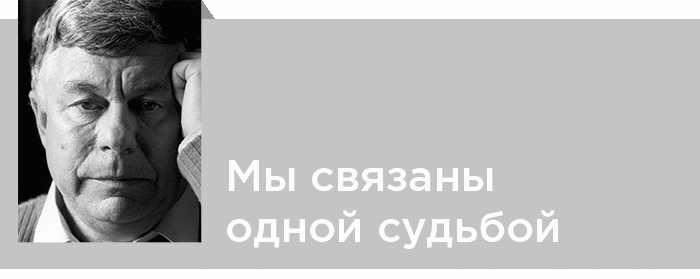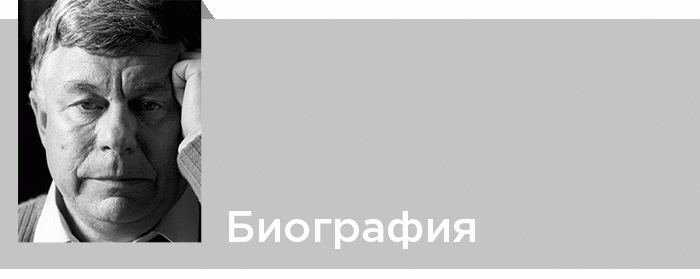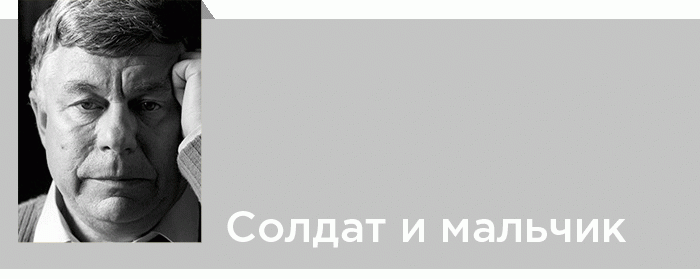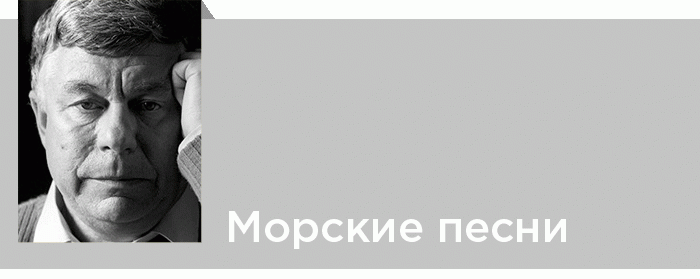Дома и люди
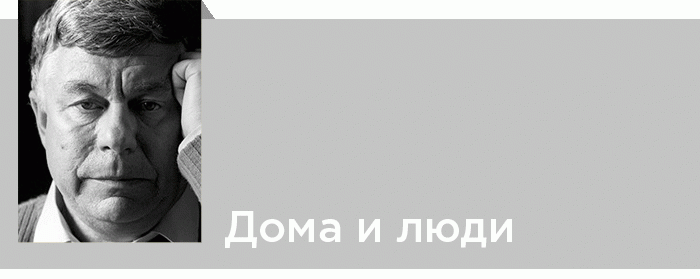
Л. Коробков
Совпадение, разумеется, случайное, но любопытное. В трех толстых литературных журналах появились два романа и повесть, в которых главный персонаж тем или иным образом становится владельцем загородного дома с приусадебным участком, причем это обстоятельство едва ли не в решающей степени способствует серьезным переменам в его, персонажа, душе. Отмечу — переменам к лучшему. Роман А. Приставкина «Городок», роман Г. Коновалова «Благодарение», повесть А. Черноусова «Второй дом».
Роман Г. Коновалова «Благодарение» написан в манере остроэкспрессивной, можно даже сказать — романтической, обычно не предполагающей читательской установки на полное жизнеподобие тех или иных сюжетных сцеплений, психологических мотивировок и т. п. Произведения же А, Приставкина и А, Черноусова бытописательские без оттенка негативности, какой этот термин получает иногда.
Тем более показательны переклички между всеми тремя произведениями в плане не столько фабульном, сколько в проблемно-тематическом. Так у А. Приставкина помотавшийся по стране инженер-строитель Шохов убеждается: «Человек без жилья пуст», «дом смягчает его, ...благодушным делает к ближнему». Имеет Шохов в виду не тот дом, что его возлюбленная Наташа (дом — «это книги и друзья. Ну, может, еще горячий душ в придачу»), а тот именно, что строит он в романе собственными руками.
Когда в родной деревне коноваловского Антона Истягина умер его дед, тот бросает свою фольклористику и, приняв наследство, переселяется в село, врастает, что называется, в местную жизнь, даже колхозным бригадиром становится. А главное — «Антон расширял дом, городил каменный волнобой у огорода и сада... Помаленьку интеллигентская хворь поутихла…».
Интеллигентская хворь — это когда человеку на протяжении всей его городской жизни «пахота, посев, уборка представлялись ...как недосягаемое счастье». Поэтика же романа Г. Коновалова такова, что были бы не по адресу вопросы вроде: да что ж ему мешало это самое «недосягаемое счастье» обрести раньше?
«Интеллигентская хворь» — диагноз подходящий и героям интересующих нас сейчас произведений А. Приставкина и А. Черноусова, иначе написанных, с массой реалистических, часто даже натуралистических подробностей.
У вузовского ученого (только на сей раз не гуманитария), — черноусовского Горчакова — тяжелейший невроз, в пору к психиатру... «Предельная усталость делала свое дело»; «нервы сдают, довел я себя»; «как в клетке живу. — Работа — квартира, квартира — работа. Тьфу!» И еще — неизбежный вой соседского магнитофона. И невозможность сосредоточиться за работой даже в домашнем кабинете: «Мешал шум транспорта за окном».
Все узнаваемо, экспозиция набросана словами, что называется, с краю лежащими (включая «шум транспорта», каковой после черноусовских «Чалдонов» видеть на страницах его прозы как-то даже странно). Объяснение же простое: автор именно набрасывал, торопился вслед за Горчаковым в симпатичную деревеньку по имени Игнахина заимка, Горчаков туда сбежал, чтобы хоть недельку полечить нервишки в загородном доме своего приятеля, заводского инженера Лаптева. Вот отсюда-то и идет у А. Черноусова не газетная скоропись, а художественная проза. Описания-перечисления становятся изображением, пластичным, выразительным. Как покупают на своз старый, но крепкий домик в неперспективной Лебедихе, как собирают его на новом месте, как ищут лен-долгунец конопатить стены, как выуживают из водохранилища украденный с баржи-лесовоза лес - для замены подгнивших венцов и как собирают для «второго дома» разное брошенное казенное добро...
Особенно живописно изображен сам процесс строительства, тут много всяких трогательно-старинных терминов, прямо-таки просящихся в Красную книгу языка. Забегая несколько вперед, отметим, что и в «Городке» А. Приставкина страницы с изображением строительства дома-насыпухи, а еще более — избной помочи, организованной самодеятельными застройщиками в окрестностях промышленного Нового города, также принадлежат к числу наиболее тщательно, любовно отделанных. Эти самые слова Шохов и его помощник тоже прямо-таки смакуют.
Итак, благотворных для душевного здоровья Горчакова и телесного — его дочки Анютки перемен после начала строительства второго дома на Игнахиной заимке долго ждать не пришлось. Намаявшись физически, Горчаков почти сразу же начал отлично спать ночами, Анютка на воздухе порозовела и перестала кашлять. Более того, даже на собственную жену Горчаков стал поглядывать с интересом, обнаружив, что она еще молода и миловидна.
Правда, усугубленная легкостью дачного костюма миловидность Риммы едва не омрачила Горчакову его новообретенной радости: жена, увидев на даче некоего Гастронома солярий, бильярд, цветной телевизор и прочее, приняла приглашение подозрительного нувориша покататься с ним на катере. Объяснение супругов по поводу умения и неумения жить к серьезной размолвке не привело. Зато прозаику этот семейный инцидент дает повод высказаться по самому широкому кругу проблем социально-демографических, нравственных, правовых и проч., возникающих вокруг любой новостройки на Игнахиной заимке. Дело в том, что она ни нормальное колхозное село, ибо коренных жителей осталось тут немного, ни нормальный дачный поселок.
И здесь кончается художеств венный текст, повесть вновь начинает походить на коллаж из газетных вырезок (имею в виду недавние дискуссии в периодике, прежде всего в «Литературной газете») по поводу самостийных дачных и иных поселенцев в деревнях. Пространные монологи, обнаруживающие завидное знакомство с газетными материалами, розданы повествователем персонажам. Запрещать или не запрещать? А может быть, передать землю под базы отдыха предприятий? Правда, известно: «дикий» поселенец кормится в основном с собственного огорода, законный там он или нет, а «законного» отдыхающего надо снабжать...
Большинство высказываемых в повести предложений и пожеланий вполне реалистичны, их осуществление не ущемило бы интересы государства. Но для меня, читателя, главным будет все же довод художественного свойства. Те самые порозовевшие Анюткины щечки! Господи, да их одних за глаза довольно, чтобы в письме куда следует ставить вопрос о пересмотре некоторых правил землепользования, если существующие, как на то имеется в повести указание, устарели (то есть мешают щечкам малышки розоветь и дальше).
Только прозаик, по-моему, числит этот и другие аналогичные найденные доводы «за» все же где-то во втором эшелоне. Персонажи повести А. Черноусова так много и умно говорят, что начинает казаться: для их автора важнее было слово не подслушанное у жизни, а прочитанное. И слово это было в газете. Само по себе это нормально — художник, как известно, берет свое там, где его находит. Но берет, чтобы и возвратить как свое, — переосмысленное художнически, претворенное в живой образ. И так убеждает. И я, «сомневающийся» (быть может, даже и правый: в каком-либо конкретном случае!), я, знающий все относящиеся к делу слова, слова, слова, проигрываю неминуемо живой и полноценный образ «существует — и ни в зуб ногой». Но если художник поторопился, на слове его остается тавро газетности. Я не увидел, а лишь в сотый раз услышал.
Действительно, я и не верю, когда мне не показывают, но бегло сообщают: стоило Горчакову подержать в руках топор и пилу, как он усомнился в безупречности своей научной идеи, положенной в основу предполагающейся докторской диссертации. Контекст не оставляет сомнений: в работе над докторской диссертацией вообще есть что-то сомнительное. Но и тут, не доверяя моей, читателя, способности его уловить, мне дают открытый текст, выдающий свое происхождение от давно отшумевших споров про физиков и лириков: мол, Горчаков, хотел он того или нет, но начал превращаться в функционера, в технаря-рационалиста, работающего и живущего «как машина»...
Разумеется, неофитов Игнахиной заимки преследуют и определенные соблазны. Поэтому и «горячится в мыслях» Парамон Хребтов: «Будь что будет, но надо привести сюда прокурора, И пойти прямо по усадьбам, и спросить иных застройщиков (иных! — Л. К.), откуда стройматериалы, какие есть на них документы?..»
За сомнительные операции по доставанию материалов для второго дома Горчаков и Лаптев вынесли себе — по благополучном завершении операций — внятный нравственный «приговор», то есть обменялись соответствующими репликами. Прокурор же в повести так и не появился, поэтому неясности остаются.
Забегая несколько вперед, скажем, что остаются они и в романе А. Приставкина, где проверка, о которой мечтает черноусовский Парамон, состоялась. И выяснилось: либо строили из бросовых материалов (Шохов так вообще многое на городской свалке добыл), либо документы в полном порядке. Но почему же все-таки, назван поселок «вор-городком»? Если в романе многие строят по принципу «дашь на дань», то не оформляются ли по такому же принципу «документы»?
Но, как бы то ни было, а показательно вот что: процесс нравственного перерождения в Горчакове одержал свою главную победу еще до того, как «технарь-рационалист» взял в руки плотницкий инструмент. На лаптевской даче случайно оказался томик Гончарова — роман «Обломов». Стал Горчаков читать и тут же отмел «школьное» осуждение Ильи Ильича. А увидел только добряка из добряков, чья жизнь у вдовы Пшеницыной вовсе не «омут мещанства и обывательщины», как учат в школе. Горчаковский комментарий к классическому роману («что-то мы, наверное, теряем в этой нашей повседневной гонке... на какие-то тонкости и нежности нас уже не хватает») однозначно указывает на свой источник. Это недавние попытки своеобразной реабилитации гончаровского героя, попытки, уже получившие оценку в печати. Поэтому к их существу можно не возвращаться. Заметим разве, что бьют они в повести «Второй дом» по тому ценному, что в ней есть. Аргументация «от овощной грядки» в этом смысле надежнее!
Если что-то в традиции нравственного осуждения — или, как минимум, какой-то подозрительности к владельцу «недвижимости» — устарело, то, памятуя о мощной инерции этой традиции (до сих пор ведь молодые семьи не рвутся к грядкам и хлевушкам, и ясно, что общественность должна быть и этим озабочена), разумнее не торопиться с азартными призывами. Да они и не дело художественной литературы. Ее забота не лобовая апологетика. Вот и получилось в повести «Второй дом», что поспешно понят некий Виталька, уступающий Горчакову землицу на началах отработки — классический старокулацкий принцип! Лобозая апологетика в принципе ничем не отличается от лобовой хулы. Ибо в том и другом случае нет заботы пишущего о настоящем понимании, о внимательном наблюдении, о правдивом свидетельстве: вот, мол, что на самом деле происходит...
Ясно одно: усердие на личной усадьбе само по себе еще никого ангелом не сделало. Чтобы не ворошить более давнее литературное прошлое, вспомним из совсем недавнего: повесть воронежца В. Попова «Частный сектор», толки вокруг повести Е. Гущина «По сходной цене», полемику вокруг рассказа Б. Екимова «Холюшино подворье».
И если я, в общем, соглашаюсь сегодня с еще несколько лет назад, кого угодно шокировавшей бы сентенцией Шохова из романа А. Приставкина: «Сознательность важна, «о она через собственное брюхо самый короткий путь к работе имеет», то прежде всего потому, что явлены мне не проповеди автора, «расписанные» по персонажам-рупорам, а живой ч е л о в е к. Способный в том числе и на выходки, вряд ли приятные автору. Вот гордо аттестует себя Шохов скопидомом; вот он что-то уж очень прочно на городской свалке прижился; вот он, на правах первопоселенца ставший своего рода лидером общины самостийных застройщиков, не брезгует принимать от них «прописку натурой». Но он же, прораб на строительстве городского водозабора, хозяйствует так же цепко и инициативно, рабочие от него не уходят. Иногда он, отломав на строительстве частного дома второй рабочий день, начинает вроде бы и сокрушаться над своей отдаленностью от людей Нового города. Он привязан к поселковым чудакам-бессребреникам, полной себе противоположности, — Петрухе и деду Макару...
Городок же возникает в романе А. Приставкина не дачный, он выстроен теми, кому пока не нашлось места в стандартных двенадцатиэтажках Нового города. Приток людей, разумеется, опередил проектировщиков. Шохов с самого начала уверен, что «крупная стройка без домиков не бывает». Да в том же втайне уверен и местный исполком, где, даже несмотря на официальный запрет «частного сектора», заготовлен стандартный договор на отвод участков.
Только все-таки новогорожане ошиблись: на место, в проекте отведенное под условное бананохранилище и теперь занятое городком, сажают какой-то промышленный гигант. И в финале романа Шохов свой совсем готовый дом, куда смогла, наконец, приехать к нему семья, самолично крушит бульдозером. Конечно, квартиру в двенадцатиэтажке перспективному прорабу дают, даже в должности повысили. И все-таки собирается Шохов уезжать. Не потому, что обижен, а просто все двенадцатиэтажки во всех Новых городах друг на друга похожи...
Собираются в дорогу и многие другие самозастройщики, а народ все семейный, степенный, хорошее ремесло в руках, таким как раз на стройке нового комбината цены б не было... Собственно, с первых страниц романа с тоской ждет и Шохов, два года ждет: вот сметет его утлое пристанище плановый объект! «Или земли здесь для домиков не хватает?» — недоумевают Шохов и другие обитатели городка. Кто влез в долги, кто ребенка ждет, а кто вообще уже корову купил... Куда им в общагу!..
Как видим, конфликтное противостояние заявлено круто: вот на эту-то симпатичную и разнообразную, хрупкую и цепкую жизнь двинуты бульдозеры. Причем речь идет не о переносе поселка, а о его полном искоренении. Надо добавить к этому, что много в романе А. Приставкина Любопытных психологических наблюдений, что своеобразна собранная в нем коллекция типажей, написанных порой весьма объемно. Все, одним словом, как будто есть, чтобы отнестись к «Городку» как к вещи художественно полнокровной, а в плане социально-проблемном имеющей все шансы на то, что и Госплан захочет «попотеть» над поставленными здесь вопросами.
И все же как раз последнее достаточно сомнительно. Не потому, что кому-то могут быть безразличны судьбы обитателей домиков. Странно то, что в романе эти обитатели в нужный момент куда-то бесследно испаряются — и никаких проблем!
Да не тут ли главный, настоящий конфликт, возникающий одновременно с развязкой наличного романа, ставшего в основном лишь исследованием индивидуального (и, положа руку на сердце, не весьма пока что типичного) характера «положительного скопидома» Шохова?
Совсем не худо, на мой взгляд, что «сокрытым двигателем» романного замысла стали идеи и факты, обсуждаемые в дискуссиях о закреплении кадров во вновь осваиваемых промышленно-экономических районах Сибири. Но, пожалуй, слишком прямым и непосредственным представил свое участие в этих спорах прозаик: быть одной из сторон спора (правой или нет — для нас сейчас неважно). Роман не статья и не проблемный очерк. У романа может быть в тех же «деловых» спорах своя миссия, куда более почетная, нежели состязание с газетой: в дискуссии он может участвовать на правах самой жизни.
Вот поэтому-то нельзя не пожалеть, что живет и действует Шохов в какой-то уж очень дистиллированной (а точнее сказать;— изрядно олитературенной) человеческой среде. Вроде тех же Петрухи и Макара: первый, к примеру, внешностью «почти что диснеевский гном» (так он глазами Шохова увиден!), он совершенно искренне не знает, зачем человеку деньги, он в свое время автомобиль сменял на жеребенка и т.д.; и т. п. Второй вообще свою московскую квартиру дочери-мещанке отдал, из вещей ценит только движущуюся модель Солнечной системы... Да и весь городок, как и. у А. Черноусова Игнахина заимка, населен почти исключительно людьми приятными во всех отношениях, бескорыстными и отзывчивыми. Здесь, в отличие от городе, нет «проблемы отчуждения». Коллективное мнение здесь действенно до такой степени, что даже загребала Васька Самохин мебельный гарнитур атакует с топором, — не хуже того приснопамятного розовского мальчика из пьесы «В поисках радости». Именно жители городка способны вести длительные и возвышенные философские разговоры; здесь вообще жизнь настоящая, не чета городу, которому, как говорит дядя Федя, живая совесть поселка, «только палец дай»…
Как ко всему этому относиться? Да конечно же, с пониманием добрых намерений автора, ибо далеко не секрет, что слова «домовладелец», «частник» и т. п. по сей день звучат едва ли не ругательством. Но не будем сейчас разбираться, что вообще душеспасительное — дом в личной собственности или квартира в государственной двенадцатиэтажке. Вопрос этот имеет столько же решений, сколько на свете людей.
Что же конкретно до рассмотренных выше произведений, то я не могу уразуметь, почему «понимать реку и землю» коноваловский Антон Истягин стал, лишь возымев дедов дом с усадьбой. Я не могу понять, почему «второй дом» Горчакова спасет от замучившей героя А. Черноусоза «гонки»: он просто не любит свою основную работу. Гонка по прямой «работа — квартира» будет гонкой по треугольному маршруту «работа — дача — квартира» (сколько героев «московской», к примеру, прозы уже осатанели от такой гонки!), и не более того.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1983. – № 12. – С. 42-45.
Произведения
Критика