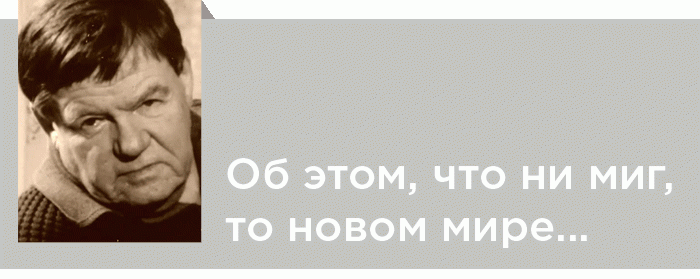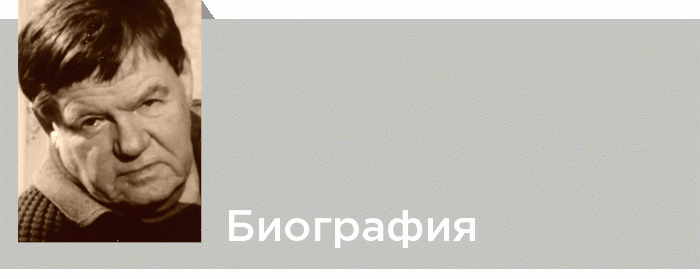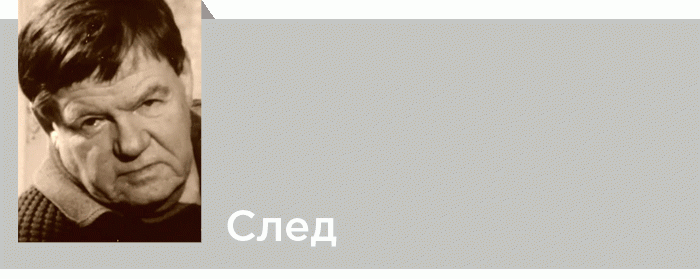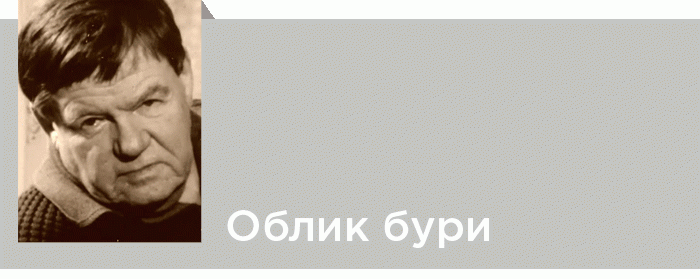«Открытый» символ (Некоторые особенности философской лирики Леонида Мартынова)

В.П. Смирнов
Идейно-тематический размах, разнообразие форм и жанров творчества Леонида Мартынова, оригинальность его художественной системы нашли широкое освещение в литературоведении. Исследователи и критики (В. Дементьев, И. Роднянская, А. Урбан, А. Македонов, Ал. Михайлов, И. Гринберг и др.) считают творчество поэта последних двух десятилетий явлением значительным для судеб русской философской лирики. Среди многих особенностей поэтического метода Леонида Мартынова постоянно отмечается как характернейший признак — своеобразное единство «философизма» и публицистичности, символики и «бытового ряда», «рационалистичности» и непосредственной эмоциональности.
Именно на этих аспектах философской лирики Л. Мартынова 50-60-х годов мы и остановимся.
Общие определения манеры Мартынова: философский рационализм, историзм, урбанизм и т. д. — требуют конкретного обозначения, которое может выступить только в плане определения структурных доминант, так как практически творчество каждого большого поэта необходимо несет подобные качества. Это нисколько не снимает значительности истолкования содержательного ряда поэзии Мартынова в различных исследованиях.
Много говорилось о знаково-символическом характере поэзии Мартынова, органическом единстве масштабной обобщенности и резкой аналитичности. Эти признаки, хотя и не исчерпывают поэтику Мартынова, но определяют ее в большой степени. Важное значение символики в поэзии Мартынова является следствием ее крайней обобщенности. Вместе с тем эта поэзия конкретна вплоть до бытовых реалий и сопутствующих им повествовательных форм. Не случайно И. Роднянская указывает на единство «силлогической формы, в которой подаются мысль, чувство», и «узко-публицистического контекста».
В стихах сочетается психологизм с властью универсалий, исходным пунктом повышенной научности, «гносеологичности». Рационализм в своей аналитической функции, когда покидает почву рефлексии, стремится, и это его закон, свести более сложные формы бытия к какому-то одному элементарному началу. Поэтика Мартынова очень «полюсна». При подобной полюсности неслыханно трудно сохранить диалектическое единство «самостоятельной жизненности чувств и рассуждений» (Гегель) поэта.
Одна из главных отличительных особенностей поэзии Мартынова — безусловно ее символико-знаковый характер. Большинство из писавших о поэте отмечают это. Двуплановость этой лирики — рационалистическое строение мысли и эмоционально наполненный подтекст («стихия переживания») — ведет к тому, что единство и жизненная целостность поэтического мира реализуются в своего рода символе.
Но символика Мартынова специфична, оригинальна и не имеет ничего общего со строением художественного образа в символистской эстетике.
К сожалению, несмотря на частое использование понятия «символ», его содержательное значение весьма туманно, в силу необычайной многозначности. Успешную попытку определить границы этого понятия предпринял А.Ф. Лосев. Он отметил неудовлетворительность в понимании и толковании категории «символ», многозначность употребления: то очень узкое, например у символистов (символ — мистическое отражение потустороннего мира в каждом отдельном предмете и существе), то слишком широкое, когда символ отождествляется со «знаком», «олицетворением», «аллегорией», «метафорой», «эмблемой». Исходя из методологии проблематика символа и иероглифа в «Материализме и эмпириокритицизме», А.Ф. Лосев определил доминирующие признаки символа, отграничил его от соседних понятий. Среди многих признаков символа следует выделить следующее: «символ вещи есть ее обобщение», но обобщение не абстрактное, не мертвое, а «такое, которое позволяет вернуться к обобщаемым вещам, внося в них смысловую закономерность». «Символ вещи есть ее знак, однако не мертвый и неподвижный, рождающий собою многочисленные и бесчисленные закономерные и единичные структуры, обозначенные им в общем виде, как отвлеченно данная идейная образность». Лосев указывает, что в диалектико-материалистическом понимании символ несет в себе перспективу перехода «от обобщенно-смысловой характеристики предмета к его отдельным конкретным единичностям», т. е. в символе реализован как закон обобщения единичного, так и «единичное как проявление общей сущности».
Возвращаясь к вопросу о значении символики в поэзии Мартынова, следует сказать именно о таком понимании символа. Так как поэзия Мартынова не просто картина мира, а конструктивное изображение этой картины, то символ-знак выступает у него не только как грань образа (конечно, отдельные образы могут носить символический характер в метафорическом или эмблематическом понимании), но как важнейший принцип поэтики.
Абсолютное большинство лирических стихотворений Мартынова 50-60-х годов имеет названия, т. е. им направленно задана тема. Причем эти названия могут носить как общепонятийный характер, так и конкретный («Волнение», «Творчество», «Чистота», «Красота», «Мечта», «Неуязвимость», «Поэзия»; и «Лисенок», «Вятичи», «Корова», «Истра», «Матрешка»). И практически в каждом стихотворении Мартынов пытается сплавить воедино обобщение и временную конкретность. Вопрос художественного уровня достижения цели уже другой. Важен именно устойчивый принцип.
Очень часто в первых строках стихотворений Мартынов сразу заявляет и формулирует какую-либо мысль: «дерзкую», «банальную», «гротескную», «научную», — которую начинает в рамках определенного сюжета «испытывать» в соотнесении с примером, событием или мыслями иной направленности.
Вот начальные строки нескольких стихотворений: «Поэзия отчаянно сложна...», «Что говорить! Конечно жизнь сложна...», «Я знаю, какова любовь...», «В мире этом, я знаю, нет счета сокровищам...», «Природа нам родная мать...» В этих случаях обобщение приобретает черты «здравого смысла». Вообще формул «здравого смысла» в поэзии Мартынова много, но функции их различны. Иногда они «снимаются» иронией, полемикой, интеллектуальным противоборством ила отбрасываются воображением, игрой фантазии. Но бывает и так, что борьба с формулой здравого смысла порождает не очень глубокие формулы такой же значимости. «Прописные истины» должны в поэзии преобразоваться в «уникальность». Если этого не происходит, то мы имеем дело со стихотворной информацией. Здравый смысл очень часто выступает как бытовой аспект символа, содержащего в себе реальную жизненную диалектику. Поэтому «воображение» в борьбе с такого рода здравым смыслом может проиграть.
Обратимся к стихотворению «Поэзия»:
Поэзия
Отчаянно сложна,
И с этим очень многие боролись,
Крича, что только почвенность нужна,
В виду имея только хлебный колос.
Но иногда, в словесном щебне роясь,
И там, где не восходит ни зерна,
Ее мы обнаруживаем, то есть
Она везде, и не ее вина,
Что, и в земле и в небе равно кроясь,
Как Эребус, венчая Южный полюс,
Поэзия не ребус, но вольна
Звучать с любого белого пятна,
Как длинная и средняя волна,
И на волне короткой весть и повесть!
Оно наглядно демонстрирует конфликтное столкновение предельного обобщения и публицистической полемичности, отвлеченности и конкретности в рамках «традиционного спора» о сути поэзии. Это стихотворение, хотя и не принадлежит к лучшим достижениям поэта, весьма показательно. В нем не происходит «сплавления» смысловых начал, их взаимного проникновения. И наконец, не подлежит полемическому обсуждению то, что носит характер аксиомы. В стихотворении нет «открытия», потому что нет диалектики двух относительных правд, но есть борьба «правды» и «неправды», определенно заданных. Мартынов иногда переходит границу подлинной простоты и оказывается в плену простоватости, элементарности.
Символика этого стихотворения не обладает глубиной ни общего, ни особенного, и символ пребывает в виде эмблематики, т. е. однозначности: «хлебный колос», «любое белое пятно», «Эребус».
Но вот стихотворение «Дети природы»:
Природа
Нам родная мать,
И мы ее, как дети, сердим,
И ухитряемся ломать
Мы все кругом со всем усердьем.
И, рассердив ее до слез,
Мы глаз своих не подымаем,
Но молнии за розги гроз
Мы шаловливо принимаем.
А вдруг иссякнет даже гнев
И вдруг на иждивенье к детям
Она захочет, одряхлев?
Что мы на это ей ответим?!
В этих стихах мы ощущаем именно диалектическое движение мысли, а не игру антиномий. «Плакатно» заявленная тема развивается интимно, тонко, и конфликтность ее разрешается в таком синтезе-вопросе (последнее четверостишие), который открывает неограниченное поле для рефлексии читателя. Обобщенный до стереотипа символ «природа-мать» раскрывается в эмоциональной атмосфере непосредственных отношений матери и детей. Это подчеркнуто в лексике: «рассердив до слез», «глаз не подымая», «шаловливо», «на иждивенье», «одряхлев».
Здесь мы имеем дело с глубоким поэтическим «прорывом», с настоящей поэзией, которая своей мыслью рождает мысль читателя. И действительно, в обыденном мирском варианте, с точки зрения «хорошо — плохо», конечно «хорошо» для одряхлевшей матери создать все условия покоя и счастья. Но каково же отношение человека к природе в период ее «усталости», «старости»?
Недоговоренность, вопросительность требуют живого участия читателя. Обобщенность, условность поэзии Мартынова соотносима с некоторыми явлениями живописи XX в.: Пикассо, Матисс, Брак, Филонов. Эта условность конструктивно строится и организуется вокруг некоего доминирующего признака явления, события, вещи с «отбрасыванием» периферийных единичностей. Как, например, Матисс или Пикассо создают несколькими штрихами фигуру бегущего человека: нет лица, нет «деталей», фигура человека оказывается образом движения. Такого рода конструкции очень часто встречаются в лирике Мартынова. Из наиболее значительных философских лириков нашего времени Мартынов восходит не столь к традициям классики (Баратынский, Тютчев), но более к явлениям русской поэзии XX в. и шире — всего русского искусства. Большое распространение символики неизбежно ведет поэта к мифологизации современности с превращением ее «примет» в устойчивый орнамент. Более чем у кого-либо из современников, у Мартынова включены в ткань стиха мифологические образы, темы. Характерная мифологическая установка сближает Мартынова и со многими явлениями современной зарубежной поэзии: С.Ж. Перс, Превер, Квазимодо.
В философской лирике психологическое начало придает эмоциональную «плоть» интеллектуальным структурам, абстрактному развитию мысли. Общая условность и символика, как правило, не в ладу е психологизмом, поэтому универсалии, в виде готовых рациональных значений, заповеди о мире и человеке, господствующие в поэзии Мартынова, уходят из сферы личного переживания, а это приводит порой к недостатку диалектической рефлексии. Мартынов стремится доказать, что мир похож на некую картину, структуру, принятую как аксиома. С этим началом и связана «гносеологичность». Взгляд поэта заворожен структурами, чертежами, принципами строения вселенной, природы, материи. Пафос познающего разума пронизывает рассуждения поэта о многих сторонах бытия. Если Заболоцкий и Твардовский преподносят читателю большей частью плоды, итоги своих размышлений и представлений в определенной законченности, то Мартынов требует соучастия читателя в открытом познавательном акте. Поэтому в его стихах так много вопросительности, незавершенности, полемики.
И как это ни странно, в отвлеченно-рационалистической манере, в откровенной и прямой монологичности Мартынову постоянно необходимо повествовательное начало. Каждое стихотворение — род рассказа, данного в общих чертах, а реалистическую достоверность ему придает не точная деталь, а атмосфера сиюминутности, моментальности, принципиальной и явной соотнесенности со временем.
Стихотворения Мартынова устойчиво фрагментарны. Они начинаются в форме продолжения чего-либо. Потому что должны запечатлеть эту самую мгновенность, сиюминутность. Повествовательность стиха носит характер кинематографического монтажа, моментальной смены кадров, когда важно не изображение на каждом кадре, а значение, порождаемое их соотнесенностью. С этим связан принцип перечисления. Общее единство цементируется эмоциональным подтекстом.
Приведем стихотворение «Кривоколенный переулок».
Полночь
Чистых прудов
Непроточна.
А Большая Медведица, точно
Переулок Кривоколенный,
Изгибается в бездне Вселенной.
Переулок Кривоколенный —
Не идет по нему вдохновенный Веневитинов, нежный и юный.
О, Надеждин, Туманский, Трилунный,
Кто вас помнит? Следа никакого.
Позабыт и трактат Мерзлякова В усыпальнице книг белостенной.
И луна, как Василий Блаженный,
Улыбается в бездне Вселенной.
Характерная для Мартынова экспозиция сразу и в самых общих чертах обозначает время, место. Это вообще излюбленный композиционный принцип поэта. Вот первые строки некоторых стихотворений: «Ночь. Отмыкается плотина», «Букет валялся посреди стола», «Сумрачный день. Люди тычутся...», «Как этот лес коричнев, желт и красен», «В садах за университетом...», «Ночью по Замоскворечью» и т. д. Решительно, как бы с разбега начинается стих. Приметы конкретные — крайне обобщены. Краски — эмблематичны: Ночь — луна, звезды; Осень — лес коричнев, желт, красен... Стих насквозь динамичен, идет быстрая фиксация характерных примет. Важна и строфика Мартынова:
Полночь Чистых прудов Непроточна.
Вначале — «полночь», а уже потом точное название места. Меняются кадры-строчки, рождается прихотливая игра ассоциаций: полночь — Большая Медведица — Кривоколенный переулок — Веневитинов. Поэты — романтики пушкинской поры — полночь — забвение — луна — Василий Блаженный. Смысл стихотворения противоречит теме «забвения в вечности». Наоборот, нет ничего бесследного. Непрерывность культуры незримо присутствует в разрозненности впечатлений.
Столь зримое и четкое противоречие неподвижности и движения рождает элегическую рефлексию, обостренно-личную и общезначимую. Это стихотворение вполне иллюстрирует положение о чрезвычайной важности в поэзии Мартынова эмоционального подтекста.
У Мартынова ощутима атмосфера «возвращения» к действительности. Возвращения, «обремененного» новыми представлениями о жизни.
Мартынов выступает как решительный борец с обыденностью, которую он противопоставляет действительности, пестрой, красочной, многозначной, глубокой: «Действительность с обыденностью тусклой вступает в спор, куда ни погляди». Сказочность, фантасмагоричность присущи самой действительности, а не придуманы. Урок поэта заключается не в «отбрасывании» обыденности, а в умении провидеть за ней и в ее формах многоликость и красоту действительности.
Взаимосвязь всего сущего в рамках истории, всего бытия, законы соотносимости — это роднит Мартынова с Тютчевым и Баратынским. Но только по направленности. Классиков притягивало живое соответствие, соответствие в проявлении.
Мартынова же больше интересует соответствие схем, построений, моделей, структур, извечность и общность некоего «костяка». Это путь, на котором сосредоточены как достижения, так и недостатки поэта, ибо «родственность» разных явлений позволяет ему проверить в них общее, но с другой стороны, поэт впадает иногда в сухость и схематизм. Он порой лишь перечисляет признаки, а не показывает живую взаимосвязь явлений. Его общий пафос — связать, стянуть времена, события, факты, людей, произведения искусства. Вот стихотворение «Смысл событий».
Географические открытья
Не обрисовывались столь постепенно.
Как исторические событья.
О эти мифы, рифы, брызги, пена!
Эта строчка — пример того, как Мартынов путем простого перечисления общего намечает действие (в его манере часты подобные одические восклицания — «О мои высокие желания...» («Возрожденье»), «О Венгрия..!» («Евразийская Баллада»), «О эти руны..!» («Песни скальдов»), «О до чего по-разному одеты...» и т. д.) Его волнует высокая полифония мира, в которой совмещено разнородное:
В это утро
На выставку шли монреальцы,
А ракеты к Венере неслись.
В этот полдень в Нью-Йорке, в прославленном зальце,
Мудрецы на совет собрались.
В этот день по Синайской пустыне скитальцы
Грязь и слизь допивали из луж
И огромную бомбу взорвали китайцы,
Потрясая синьцзянскую глушь,
В этот вечер синантропы, неандертальцы
Поднялись из глубоких могил,
И, транзистором муча бесшерстные пальцы,
Homo sapiens вести ловил.
День мира вырастает в универсальный символ. Перечисление одновременных и разных по смыслу событий во многих точках земного шара, высоких и низких, трагических и радостных, порождает заключительный экспрессивный образ человеческой тревоги, который также становится символом, реалистически детализированным («бесшерстные пальцы»). Это истинно реалистический символ, в котором за чувственным восприятием человек сразу прозревает многовековую эволюцию человечества, мгновенно, без ненужной риторики. В этом стихотворении очень остра диалектическая связь публицистики, причем более в ее информационном смысле, с глубоко философской рефлексией.
Здесь мы подходим к одной из самых существенных проблем философской лирики Мартынова — своеобразию рефлексирующего сознания.
Термин «символ» этимологически связан с греческим глаголом «соединяю», «сталкиваю», «сравниваю». Внутри самого символа, если он полон и реалистичен, если он действителен по отношению к бытию, действует диалектика составляющих его элементов. Истинный символ держится борьбой противоречий, сложнейшей взаимосвязностью объединенных в нем значений. Нам важно подчеркнуть именно характер столкновения двух правомочных доминант, которые символ объемлет в целостность. В приведенном стихотворении Мартынова первая часть есть своеобразная символическая форма сиюминутного состояния мира, финальная часть — символическая форма современного состояния человека, более чем тревожного (перед лицом возможности ядерной войны и других катастроф). И в том, и в другом случае символ включает динамические реалии, которые «снимаются» в чувстве тревоги, заботы, ибо эти чувства — проявление ценностного начала. Рефлексия выступает как исследование познавательного акта. Она его моралистически «препарирует». Подобным сплетением тем и обрывом стиха на тревожной «ноте» характеризуется стихотворение «Противоречья»:
Противоречья, противоречья!
Эта дискуссия длилась, остра, —
И у костра, и под сводом шатра
Мы препирались, друг другу переча,
Истину в спорах искать мастера,
И побежали, рассвета предтечи,
По косогорам кривые ветра,
И, наконец, поднялось нам навстречу,
Но не пошло, как колосс, против нас,
И заблистало, голов не мороча,
Солнце небес, и, напротив, погас
Месяц, истлевший, как противогаз
В противотанковых рвах прошлой ночи.
В канву отвлеченного описания врывается, как призрак прошлого, и суровое напоминание — «месяц, истлевший, как противогаз в противотанковых рвах прошлой ночи». Философская лирика Мартынова — есть род философско-поэтической публицистики. Это углубленная публицистичность. И ее широким использованием Мартынов в лучших своих стихах придал новую и оригинальную черту философской лирике.
«Злоба дня», события современности самого разного масштаба, значения важны как определенная система доказательств, объект анализа, повод для «приговора», сражение с «точкой зрения». Поэтому публицистика всегда направленна, монологична, несет в себе своеобразную установку на «другое слово». Она не может не быть насквозь моралистичной. И пользуется всем арсеналом средств (патетика, ирония, сарказм, гротеск, рационально-логическое доказательство) в зависимости от темы и цели.
В русской литературе помимо прекрасной традиции собственно публицистики, существует традиция «пребывания» публицистичности в художественной ткани романа, повести, рассказа, драмы, лирики.
Эта тенденция нашла достойное воплощение в поэзии Мартынова, которая безусловно отвечает лучшим традициям отечественной публицистики не только в прямой, «газетно-журнальной» функции, но и в той, о которой писал Белинский, размышляя о Герцене: «...главная сила его не в художественности, а в мысли, глубоко прочувствованной, вполне осознанной и развитой...».
Позднейшая эволюция литературы доказала правоту великого критика. И теперь публицистичность рассматривается не в противовес художественности, но как качество и функционирование самой художественности. Публицист «судит» жизнь, уже исходя из определенного комплекса идей, для него аксиоматических, он углубляет историей современность, а современностью расширяет понимание истории.
Не только публицистичность, но и прямая злободневность лирики Мартынова видна уже по заглавиям сборников, по названиям стихотворений. Он насыщает их множеством примет вещественных, событийных. «Сегодняшность» поэзии Мартынова ощутима чрезвычайно. И в то же время он обращается в «иные» времена, к разным историческим лицам, к разным странам. Вот только названия: «Если слепо верить Геродоту», «Крест Дидло», «Сад Академа», «Библиотека Грозного», «Баллада об Алексее Кольцове», «Диодор Сицилийский» и многие другие. Атомные реакторы, самолеты, последние научные открытия соседствуют (причем соседствуют буднично) с событиями далекого прошлого. Остросовременное отношение к истории отличает поэта от иных мастеров стилизаций, от эстетизированного любования прошлым.
Конечно, Мартынову не всегда удается привести столь разнородный материал к целостности. Но в лучших его стихах, благодаря необычной открытости и современности, выступает, хотя, иногда и излишне схематично, в полном смысле этого слова философия эпохи и не, только как интеллектуальное резюмирование, но как личное «проживание» в размышлении. Ибо «философия эпохи — это не философия того или иного философа, той или иной группы интеллигенции, того или иного представителя народных масс. Это «комбинация» всех этих элементов, которая развивается и совершенствуется в определенном направлении и при этом все в большей мере становится нормой коллективных действий, т. е. становится «историей», конкретной и полной» (А. Грамши).
Философия времени у Мартынова насквозь социальна. Общая актуальность, как принцип поэзии Мартынова, позволяет ему воссоздавать историю в остросовременном ракурсе.
Поэтические философствования Мартынова ярко окрашены патетикой познания, его результатов и не абстрактно, а в соотнесении с непосредственными нуждами человека. И там, где нет такого художественно убедительного соотнесения, стихотворение превращается в «информационный акт» с чертами простого популяризирования.
«Гносеологические» проблемы традиционны для философской лирики. И более того, философия природы, истории раскрывается в поэзии, как правило, с ориентацией на человеческое существование. Ведь известный «катастрофизм» поэзии Тютчева был сопряжен с констатацией непознаваемости природы, бессмысленности «животворящего хаоса». Эта непознаваемость переносилась и на человека, обусловливая определенный тип мышления и общественного поведения личности. Поэтому так вырастало в философской лирике прошлого значение Судьбы в противовес Закону. Даже острота самопознания, одно из самых существенных завоеваний Тютчева и Баратынского, рождалась фактом противостояния человека и «Ничто». Закономерность природы разоблачала себя как иллюзия, предоставляя человека самому себе. Поэтому личность в поэзии Тютчева, Баратынского, Анненского — личность, самоопределившаяся в «отъединении», в «отрыве». Тому, разумеется, были исторические причины.
Весь смысл советской действительности, дух коллективного исторического творчества не мог не продиктовать поэту в этом отношении иную задачу. Пантеизм и другие формы натурфилософии не для него. Его лирика есть своеобразная «социология познания», потому что познание выступает не как акт чистого созерцания, критического или догматического, а как стремление к реализации определенных ценностей, исторических и социальных. Поэт и историческое прошлое стремится истолковывать в духе необходимых современности ценностных утверждений: и негативных, и позитивных.
Поэзия Мартынова при частом обращении к исторической тематике лишена всякой стилизации. А сам прием построения подобных стихотворений сознательно направлен на разрушение временной «экзотики».
В лирике Мартынова изыскиваются и доказываются всевозможные обстоятельства «разумной связи с природой» («Разумная связь»). Отсюда повышенный «техницизм», «научность», которые все же не следует преувеличивать, ибо они присутствуют более как знаки эпохи, чем действительное раскрытие деяний науки. «Натурфилософские» стихотворения поэта часто имеют характер «притчи», очень специфической и важной формы в литературе XX в., отечественной и зарубежной, в которую часто рядится «философствующее чувство». (Экзюпери, Камю, Кафка). Форме художественной «притчи» присущ некоторый ригоризм, однолинейность в проведении идеи — следствие метафизичности идейных установок.
Когда у Мартынова постулируемая мысль не «испытывается» диалектикой, индивидуальным переживанием, то итог и носит характер информационной однозначности. Это бывает довольно редко, но бывает. Природа для Мартынова важна прежде всего как объект познания и условие самопознания человека.
Отношение к природе у поэта организовано сложно, прихотливо. Его стихотворения о природе можно лишь очень условно называть «пейзажными».
В описаниях природы нет нюансов, пластики, детально осязаемой точности. Господствует предельное обобщение. Природа воспринимается «урбанистическим» сознанием и преобразована им.
Средства изображения продиктованы городским укладом:
Лесной
Массив
Красив
И листья кружатся, и пауки Аэронавствуют на паутинах,
Но скоро-скоро, дни недалеки,
Осины в лисье-рыжих палантинах Наденут меховые парики...
Здесь выступает самое общее понятие. Лес для городского человека — уже «красота».
«Аэронавствуют», «палантины», «парики» — стиль сравнений продиктован образом жизни. Природа явлена не в автономности своего существования, а в духе газетных дискуссий о ее проблематике («Разумная связь», «Дети природы», «Вятичи»).
«Ноябрь»:
Седо
Курчавятся облака Над чернотою полей.
Кончились летние отпуска,
Значит — пора, не жалей...
Ноябрь и летние отпуска — образец современного, «городского» соединения «далековатых» смыслов. Шум прибоя сравнивается с ревом танков («Танки»), сравнение выражает и символику постоянства опасности. Большой мир врывается в уклад отдельного существования газетной страницей, голосом радиопередачи, несущих много тревожного, страшного.
В большой степени поэзия Мартынова создает новую реальность, которая для поэта не произвол, но выявление потенции самой реальности. Он осознает современность во всей ее открытости и текучести, что сказалось на фрагментарности строения, сиюминутности впечатления: и на уровне фактов, и на уровне идей. Но в то же время постоянно разрывая канон, догмат, устоявшееся представление, Мартынов сам творит порой новый канон и догмат, когда идейная содержательность однозначна, когда не происходит отбора из действительности противоречий, необходимых для диалектического развертывания сцен и противоборства идей.
Следует отметить, что генетически поэзия Мартынова также восходит к определенной ветви прозы. Вообще прозаический элемент в особом ракурсе выполняет в мартыновской лирике необходимую функцию. Прежде всего, стихи сюжетно резко организованы, в них отчетливо выражено повествовательное начало.
Они определенный тип рассказа, очень последовательного, но условно-кинематографического. Когда важна не вся картина в подробностях, объеме, детерминированности, но когда важно главное, существенное, некая субстанция («Неблагодарность», «Полет над Барабой», «Король»). В небольшом стихотворении «Вчерашний дождь» Мартынов «играет» временем, подчеркивая главное — вечность и мгновение в их единстве:
Внезапно
Солнце перестало
Сиять, и дождь пошел вчера,
А на деревьях трепетала Позавчерашняя жара.
И утром Небо было в тучах,
И тяжело туман осел,
И на древесных черных сучьях Вчерашний дождь еще висел.
И пахло Прелью прошлогодней,
Осуществлявшей заодно Позавчера, вчера, сегодня,
И завтра, и давным-давно.
Помимо временной окраски пейзажа здесь заключена и «формула времени», как ее понимает поэт.
А. Урбан пишет: «Мартынов, несмотря на рационализм, — поэт сложный. Иногда, если не принять во внимание подтекст, некоторые его стихи могут показаться даже банальными, лишенными внутренней напряженности».
Конечно, дело не только в подтексте. Действительно, иногда стихи Мартынова лишены напряженности, обращены к читателю только информационной стороной. Фетишизация значительности подтекста, явления весьма туманного и неразработанного, чревата опасностями. Вернее говорить об эмоционально-историческом контексте. И вот с ним, с его реальной и сложной содержательностью не всегда соотносится мысль стихов Мартынова. Иногда атмосфера аксиоматичности «определяет» ее до выхолащивания, до понятного или непонятного «шифра». Пример такого построения:
Я был В эфире.
Там игра на лире,
Но чем она кончается — известно!
В эфире тесно,
Бесконечно тесно...
Таким образом, поэт всегда или почти всегда привержен определенному способу создания художественного образа, разумеется, этот метод коренится в миропонимании художника. Наиболее яркие и устойчивые особенности этого способа мы попытались показать. Классические традиции русской философской лирики, дополненные опытом Маяковского, опытом поэзии революционно-социального действия, Леонид Мартынов творчески и глубоко переосмыслил.
Современность, столь часто третируемая иными приверженцами «вечных» тем и проблем, современность во всей глубине, многоликости становится необходимо «вечной» и актуальной темой.
Осознанная активность личности в быстро изменяющемся мире, личность, обладающая прежде всего коллективно-народными чертами, личность более действующая, чем созерцающая — важнейшее завоевание Леонида Мартынова. Его поэзия, пронизанная пафосом познания, обогатила этот пафос нравственной проблематикой.
Мартынов прошел большой и сложный путь, на котором были не только достижения. Но и слабости объясняются прежде всего тем, что поэт во многом идет путем первопроходца и осваивает сложнейшие грани поэтического постижения мира в эпоху величайших социальных потрясений, небывалого прогресса науки и техники. Результаты познания и самопознания человека XX в. поэт воплотил с неслыханным мастерством и дерзостной новизной, равной новизне самого времени.
Л-ра: Филологические науки. – 1979. – № 1. – С. 3-13.
Произведения
Критика