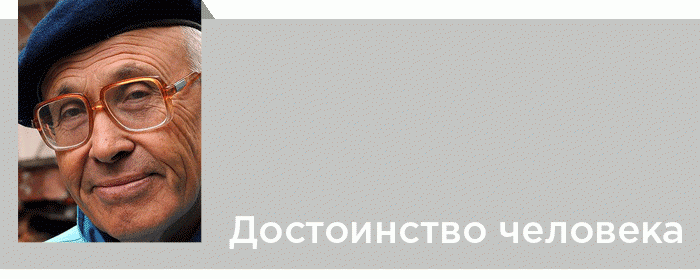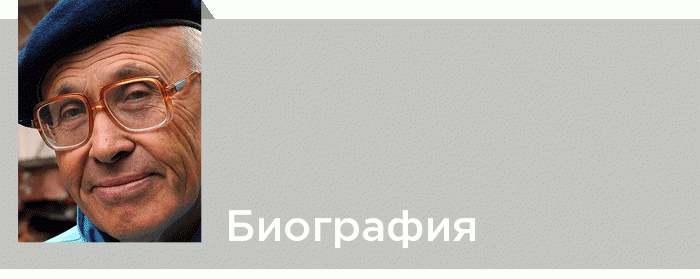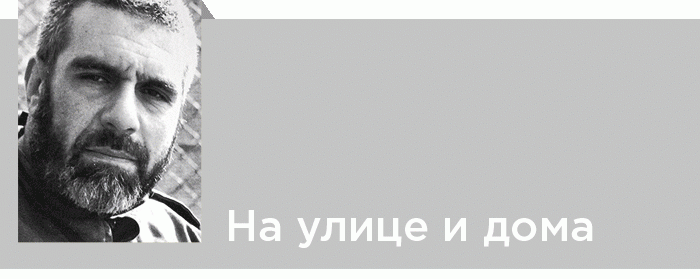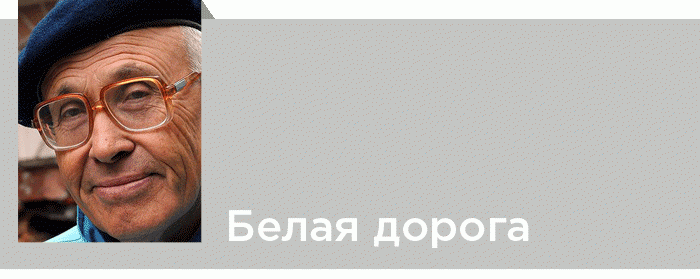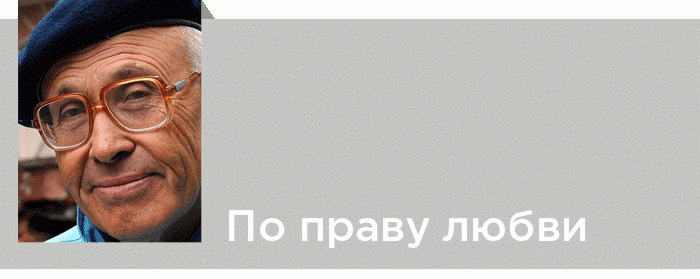В поисках утраченного лада
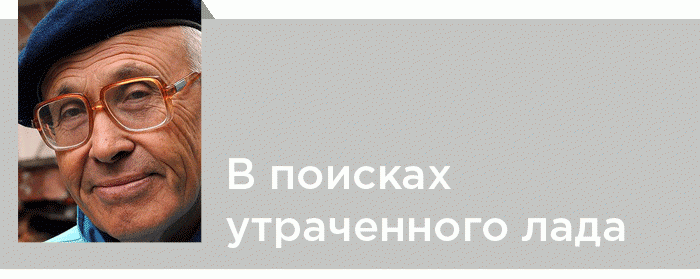
А. Клитко
Роман Бориса Екимова открывается картиной праздничного торжества в большой и дружной, издавна живущей на хуторе Караичевском семье Правоторовых. На последних его страницах мы снова видим тот же хутор, но уже порядком обезлюдевший, тот же дом, но без половины прежних обитателей, примолкший в ожидании неизбежной судьбы. А между двумя этими точками повествования — пестрое и прихотливое течение жизни, то ровное до монотонности, то резко и неожиданно убыстряющее свой бег.
Впрочем, неожиданностей в романе не так уж и много. Да и некоторые действующие лица легко узнаваемы, даже знакомы нам по уже известным рассказам писателя — главным образом, о людях хутора Вихляевского. Например, такая примечательная героиня, как Таиса Правоторова с ее неуемной жизненной энергией, трудолюбием, оптимизмом; или даже такое второстепенное лицо, как сосед ее сына по рабочему общежитию Николай, тоже перекочевавший в роман из рассказа.
Значит ли это, что роман ничего не прибавляет к уже сказанному автором раньше, что здесь нет никакого приращения мысли? Нет, конечно.
В свое время, говоря о рассказах Бориса Екимова, один из критиков заметил, что писатель порой недостаточно высвечивает истоки тех или иных судеб, характеров, явлений. И вот в этом смысле «Родительский дом» — шаг вперед в творчестве писателя: в чем-то существенном он дополняет его малую прозу, обобщая сделанные в ней наблюдения. Именно истоки, корни, первопричины интересуют тут автора прежде всего.
Достаточно сравнить, к примеру, одного из героев романа, Костю Правоторова, с Виктором из рассказа «Воскресный базар». Молодой, здоровый мужик, шофер по специальности, в колхозе Виктор не работает, да и вообще не работает постоянно нигде, а промышляет продажей пуховых платков, которые вяжет жена. Как произошло, что начисто атрофировалась у него трудовая крестьянская жилка и все помыслы его — не однажды, правда, неудачно пытавшегося прижиться где-нибудь на стороне — о легком заработке, о шальных деньгах? На этот счет из рассказа узнать что-либо нельзя: просто есть, свидетельствует автор, такой человек на хуторе, и все...
Судьба Кости (тоже, кстати, водителя), толкового, рачительного хозяина, который наиболее близок из всех детей Правоторову-старшему, куда нам понятнее. Да, быть бы ему истинным наследником своего отца, продолжателем старинного крестьянского рода, если бы не обстоятельства, давшие всему его существованию совсем иной поворот. Горькая участь, на которую обрекли их хутор, признанный «бесперспективным»; досадная история с казенной дробленкой, чуть не закончившаяся для Кости тюрьмой; мыканье в совхозной «двухэтажке», где — «ни огорода, ни сада, ни доброго погреба, и скотину несподручно где-то вдали держать...». Если уж такой человек, как Костя, много хорошего перенявший от родителей, от почвы, которая его взрастила, охладевает к крестьянству, довольствуясь после переезда в райцентр работой сторожа, чтобы на досуге откармливать пушных зверьков и продавать шкурки на базаре, то что же, спрашивается, ждать от других?
Сложно переплетены причины и следствия в жизни людей, населяющих хутор Караичевский и соседние с ним деревни и хутора. Потому и непросто определить вот так, с ходу, меру вины или правоты каждого из них, как бы ни стремился порой автор внести тут необходимую ясность. И если даже в рамках одной житейской истории или одного эпизода ему это удается, то другой сюжет нет-нет да и «поправит» его, скорректирует вроде бы бесспорный, самоочевидный вывод, соотнеся его с главным сюжетом — Жизнью.
Но это внимание автора ко всему не только большому, но и малому, что во многом определяет судьбу человека, давая ей то или иное направление, это его стремление быть максимально точным и достоверным в том, что относится к быту, к домашнему укладу семьи Правоторовых, оборачивается порой излишней замедленностью повествования, и жизнь героев романа начинает казаться вообще лишенной событий, ограниченной кругом сиюминутных забот. На самом-то деле это не так, тут скрыты, вызревают свои страсти и свои драмы, только уж очень долго ведет нас к ним писатель, словно бы испытывая наше терпение. Вполне естественное в сравнительно небольшом рассказе (например, в таком емком, одном из лучших у Б. Екимова, как «Привет издалека») может и не оправдать себя в более крупной повествовательной форме, что и произошло, как мне представляется, в данном случае.
Не потому ли в одной из недавних статей о Б. Екимове его упрекнули за то, что в романе якобы много этнографии? Точнее было бы сказать — описательности. Именно ею, на мой взгляд, грешит подчас Б. Екимов в «Родительском доме». А что касается «этнографии», то разве не представлена она широко и в его рассказах? Разве там коренные сельские жители (а не залетные, и, по всему видать, временные гости, подобные «челябинскому зятю») говорят иным, чем в романе, языком и держат себя иначе? И разве там другая обстановка? Это — сама атмосфера, плоть и аромат той жизни, тех мест, которые изображает автор, и дело тут, конечно, вовсе не в желании, как полагает Т. Набатникова, — «зафиксировать и сохранить, музейно удержать в памяти язык, быт, обиход — уходящий, уже ушедший» («ЛГ», 1989, № 12).
В суждениях о том, что ушло или не ушло, я бы лично все-таки доверился самому писателю, как знающему положение дел не понаслышке. Впрочем, можно вспомнить в этой связи и мысль Юрия Казакова: у талантливого писателя деревня не может стать прошлым, преходящим.
Думается, основанием для подобных упреков стали не только отмеченные недостатки романа (все-таки, не стоит забывать, первого у писателя), но в какой-то мере и сам его замысел, точнее — его художественная недовоплощенность. Автор хотел поведать не только о нарушенной связи человека с землей, но и на примере, как говорится, «средней», обычной семьи показать, как вопреки всему не умирают в душе сельского жителя исконные крестьянские начала. И если первое — утрату привычного лада, самих основ бытия — ему удалось показать куда как убедительно, то второе — в меньшей степени.
Да, что-то гордое, лихое еще звучит в голосе Кости, когда зазывает он своих покупателей на городском базаре, — как память о неизжитом прошлом. Еще сильнее эта гордость проявляется в его отце, далеко еще не старом человеке. Израсходованы силы Николая Правоторова, но понимает он, что земля «не виновата». И остается на хуторе, еще надеется вместе с женой, Таисой, поставить на ноги внука.
Не совсем отпали от родительского дома их ученые дочери. Конечно, трудно угадать, как сложится их судьба, хотя не исключено, что применение себе они найдут где-нибудь в здешних местах, потому как нужны ведь, еще как нужны тут не только доярки, но и те же врачи, учителя. И, пожалуй, только перебравшийся в столицу младший сын Митя окончательно потерян для села, хотя и он, став горожанином, вроде бы не опустел душой.
К сожалению, многое из этого не прописано. Не потому ли, что писатель, в конце концов, не склонен тешить ни себя, ни нас иллюзиями? Ведь того, кто смог бы заменить Николая Правоторова, пока не видно. И недаром далеко не все герои романа выдерживают самое серьезное из испытаний — на человечность.
Кажется, ничего худого не скажешь о Мите: не зазнался, став горожанином, не оборвал корней, не превратился, работая у себя в НИИ, в самодовольного бездельника. Не побоялся даже подать голос в защиту деревни, которая, на взгляд кое-кого из коллег Мити, утомленных участием в шефской помощи, слишком теперь «набалована». Но вот история с детдомовским мальчиком и запоздалым признанием его матери — не верит Митя, что это его сын. И какой вдруг металл зазвенел в тоне молодого человека, решившего предостеречь сестру от «излишней доверчивости», какая «опытность»: «шантажирует» — и это о недавней подруге, о девушке, которую знал со школьных еще лет! И еще одно «вдруг»: отчаяние и слезы его сестры, ощутившей утрату взаимопонимания с близкими, родными. «Поздно ночью, на станции, она наконец осталась одна... И в этой тишине и покое особенно ясно представилась Марусе ее беда. Не хотелось вспоминать, но против воли вставали в глазах мать, и Костя, и далекий Митяня вдруг виделся, печальный и одинокий. И становилось горько, невыносимо горько...
У возникшей коллизии — с ребенком — нет элементарной развязки, потому что добро не может быть принудительным. Но сам поступок Николая и Таисы, взявших малыша, этот их простой человеческий жест — уже выход или, вернее сказать, луч света, указывающий на него. И как ответ на мучительный вопрос дочери — как жить и стоит ли жить? — отцовское, выстраданное: «Все мы родная кровь, и нам нельзя друг без дружки, поврозь. И мы каждый друг об друге думаем, на том живем...»
По-новому открывается тут Николай, с его нелегкой, горькой судьбой, изведавший и фронт, и послевоенное лихолетье, когда «трудились до кровавого пота за голимые палочки», но поднявший-таки детей и не растерявший душевного тепла и щедрости сердца.
Кажется, только здесь, в завершающей части романа, налаживается наконец тот контрапункт разных голосов, который был целью автора, да все никак, на мой взгляд, ему не давался. И собираются, стягиваются к одной внутренней точке разнородные факты, подробности, приметы сельского и городского быта, — кстати говоря, прежде существовавшие в прозе писателя как бы в разных измерениях, когда, читая про хутор, про «глубинку», мы начисто забывали о городе и о тех, кто в него пришел из этой самой «глубинки», пришел — и очутился лицом к лицу с новыми сложностями и старыми, как мир, но резко обострившимися вопросами.
Пожалуй, по плотности письма, изобразительности страницы эти все-таки уступают предыдущим вещам писателя. Однако и отличаются от некоторых из них — большей свободой дыхания, выходом за рамки добросовестного, но узкого социологизма, еще недавно нами так горячо ценимого и до сих пор привлекательного для того, кто ищет у художника иллюстраций к заранее известным представлениям и выводам.
Именно эта свобода и кажется мне самым интересным и обнадеживающим в романе. А кроме того, как ни прочно закрепилась за Борисом Екимовым репутация прежде всего хорошего рассказчика, теперь уже можно сказать с уверенностью, что ему отнюдь не заказана и крупная эпическая форма.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1989. – № 9. – С. 77-78.
Произведения
Критика