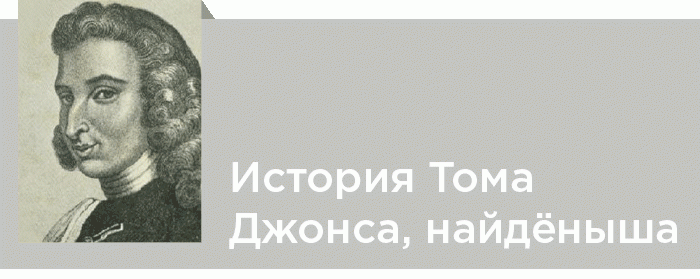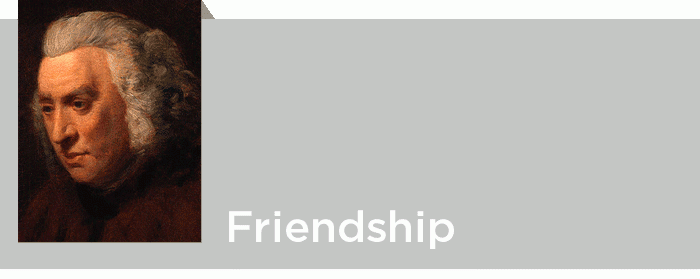Жанровое мышление С. Джонсона

О.Ю. Поляков
Эстетическое наследие выдающегося английского литературного критика С. Джонсона (1709-1784) продолжает вызывать споры. Наиболее дискуссионными в англоязычном литературоведении (отечественная джонсониана остается крайне скудной) являются проблемы соотношения в мировоззрении «великого хана английской литературы» таких категорий, как гений и возвышенное, рассудительность, фантазия и воображение, рассматривается взаимодействие понятий универсального и индивидуального в структуре его эстетического кредо, обсуждается возможность и правомерность подхода к его эстетической теории как системе. Нет единства в вопросе о том, продолжал ли С. Джонсон классицистическую линию в развитии английской литературной критики или, напротив, был апологетом реализма или даже провозвестником романтизма (имеется в виду особый упор, который он делал на категории гения, творческой способности воображения, положительная, в целом, рецепция эстетики Дж. Уортона).
Как представляется, дополнительные акценты в исследование названных проблем может внести анализ жанровых теорий критика. Отдельные труды, посвященные этому вопросу, появились во второй половине XX века. Нередко джонсоноведы, справедливо считающие литературно-критические произведения писателя, созданные после
Противоречия эстетической системы Джонсона отразили кризис классицистических литературно-критических представлений в Англии середины XVIII в., его теории внесли диссонанс, момент эклектизма в традиционную методологию литературного анализа, которая опиралась на нормативные поэтики и может быть названа жанроцентрической. В середине XVIII в. она обнаруживала признаки дестабилизации, вызванной значительным отставанием литературной теории от художественной практики, недооценкой новых жанров (сентиментальная комедия, роман), а также рядом внелитературных причин, связанных с функционированием англо-латинской культурной традиции, галлофобией и другими факторами.
Общее движение в литературе к ослаблению классицистических оков, начатое в первой трети XVIII в., вызванное влиянием философии Бэкона и Локка, эстетики Псевдо-Лонгина, спорами о категориях гения, климата, вкуса, сказалось и на представлениях критиков о литературных формах. В их сочинениях допускались большая подвижность жанровых границ, перенос характеристик одних жанров на другие, а порой и существенный пересмотр номенклатуры жанровых признаков. В частности, происходила экстраполяция жанровых черт эпической поэмы на трагедию и, с другой стороны, было очевидным влияние поэтики трагедии на эпический канон. Выявлялась типологическая близость эпопеи и баллады, баллады и пасторали, говорилось о возможности переноса черт трагедии на пастораль. Делались все новые шаги к разрушению социальной стратификации жанровой системы, способствовавшему оформлению теории мещанской драмы. Дестабилизация системы жанровых концепций, естественно, вела к пересмотру методологии литературного анализа, обусловливала больший акцент не на его аристотелевской модели, не на схемах Рапэна, Дасье и других авторов, которые уделяли первостепенное внимание формальной стороне произведения, а на анализе текста, выражении в нем идейно-художественных интенций его создателя, психологии характеров. Все чаще говорилось о важности субъективной оценки с позиций вкуса, а не авторитетов (Дж. Уортон).
С другой стороны, не следует преуменьшать значение традиционных подходов к литературному анализу, которые поддерживались влиятельными английскими критиками, писателями, эстетиками (Дж. Браун, О. Голдсмит, А. Джерард). В частности, А. Джерард писал о том, что важной задачей обозревателя литературы является определение соответствия произведения «образцам жанра». Как отмечает А. Боскер, единственным критиком, сознававшим, что между жанрами нет непроходимых границ и они нередко «перетекают друг в друга, подобно цветам», был Кеймз, хотя, с другой стороны, он отвергал нарушения принципа чистоты жанров. Критика с позиций жанровых доктрин преобладала также в периодических изданиях Англии той поры («Джентлмэнз Мэгэзин», «Мансли Ревью», «Критикал Ревью» и др.).
В отличие от них Джонсон в суждениях о художественных произведениях менее всего опирался на логику жанровых доктрин, и это, безусловно, свидетельствовало о его разрыве с классицистической методологией литературного анализа. К руководству жанровых конвенций критик обращается крайне редко. Они, в частности, композиционно оформляют его рассуждения о «Потерянном Рае» Дж. Мильтона, но это скорее дань уважения Ле Боссю, чей авторитет был непререкаемым на протяжении всего XVIII в., в то время как нормативные теории А. Дасье и Р. Рапэна все чаще подвергались критическому пересмотру. Джонсон также критически относился к интерпретаторам Аристотеля и Горация и предпочитал обращаться непосредственно к античным поэтикам. Критика классицизма с позиций классики была, безусловно, либерализующим фактором в развитии английской литературной теории.
Джонсон также порывает с долгой традицией создания классификаций жанров, начатой в английской литературной критике Ф. Сидни, Т. Гоббсом и другими авторами, не устанавливает жанровых иерархий, поскольку скептически относится к любым системам, претендующим на самодостаточность, подвергает любое правило проверке с позиций здравого смысла и опыта. Противник дедуктивно-силлогического метода, он уверен в том, что литературная теория должна следовать за художественной практикой, а потому объявляет относительными многие каноны: Джонсон выступает против неукоснительного соблюдения драматических единств, поддерживает трагикомедию, поскольку она соответствует состоянию дел в «подлунном мире». Он призывает давать дефиницию жанров исходя из того, «какие эффекты они производят» на чувства публики; в этом случае сословный принцип, один из основных в характерологии классицистической драмы и комедии, по Джонсону, неприменим. В свете его теории об универсалиях человеческой природы абсурдно само представление о том, что только низкосословные персонажи могут быть комичными. Таким образом, как справедливо подчеркивает Л. Дамрош, Джонсон подвергает сомнению современные ему жанровые теории, поскольку они слишком упрощенно трактуют действительность.
С другой стороны, поддержка доктрины правдоподобия, упор на моралистических функциях литературы, ее связи с жизнью нередко приводили критика к недооценке эстетических функций искусства, из которого оказались изгнанными категории мифологического, чудесного. Изящная условность пасторали и фантастика видения, «ужасающие таинства Всевышнего», запечатленные в религиозной поэме, вызывали критику Джонсона. Его скептицизм не распространялся, однако, на такие маргинальные литературные формы, как биография и тривиальное письмо, поскольку они, по его мнению, имели этическое назначение. Задача последнего - «вести мысли читателей к проблемам частного порядка и изображать мельчайшие детали повседневной жизни, где внешний антураж отставляется в сторону, а люди превосходят друг друга только прилежанием и добродетелью».
Критик связывал устойчивость литературных форм с «модой на жанры»: «Было время, когда вся истина представлялась заключенной в аллегории; когда-то ничего не признавали, кроме видения; в один из периодов все поэты следовали за овцами, и каждое событие рождало пастораль; в другой - писатели всецело посвящали себя наставлениям художникам». Джонсон, с одной стороны, считал, что подражание образцам является необходимой ступенью в овладении художественным мастерством (в частности, он, как и автор предисловия к «Королеве фей» Спенсера Е.К., называл пастораль наиболее подходящей формой для упражнений молодых поэтов), с другой стороны, настойчиво подчеркивал, как и Э. Юнг, мысль о необходимости оригинальности, творческой неповторимости художников, являющейся условием обновления жанровых форм. В журнале «Рэмблер» № 121 (1750) он писал: «Тот, кто обладает гением, не может похваляться тем, что повторяет опыты, от которых публика уже устала и которые не могут принести славы никому, кроме их создателя». «Тот, кто следует проторенными путями, даже проявляя все свое усердие, может надеяться только на то, чтобы найти те немногие цветы, которые не тронули его предшественники, отказавшись от них из презрения или упустив их из виду по небрежности» («Рэмблер» № 86). В 154 номере журнала подытоживалось: «Никто еще не стал великим благодаря подражанию».
Как следствие, оценивая литературные произведения, Джонсон рассматривал не столько то, находятся ли они в согласии с жанровым каноном, сколько их новизну, неожиданность. Несмотря на критику поэтов-метафизиков за отступление от принципа подражания природе, он восхищался оригинальностью их концептов. Отвергая жанр бурлеска за «несоответствие предмета и стиля», он, тем не менее, хвалил оригинальный замысел «Гудибраса» С. Батлера.
Изменения, которые вносят гениальные художники в жанровые формы, накапливаясь, приводят к их качественным трансформациям, считает Джонсон. Поэтому он отказывается обсуждать жанры в терминах классицистической критики. В «Рамблере» № 125 он пишет: «Определения, безусловно, не являются призванием человека; все сущее находится вне постигаемых им пределов. Феномены природы слишком необъятны, слишком расплывчаты в своих отношениях, тенденции искусства слишком непостоянны, неопределенны, чтобы возможно было свести их к какой-либо четкой идее. Определения в критике не менее рискованны, чем в юриспруденции. Воображение всегда стремится сбить с толку логику, поставить в тупик ограниченность различий, разорвать путы регулярности. Поэтому вряд ли найдется вид литературы, о сути и составляющих частях которого мы можем с уверенностью говорить». Своего рода жанровый «агностицизм», смущение перед хаотической поэтической вселенной не мешает, однако, Джонсону устанавливать «истинные принципы» литературных форм. Но акцент он при этом делает, как справедливо отмечает Дж. Хагструм, «на тех истинах и явлениях действительности, которые раскрываются в произведениях и служат критерием их ценности, на авторском начале, на тех чувствах, которые эти творения вызвали критичное отношение Джонсона к имитативным концепциям художественного творчества, неприятие теорий, рассматривающих жанры как некие метафизические абсолюты, и противопоставление им генетического и психологического подходов, эмпирического метода нагляднее всего проявилось в очерках Джонсона о пасторали, опубликованных в журналах «Рэмблер» (№ 36, 37,1750) и «Эдвенчерер» («Искатель приключений», № 92, 1753).
Джонсон, призывавший исходить при определении жанров из их воздействия на эмоции читателей, как и критики-»рационалисты», следовавшие за Фонтенелем, в частности, Т. Тикелл, отмечал, что пастораль является источником удовольствия читателей, которые «переносятся в райские долины, где встречают только радость, изобилие и довольство, где каждый ручей нашептывает приятные мысли и каждая тень обещает им отдохновение», с пасторалью ассоциируются прежде всего «мир, нега, невинность». Однако автор «Рэмблера» добавляет новый акцент. Генезис пасторали, считает он, относится к периоду «детства человечества» и, соответственно, буколический жанр ассоциируется у современных Читателей с их собственным детством, или, по выражению Л. Дамроша, «онтогенез повторяется в филогенезе», и воскрешение этой «родовой памяти» вызывает удовольствие. Пастораль поэтому более интересна либо молодым людям, не обремененным опытом, либо старцам, пытающимся воскресить «золотые годы жизни, когда мир радовал новизной, когда веселье было их спутником, и надежда сияла перед ними» путеводной звездой. Единственным оправданием обращения поэтов к этому жанру является, как считает Джонсон, их юный возраст, когда они еще не приобрели опыта, так необходимого для адекватного отображения жизни.
Причиной скептического отношения Джонсона к пасторали была бесконечная эксплуатация его современниками шаблонных схем этого жанра, отсутствие новизны, оригинальности, которые он, как уже говорилось, считал одним из главных качеств литературного произведения. С другой стороны, критик признавал, что, «хотя природа, с философской точки зрения, является неисчерпаемой, ее воздействие на органы чувств единообразно и не может служить источником большого разнообразия описаний». Он считал, что ограниченная содержательность пасторали обусловлена предметом ее художественного освоения — жизнью поселян, которая представлялась ему лишенной динамики и драматизма: «Амбиции (пасторального героя) не находят выхода, любовь не содержит интриги... Единственное несчастье, на которое он может пожаловаться, — жестокая возлюбленная или плохой урожай».
Не случайно поэтому то, что попытка Саннадзаро открыть новые горизонты пасторали, выведя ее на морские просторы, находит понимание Джонсона. Он вступает в спор с теми ригористами, которые требовали строгого подчинения пасторали античному канону и полагали, что морская эклога вызывает у публики чувство страха, несовместимое с пасторальной идиллией. Критик отвергает это возражение с позиций здравого смысла: художник свободен в выборе изображаемых явлений действительности, он «не более обязан показывать штормящее море, чем землю, страдающую от наводнения». Морская эклога вызывает нарекания Джонсона по другой причине: морские пейзажи менее разнообразны, и, кроме того, большая часть читателей не знакома с «радостями морской жизни».
В журнале «Рэмблер» № 37 Джонсон высказывает отношение к двум школам в критике пасторали, «классицистам» и «рационалистам», спор которых с особой остротой развернулся в начале века также на страницах периодического издания, журнала «Гардиан» (1713). Первые во главе с А. Поупом выступали за эстетизацию пасторального содержания и называли образцом для подражания творчество Вергилия, которое послужило основой для формирования нормативной поэтики пасторали в трудах Р. Рапэна и его последователей. Рационалисты же призывали к модернизации пасторали, введению в нее элементов современной английской действительности и опирались на творчество Феокрита и литературную теорию Б. Фонтенеля.
Автор «Рэмблера» критически относится и к тем, и к другим, поскольку, в отличие от них, не связан жанровыми конвенциями, выведенными как дедуктивным (Р. Рапэн), так и индуктивным (Б. Фонтенель) путем. Его главный принцип - соответствие жанра природе, правде жизни.Критик поэтому отвергает идею «классицистов» о том, что пастораль, следуя идее декорума, должна обращаться к пастушкам «золотого века». Вергилий, так почитаемый «классицистами», нигде не упоминал о необходимости подражания «золотому веку», апологеты которого считали важным «сохранить «воображаемые манеры» этой эпохи, а потому «в пастораль не допускалось ничего, кроме лилий и роз, скал и ручьев, среди которых слышны были нежный шепот целомудренной дружбы, томные жалобы любовного нетерпения». Целомудрие героев («чистота манер»), как подчеркивает Джонсон, является вовсе не следствием подражания «золотому веку», а долгом любого поэта, который обязан «учитывать интересы добродетели».
Критик указывает также на непоследовательность «классицистов», которые, требуя изображать рафинированных пасторальных героев, все же считали, что иногда следует показывать их неосведомленность в научных вопросах. Так, «пастух у Вергилия забыл Анаксимандра, а у Поупа термин «зодиак» слишком сложен для простого ума». Джонсон не против того, чтобы наделить персонажей пасторали образованностью, поскольку поэты, следуя природе, вправе изображать людей всех сословий, проживающих в сельской местности, а значит, утонченные чувства не должны быть изгнаны из эклоги. Следуя декоруму, критик, однако, выступает и против «рационалистов», которые, подражая Спенсеру, вводили в пастораль архаизмы и вульгаризмы и создавали таким образом «местный колорит», выражая эти самые утонченные чувства грубым макароническим стилем.
Джонсон также определяет границы жанровой содержательности пасторали, которая, по его мнению, должна сосредоточиваться на изображении картин сельской жизни: «Не должно поэтому называть пасторалью те стихи, в которых рассказчики после беглого упоминания о своих стадах начинают жаловаться на злоупотребления церкви, продажность правительства или дают волю ламентациям по поводу смерти какого-нибудь важного лица, которого поэт, однажды назвав пастухом, может оплакать, только заставив облака слезоточить, лилии увянуть, а овец склонить головы». Критик, таким образом, признает устойчивость жанрового канона, поддерживает замкнутость пасторальной формы, не позволяя включать в нее элементы других жанров (элегии, памфлета). При этом он выступает против слепого подражания античной эклоге, в частности, использования мифологических образов в современной ему пасторали: сторонник правдоподобия, он призывает учитывать изменившиеся с введением христианства представления о мироустройстве.
Автор «Рэмблера», опираясь на идею декорума стиля и принцип природосообразности, также выступает за простоту языка пасторали, в которой не допускаются «смелые полеты мысли» и экспрессивные стилистические средства, поднимающие жанр над уровнем «обыденной жизни», изображаемой в буколической поэзии. Возвышенное, трактуемое как грандиозное, уместное в трагедии и эпической поэме, по словам Джонсона, неприемлемо в пасторали. С этих позиций он критикует восьмую эклогу Вергилия, пафос которой был усилен в переводе А. Поупа, упомянувшего о «пылающей Этне», бурях и громе.
Несмотря на критичное отношение к эклогам Вергилия, Джонсон предпочитает его Феокриту. В его концепции пасторали возникает, таким образом, парадокс, поскольку он отвергал условность буколического жанра, критиковал «классицистов», которые следовали именно за опытами древнеримского поэта. Ясность вносит очерк журнала «Эдвенчерер» (№ 92), в котором продолжается анализ эклог Вергилия. Восемь произведений цикла из десяти вызывают возражения критика по разным причинам: порицаются отступления от принципа «пасторальной невинности», введение мифологических образов, философствование и героика, недостаток оригинальности. Две эклоги - первая и десятая - заслуживают одобрение Джонсона, поскольку в них изображаются события, которые действительно имели место. «Способность к непосредственному чувству у нас развита лучше, чем сила воображения, — пишет критик, — а потому самый тонкий вымысел должен уступить место правде». В частности, в десятой эклоге переживания героя реалистичны, «именно такие чувства естественным образом рождает несчастная любовь: его желания необузданны, его ропот нежен, его намерения изменчивы», он говорит «языком настоящего отчаяния». Эти выводы важны прежде всего как свидетельство психологической чуткости автора очерка.
Таким образом, Джонсон в спорах о пасторали занимал совершенно особую позицию, представления о которой не исчерпываются механистическим выводом Дж. Конглтона о «конвергенции в ней двух линий в эволюции теории пасторали, восходящих к Рапэну и Фонтенелю». Недоверие к нормативным поэтикам, в частности, к теории Рапэна, заставляло критика обращаться к классическим художественным опытам, а понимание внутренней логики развития жанра и налагаемых ею ограничений приводило его к определению основных принципов пасторали исходя из его представлений о миметических основах литературы, принципа природосообразности, соответствия художественного произведения правде жизни, не имеющих ничего общего с фонтенелевскими теориями эстетизации пасторального содержания.
Очерки журналов «Рэмблер» и «Эдвенчерер» высветили основные особенности и противоречия жанрового мышления Джонсона: скептицизм по отношению к любым системам и установлениям, осознание необходимости упорядочения художественного опыта, вызывающей к жизни жанровый канон; недоверие к подражаниям и уверенность в том, что именно они обеспечивают стабильность жанра; самостоятельность суждений, основанную на принципах опыта и здравого смысла, внимательное отношение к предписывающей критике; стремление к сближению искусства и жизни и понимание эстетических функций литературы. Представления критика о жанрах, таким образом, позволяют уточнить особенности его эстетического кредо, сделать вывод об эклектизме его литературной теории. Признавая, что во многом С. Джонсон разделял позиции классицизма, следует отметить, что его творчество свидетельствовало о разрастании глубоких кризисных явлений в этом направлении литературы и критики в Англии середины XVIII века.
Л-ра: Филологические науки. – 2001. – № 1. – С. 44-53.
Произведения
Критика