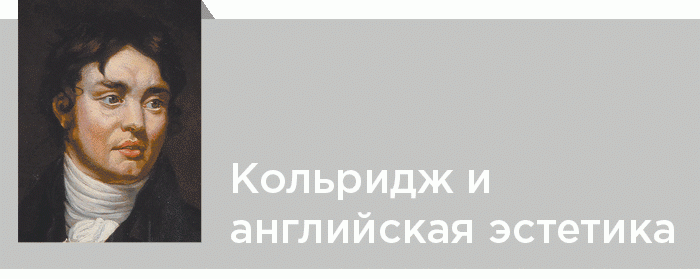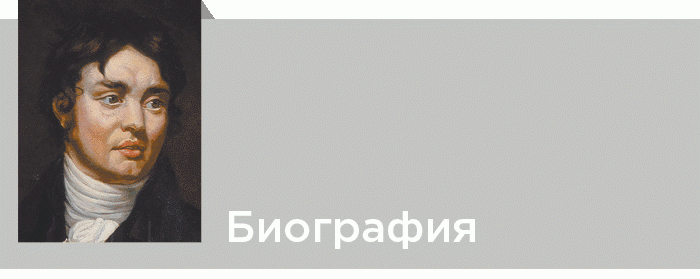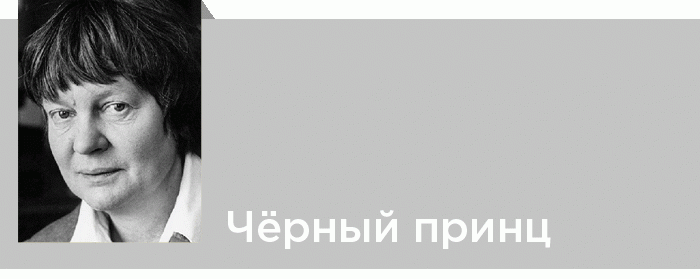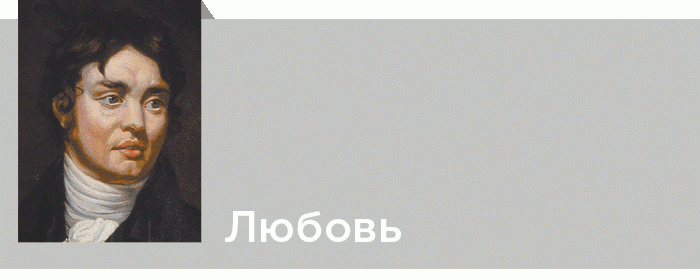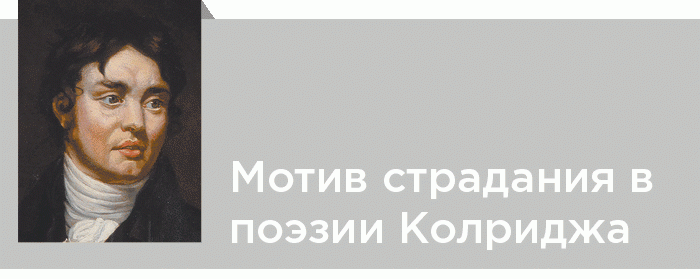Формирование романтической поэмы (Колридж. «Сказание о Старом Мореходе»)
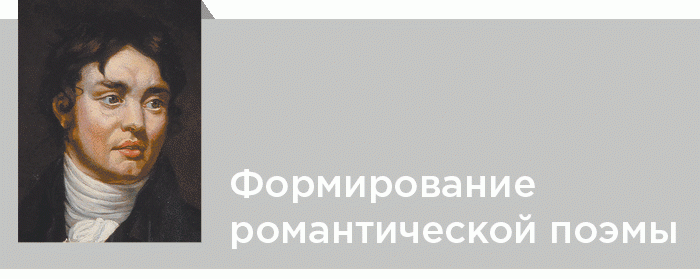
Н.А. Петрова
Трудность жанрового определения поэмы (как и любого иного жанра, находящегося в процессе развития) объяснима постоянным обновлением, подвижностью жанрового канона. В эпохи исторического перелома, формирования нового мировоззрения возникают новые разновидности уже устоявшихся жанров; собственное содержание жанра, накопившееся в процессе его эволюции, вступает в диалогические отношения с содержанием исторического времени. «Именно поэтому жанр и способен обеспечить единство и непрерывность... развития» литературы.
Генетически поэма имеет эпическую природу. Романтическое миросозерцание коренным образом переосмысливает отношение мира и человека. Человек перестает ощущать себя только объектом воздействия обстоятельств — судьбы, случая, фортуны, — но осознает себя активным субъектов жизни, ее творцом и преобразователем. Н. Фрай отмечает, что до эпохи романтизма все существующее представлялось сотворенным богом, теперь же роль создателя отводилась человеку, причем, в противовес сотворенности, «сделанности», вырабатывается концепция органического саморазвивающегося мира, воспринимаемого человеческим сознанием во всей его динамической целостности. Поэт — воплощение жизненной активности («Идеальным человеком в современных условиях может считать себя лишь настоящий поэт, универсальный художник», — писал Ф. Шлегель). Поэт, предельно объективированный, скрытый за саморазвивающимся повествованием, в классическом эпосе, в романтической поэме стремится к самораскрытию через отождествление себя с героем или «я»-повествованием. Поэма приобретает черты, характерные для лирического рода литературы — центростремительность структуры, сосредоточенность на духовной жизни человека. Начинается становление нового лиро-эпического типа поэмы.
Концентрация внимания на жизни сознания приводит к ослаблению роли фабулы в сюжетостроении поэмы. Фабульное и нефабульное повествование представляют собой две одновременно развивающиеся стороны литературного процесса. Необходимость и потребность запечатлеть какое-либо событие в культурной памяти человечества требуют фабульной организации произведения; осмысление причин и следствий этого события может реализовать себя в нефабульных формах. Воссоздание и осмысление присущи и каждому отдельному литературному произведению, но общая установка (в данном случае заданная романтической эстетикой) акцентирует тот или иной аспект. Романтическая поэма складывается не без влияния баллады с ее повествовательной организацией и оды, в которой событие — лишь повод для эмоциональной реакции.
В романтической поэме фабула может отсутствовать (Блейк), быть пунктирной («Восточные поэмы» Байрона), развернутой и полной перипетий (Колридж) — в любом случае она представляет второстепенный интерес. Внешние события — только фон для проявления активности романтического героя, знаки его духовной деятельности. Колридж — не только поэт, но и теоретик романтизма — формулирует это с достаточной определенностью: «Глядя на объекты природы, я скорее искал... символическое значение для чего-то внутри меня, что уже всегда существовало, чем наблюдал нечто новое». В пьесах Шекспира он выделяет моменты, близкие романтической эстетике, замечая, что их фабула интересна только в той степени, в какой дает возможность раскрыться характерам. Конфликт и событие в романтической поэме переносятся в сферу сознания субъекта, который может быть «коллективной личностью», репрезентом эпохи, воплощающим въективную целостность общечеловеческого сознания («пусть он шдет коллективным именем, повязкой вокруг полного снопа»), к этом случае поэма сохранит эпическую доминанту (в произведении смешанной родовой природы речь может идти только о преобладании какого-либо из родовых начал).
Чаще всего фабула эпически ориентированной романтической поэмы связана с мотивом путешествия, легко поддающимся аллегорическому переосмыслению как «путешествие души», подобное ему, что организует «Комедию» Данте. Колридж определяет аллегорию «как использование некоего круга персонажей и образов, реализующих себя в соответствующем действии и обстоятельствах, с целью изложения в опосредованном виде каких-то моральных категорий или умозрительных представлений... таким образом, чтобы глаз или воображение все время видели черты различия, а ум угадывал черты сходства; и все это, в конечном счете, должно так переплестись, что все части составляют единое целое».
«Сказание о Старом Мореходе» Колриджа — это произведение такого аллегорического плана, сочетающее событийный ряд «символической системой и моральным поучением. Оно стилизовано под средневековую балладу, но собственно балладой не является. Исследователи считают «Сказание» скорее эпической поэмой, указывая на то, что к этой точке зрения склонялся и Колридж, включивший ее сначала в сборник «Лирических баллад». К.X. Эбрэмз отмечает эпоманию этого времени, в стороне от которой не остался и Колридж. Эпическая установка объяснима стремлением к созданию универсального произведения, охватывающего всю целостность культурного сознания эпохи. Данте и в этом смысле оказывается ориентиром. Шеллинг называл Данте образцом, «ибо он выразил то, что должен сделать поэт нового темени, чтобы сосредоточить в одном поэтическом целом всю полноту истории и образованности своего времени, т. е. единственный мифологический материал, который был в его распоряжении». В трихотомии дантевой поэмы Шеллинг видел «общий тип созерцания универсума», объединяющий «природу, историю, искусство». От баллады сохраняются метр и строфика, не всегда строго выдержанные, мистический, «страшный» характер события, вопросительные предложения, движущие рассказ перехода, скачкообразное развитие действия, недистанциированность рассказчика от события рассказывания, введение диалога и драматургическое изображение эмоций. Балладой является сам рассказ Морехода, но он включен в более широкий контекст, организованный по иному жанровому принципу — эпической поэмы. Переключение осуществляется сложной системой образности, обнаруживающей абсолютное значение явлений («Поэма — это картина жизни, изображающая то, что есть в ней вечно истинного», Шелли), многократным повторением сюжетной схемы и самого события рассказывания, изменением отношений автора и героя. Перерастание баллады в поэму можно проследить в самой структуре произведения.
Сюжет «Сказания» организуется вокруг истории преступления – наказания — искупления. Эта сюжетная схема совпадает с трихотомией Шеллинга и суждением Гегеля о развитии эпического сюжета. В романтической поэме конфликт осмысляется как распад целостного единства мира и человека, отколотость человеческого сознания от мирового целого, угрожающая и целостности самого сознания, разрешение конфликта — возврат человека к миру и к самому себе.
Эпическая схема сюжета повторяется в поэме многократно, но природа конфликта меняется, он постепенно переключается в план духовного бытия. В «Сказании», в сущности, два события — шторм и убийство Альбатроса. Первое не спровоцировано действиями человека, здесь он зависим от игры природы. Смена ее состояний естественна, внезапность опасности и мистичность спасения придают происшествию таинственную окраску, как это и свойственно балладе. Убийство Альбатроса также не мотивировано, но оно — акт сознательной воли человека, требующий возмездия. Возмездие вершится в циклической смене утрат гармонии и прозреваний, практически незавершенной и иезаверщимой. Незавершимость принципиальна, она связана с пониманием гармонии в романтической эстетике, в частности, у Колриджа.
Характеризуя романтическое искусство, принято говорить о присущем ему двоемирии (и даже «троемирии» — И.Ф. Волков предлагает выделить субъективный мир романтического героя), противопоставлении мира должного, идеального существующему, неприемлемому. Констатация раскола — не окончательная позиция романтиков, она сопровождается стремлением к преодолению разлада, синтезу противоположных начал. Два мира — реальный и трансцендентальный — существуют одновременно, только поэт и те, кому открылось «сверхъестественное», провидят в обычном — абсолютное, в частном — идею целого. «Идеальный поэт», по Колриджу, тот, «кто создает атмосферу гармонии, в коей сливаются дух и разум». Задача сведения этих миров воедино была поставлена в «Лирических балладах» («цикл стихотворений двоякого рода» — фантастическое, кажущееся достоверным, и обыденное — открытое чувствительному сердцу»). Гармония в понимании романтиков не есть нечто установившееся раз и навсегда, но вечно становящееся; ее устойчивость обеспечена сбалансированностью противоположных начал, антиномичность которых не снимается синтезом, — «абсолютный синтез абсолютных антитез» (Ф. Шлегель). Невозможность окончательного становления гармонии объясняет сюжетную незавершенность» «Сказания», в любом моменте поэмы проявляет себя динамика перехода («Все части целого должны согласовываться с главнейшими функциональными частями». Колридж): уравновешивающие друг друга антагонизмы трансформируются» (Колридж), утрата и восстановление гармонии воплощаются в системе образных оппозиций.
Мореход уходит в плавание из «отчего дома» (маяк, церковь, дом) и возвращается к нему же. «Море» противопоставлено дому как мир странных происшествий, вырывающих человека из реального пространственно-временного континуума. Точные ориентиры (движение солнца, счет проходящих дней), подробное описание страданий героев, шторма, штиля (Н.Я. Берковский говорил о «романтическом натурализме») призваны придать достоверность этому фантастическому миру. Конкретность оказывается иллюзорной: корабль то замирает посреди застывшего моря, то несется с невероятной скоростью, меняет направление, подчиняясь высшим силам, и возвращается таким, как будто плавание длилось годы; время скитаний Морехода после гибели корабля также неопределенно и, очевидно, бесконечно; сам он воздействию времени неподвластен (его возраст в начале плавания неизвестен, он вечно стар). Корабль движется сначала к югу, потом к северу, к экватору (спасительной линии равновесия между двумя полюсами). Южный полюс — царство льда и тьмы, лишение жизни, насылающее напасти. Дух Южного полюса вызывает шторм, но он же требует мести за Альбатроса, хранившего корабль от гибели. Образные оппозиции в поэтике Колриджа морально амбивалентны. Альбатрос — птица доброго предзнаменования, он появляется к ночи, чтобы беречь матросов от Духа «мглы и снега», но воспринимается ими с полярно противоположных позиций — то как добрая «владычица ветров», то как «дурная птица мглы». Противопоставленность символов не абсолютна, их этическая наполненность выявляется в процессе сюжетного развития.
Основная оппозиция поэмы, втягивающая в себя все символические характеристики, — противопоставление покоя и движения. Понятие покоя явственно ассоциируется со смертью: за убийством Альбатроса следует штиль — «молчанье мертвых вод», гибель матросов. Понятие движения как будто бы связано с жизнью: ветер — «оживший воздух» — возвращает к жизни Морехода и корабль. Вместе с тем, шторм — сплошное движение — грозит смертью; неистового движения корабля, влекомого добрыми духами, не может вынести человек (Мореход лишается сознания, он приходит в себя, когда движение замедляется). Морские твари, «порожденные Спокойствием», вызывают презрение Морехода, но после одиночества и страданий они же, порожденные «Великим Спокойствием», пробуждают в нем любовь, ведут к спасению. Крайности одинаково неприемлемы, каждая из них — мертвый хаос или неудержимое движение — сами в себе завершены, конечны и потому гибельны. Символом гармонии служат месяц и звезды — «пребывающие в покое, но вечно движущиеся», приносящие «тихую радость».
Если утрата гармонии сопровождается исчезновением каких-либо стихий, способностей, возможностей, то восстановление их — обретением. Эти процессы протекают постадийно, вторя замыканию фабульного кольца поэмы. Альбатрос — добрый знак, корабль Смерти — дурное предзнаменование (значение того и другого выясняется не сразу); затихает ветер, падают мертвыми матросы — «оживает» воздух, в мертвые тела вселяются «духи небесные»; сушь, жажда, неспособность молиться сменяются дождем и молитвой. Каждый член оппозиции должен обрести свой противочлен. С этой точки зрения становится понятной связь Духа Южного полюса и Альбатроса. С убийством Альбатроса нарушается равновесие между добром и злом; Дух как бы раздваивается, стремясь совместить в себе оба начала: он думает о мести, но продолжает гнать корабль к экватору. Когда корабль достигает экватора, Дух удаляется на полюс, но его демоны разъясняют смысл поступка и назначенное наказание. Противоборство затихает постепенно; когда Мореход познает любовь, на корабле появляются «небесные серафимы», нарушенная гармония восстановлена, Мореход может вернуться домой.
Оппозиционные пары стянуты любовью, обымающей весь мир (у Данте любовь также была перводвигателем вселенной):
Любил ту птицу мощный Дух,
Чье царство — мгла и снег.
А птицей быт храним, он сам,
Жестокий человек.
Завещанная богом любовь постигается Мореходом через страдания, одиночество, полусмерть (сон, обморок), она способствует его возвращению домой, к людям, к миру, но епитимья, назначенная Духом, с возвращением не кончается. По народным поверьям, птица — воплощение души, у Колриджа есть прямое и опосредованное (души мертвых матросов улетают с таким же свистом, как стрела, убившая Альбатроса) указания на возможность такого истолкования символа. Убивший Альбатроса утрачивает душу, отчуждается от мира, весь оказывается во власти трансцендентального (Смерти, Жизни-в-Смерти — силы смерти также парны). Восстановление гармонии оказывается одновременно и поиском души, восстановлением субъективной целостности. Этот процесс отмечен аллюзией с дантовыми адом, чистилищем, раем, через которые проходят душа и которые она носит в себе. «Мертвый лед» и мгла полюса, «медный небосклон» и кровавое солнце, «семь суток» (как семь смертных грехов) среди мертвых матросов, а после молитвы и благословения всего живого, сна («Иль умер я во сне? Или бесплотным духом стал И рай открылся мне?») — «светлых духов рой», «звуки сладостных молитв», небесные серафимы и музыка небесных сфер. Тема духовного возрождения подкрепляется и проскальзывающей в сравнениях сменой времен года (апрель, июнь — в переводе это не передано).
Мореход, соприкоснувшийся со сверхъестественным и оставшийся в живых (он выигран Жизнью-в-Смерти у Смерти), смыкает собой два мира, реальный и трансцендентальный. Он — носитель трансцендентального в реальном мире (как «ночь», бродит он из края в край). Нарушение мировой гармонии остается в нем повторяющейся «агонией души», которая разрешима только рассказом, поучением о необходимости любви, общности, молитвы. Рассказ повторяется многократно в одинаковых ситуациях: из трех встретивших его человек — Кормчего (или Лоцмана, в русских переводах: Кормщик у Гумилева и Рыбак у Левика), его сына и Отшельника, — Мореход выбирает «святого отца»; из трех юношей, спешащих на свадебный пир, одного Брачного Гостя.
На уровне героя поэма завершается фабульно — возвращением: сюжетного завершения, событие рассказывания спроецировано в беспредельно разворачивающееся мировое целое, лишенное временной характеристики (кроме циклической смены дня и ночи, где ночь способствует постепенному прозрению — «И все ж другим — умней, грустней — Проснулся поутру»). На уровне автора поэма завершается дидактически и также в процессе многократного рассказывания. Тема поэмы раскрыта уже в эпиграфе, событийный ряд воспроизведен в «Кратком содержании», предпосланном поэме (и стилизованном под развернутые заглавия средневековых новелл), рассказ Морехода Гостю сопровождается комментарием (собственно тоже пересказом на полях поэмы). II.Я. Берковский считал, что Колридж вынес в маргиналии фабулу, оставив в тексте «лирически осмысленное», и видел в этом романтическое освобождение от контура, ограничивающего свободное проявление жизни. Вряд ли это так. Мореход как рассказчик не дистанциирован от события рассказывания, каждый раз он снова переживает «агонию души», фиксируя как хроникер и факты, и эмоциональную реакцию. В его рассказе нет места ни для рефлексии, ни для осмысления, моральная оценка привносится сверхъестественными силами (демонами); но сопричастность Морехода двум мирам функционально сближает его с поэтом (Р.П. Уоррен видит в Альбатросе воплощение поэтической силы, загубленной самим поэтом — Мореходом). «Я»-повествователь (Мореход) и морализирующий комментатор разведены в поэме Колриджа по разным взаимосоотнесенным текстам. Комментарий дистанциирован от события рассказывания и временной, и оценочной позицией. Мореход только сообщает об убийстве Альбатроса, его состояние в этот момент передается вопросом Гостя, в маргиналиях же поясняется, что Альбатрос был «благотворящей птицей, которая приносит счастье». Мореход передает разную реакцию матросов на убийство, комментатор заключает, что таким образом они «приобщились к его преступлению». Матросы караются смертью, их гибель — часть возмездия, назначенного Мореходу, но героями повествования они не становятся, Мореход — единственный среди них носитель сознательной воли.
Сближение позиций повествователей начинается с конца пятой части, после того, как Мореход слышит разговор Демонов; окончательная моральная сентенция относится к завершению рассказа Морехода. Как только закончен рассказ, разрешена «агония души», повествователи снова разъединяются — вне этого состояния Мореход лишен пророческой силы («И Старый Мореход побрел, — Потух горящий взор»). У Морехода есть слушатели, к которым обращено его слово (Отшельнику — исповедь, Гостю — наставление), слушатели комментатора субъектно не выражены. Моральное наставление как абсолютная истина (ограничивающая романтическую концепцию мирового устройства божественным установлением и благодатью) выливается в прямое обращение к читателю. Моральный итог поэмы суммируется последней глоссой. Через тридцать три года после написания «Сказания о Старом Мореходе» Колридж заметил, «что главным и единственным недостатком» его было столь открытое навязывание читателю моральной идеи как пружины или причины действия в произведении, основанном на воображении».
Л-ра: Типологические категории в анализе литературного произведения. – Кемерово, 1983. – С. 83-92.
Произведения
Критика