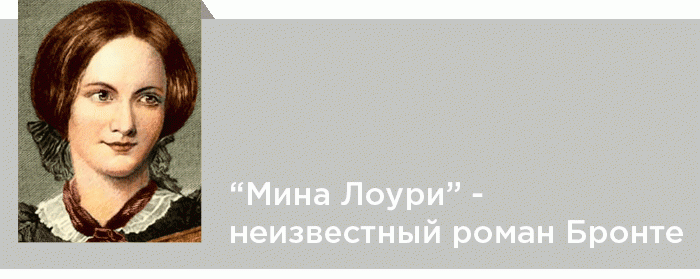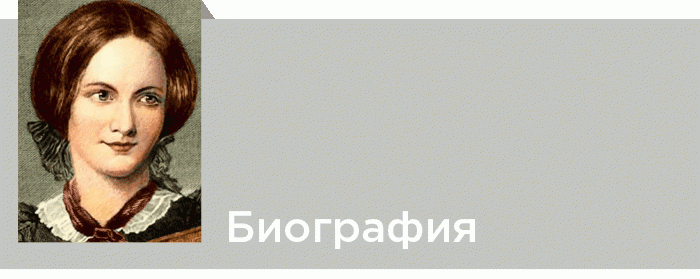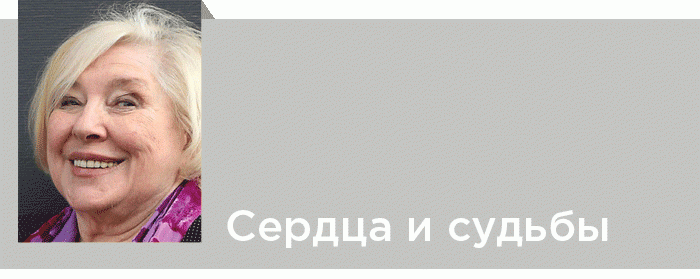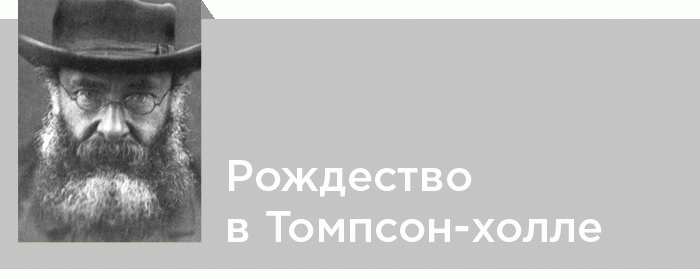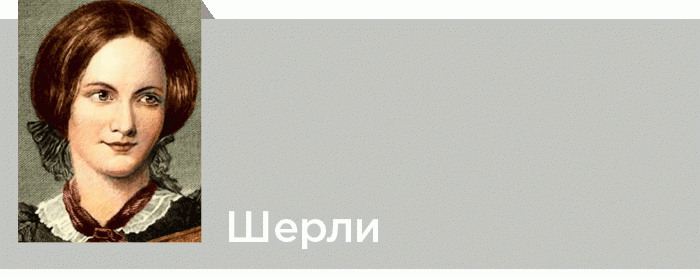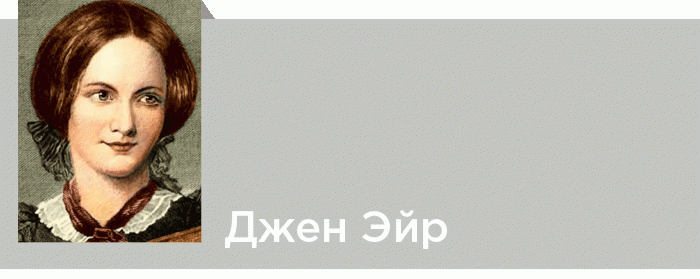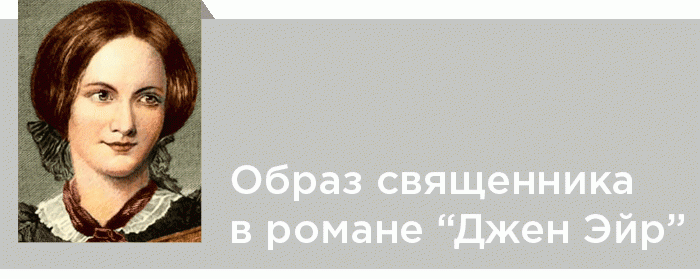Шарлотта Бронте. Городок
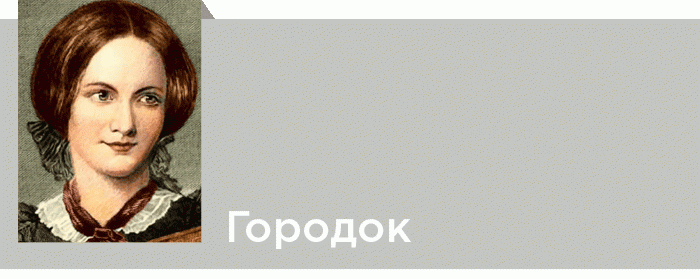
(Отрывок)
Глава I
БРЕТТОН
У моей крестной был славный дом в чистом старинном городке Бреттоне. Дом этот уже несколько поколений принадлежал семье ее мужа, носившего то же имя, что и город, где они родились, — Бреттоны из Бреттона. Я так и не знаю, простое ли это совпадение или же некий далекий их предок был личностью столь замечательной, что его именем назвали место, где он обитал.
В детстве я ездила в Бреттон примерно раза по два в год, и пребывание там всегда приносило мне радость. По душе мне был и сам дом, и его обитатели. Мне нравилось все: просторные уютные комнаты, со вкусом расставленная мебель, чисто вымытые светлые, широкие окна, балкон, выходящий на прелестную старинную улицу, такую тихую и опрятную, что, казалось, на ней всегда царит воскресное праздничное настроение.
Когда в семье из одних взрослых появляется ребенок, ему обычно уделяют много внимания, и миссис Бреттон относилась ко мне со сдержанной, но искренней заботливостью. Миссис Бреттон овдовела еще до того, как я познакомилась с ней; у нее был один сын. Ее муж, врач, умер, когда она была еще молодой, красивой женщиной.
Мне она помнится в летах, но все еще красивой, высокой и стройной. Для англичанки она была несколько смугловата, но на смуглых щеках играл здоровый румянец, а прекрасные черные глаза светились живостью и весельем. Многие сожалели, что миссис Бреттон не передала сыну цвет глаз и волос — у него глаза были голубые и даже в детстве смотрели проницательно, а цвет длинных волос было трудно определить точно, и лишь освещенные солнцем они становились явно золотистыми. Однако от матери он унаследовал черты лица, прекрасные зубы, рост (вернее, виды на рост в будущем, так как он еще был ребенком) и главное — отменное здоровье, а также то бодрое и ровное расположение духа, которое дороже всякого богатства.
Осенью ** года я гостила в Бреттоне. Крестная взяла на себя труд рассказать мне о тех родственниках, у которых мне предстояло поселиться в ближайшем будущем. Думаю, что она уже тогда ясно предвидела ожидавшие меня события, о характере которых я едва ли догадывалась, но даже смутные подозрения на возможность перемен вызывали во мне тревогу и страх перед новой обстановкой и чужими людьми.
У крестной я вела жизнь спокойную и безмятежную, подобную мирному течению полноводной реки по равнине. Мои приезды к ней напоминали пребывание Христиана[5] и Верного у прелестной реки, «на обоих берегах которой круглый год растут зеленые деревья и простираются луга, покрытые лилиями». Жизнь моя не отличалась пленительным разнообразием и волнующими приключениями, но мне нравился этот покой, и, избегая всяческих перемен, я даже любое письмо воспринимала как нарушение привычного хода вещей и предпочитала, чтобы оно вовсе не приходило.
Однажды миссис Бреттон получила письмо, содержание которого явно удивило и несколько обеспокоило ее. Сначала я решила, что оно пришло из дому, и испугалась, нет ли в нем какого-нибудь тревожного сообщения. Однако мне ничего о нем не сказали, и туча, казалось, рассеялась.
На следующий день, вернувшись после долгой прогулки, я обнаружила в своей спальне неожиданные перемены: помимо моей кушетки, стоявшей в занавешенной нише, в углу появилась детская кроватка, застеленная белым покрывалом, а неподалеку от комода красного дерева я увидела крохотный палисандровый сундучок. Замерев на месте, я оглядывала комнату и рассуждала сама с собой: «О чем свидетельствуют эти перемены?». Ответ мог быть только один: «Приезжает еще одна гостья, миссис Бреттон ждет кого-то к себе».
Спустившись к обеду, я все узнала: со мной поселится девочка, дочь друга и дальнего родственника покойного доктора Бреттона. Девочка эта, сообщили мне, недавно потеряла мать, хотя, добавила миссис Бреттон, потеря эта для нее не так велика, как можно было бы ожидать. Миссис Хоум (мать девочки) была весьма миловидной, но легкомысленной и беспечной женщиной; она не заботилась о своей дочери, огорчала и расстраивала мужа. Супруги оказались столь чуждыми друг другу, что последовал разрыв, который произошел по взаимному согласию, то есть без юридической процедуры. Немного спустя миссис Хоум, переутомившись на балу, простудилась, получила горячку и после недолгой болезни умерла. Ее мужа, человека по природе очень чувствительного, да к тому еще потрясенного недостаточно осторожным сообщением о случившемся, видимо, невозможно было разубедить в том, что излишней суровостью, отсутствием терпимости и снисходительности он ускорил ее конец. Он так упорно сосредоточился на этой мысли, что совсем пал духом, и врачи посоветовали отправить его для излечения в путешествие, а миссис Бреттон предложила взять на это время его дочку к себе. «Надеюсь, — добавила крестная в заключение своего рассказа, — что дитя не унаследует характера своей матери, неумной и суетной кокетки из тех, на которых, показав слабость духа, иногда женятся даже рассудительные мужчины. А ведь, — продолжала она, — мистер Хоум человек по-своему весьма рассудительный, хотя не очень практичный: он увлечен наукой и проводит полжизни в лаборатории, где ставит опыты, чего его неразумная жена не могла ни понять, ни терпеть. По правде говоря, — призналась крестная, — мне бы это тоже не очень нравилось».
В ответ на мои расспросы о мистере Хоуме она сказала, сославшись на покойного мужа, что мистер Хоум пристрастием к науке пошел в своего дядю по материнской линии — французского ученого. Происхождение, по всей видимости, у него смешанное — французско-шотландское, во Франции до сих пор живут его родственники, из которых иные пишут «де» перед своей фамилией и считают себя дворянами.
В девять часов вечера послали слугу встретить дилижанс с нашей маленькой гостьей. В гостиной остались лишь миссис Бреттон и я, так как Джон Грэм Бреттон гостил в деревне у своего однокашника. Крестная читала вечернюю газету, а я шила. Вечер был дождливый, ливень громко барабанил по мостовой, ветер выл сердито и тревожно.
«Бедное дитя! — повторяла время от времени миссис Бреттон, — быть в пути по такой-то погоде! Скорее бы уж она приехала».
Около десяти часов дверной колокольчик оповестил, что Уоррен вернулся. Не успели открыть дверь, как я уже сбежала вниз в переднюю. На полу стоял чемодан и несколько картонок, около них — девушка, видимо, няня, а на нижней ступеньке — Уоррен с завернутым в шаль свертком в руках.
— Это и есть тот самый ребенок? — спросила я.
— Да, мисс.
Я развернула было шаль и попыталась взглянуть на личико девочки, но она быстро отвернулась и уткнулась Уоррену в плечо.
— Пожалуйста, поставьте меня на пол, — послышался тонкий голосок, когда Уоррен отворил дверь в гостиную, — и снимите эту шаль, — продолжала девочка, вытаскивая крошечной ручкой булавку и с какой-то нервической поспешностью сбрасывая с себя неуклюжие одежки. Появившееся из-под них существо попыталось было сложить шаль, но она оказалась слишком тяжелой и громоздкой для этих слабых ручек.
— Пожалуйста, отдайте это Хариет, — распорядилась девочка, — пусть она все уберет.
Затем она повернулась и вперила взгляд в миссис Бреттон.
— Подойди, малютка, — сказала крестная, — подойди, я хочу проверить, не промокла ли ты, идем, ты погреешься у камина.
Девочка не мешкая подошла к ней. Без шали и теплой одежды она выглядела удивительно миниатюрной: фигурка у нее была изящная, будто точеная, и стройная, а походка — легкая. На коленях у крестной она казалась настоящей куклой, и сходство это особенно подчеркивали нежная, почти прозрачная шейка и шелковистые кудри.
Согревая ей ножки и ручки, миссис Бреттон приветливо говорила с ней, и ребенок, сначала глядевший на нее серьезно и пристально, начал вскоре улыбаться. Вообще-то миссис Бреттон не отличалась ласковостью, даже со своим страстно любимым сыном она чаще бывала строга, чем нежна, но когда маленькая гостья улыбнулась, она поцеловала ее и спросила:
— Как тебя зовут, крошка?
— Мисси.
— А еще как?
— Папа зовет меня Полли.
— А Полли не хотела бы остаться у меня?
— Не навсегда, только пока папа вернется домой. Он уехал. — И она грустно покачала головой.
— Он непременно вернется к Полли или пришлет за ней.
— Правда, сударыня? Вы уверены, что он вернется?
— Конечно.
— А Хариет говорит, что если он и вернется, то очень не скоро. Ведь он болен.
У нее на глазах блеснули слезы. Она освободила ручку, которую держала миссис Бреттон, и сделала попытку соскользнуть с ее колен; почувствовав, что ее удерживают, она сказала:
— Пожалуйста, пустите меня, я посижу на скамейке.
Ей разрешили спуститься на пол, и она, взяв скамеечку для ног, отнесла ее в темный угол и села там.
Хотя миссис Бреттон отличалась властным характером, а в делах серьезных нередко вообще не допускала возражений, в мелочах она обычно проявляла терпимость; вот и в этом случае она разрешила девочке поступить, как ей хочется. Она сказала мне: «Не обращай сейчас на нее внимания». Но я не могла сдержать себя и наблюдала, как Полли оперлась локотком о колено и положила головку на руку, а потом вытащила крохотный носовой платок из кармашка своей кукольной юбочки, приложила его к глазам и заплакала. Обычно дети, испытывая горе или боль, плачут громко, никого не стесняясь, но этот ребенок плакал так тихо, что о его состоянии можно было догадаться лишь по едва слышным всхлипываниям. Миссис Бреттон вообще ничего не заметила, что было весьма кстати. Немного погодя из угла послышался голос:
— Можно позвонить, чтобы пришла Хариет?
Я позвонила, и пришла няня.
— Хариет, мне пора спать, — сказала маленькая хозяйка, — узнай, где моя кровать.
Хариет сообщила ей, что уже осведомлена об этом.
— Спроси, будешь ли ты спать со мной в комнате.
— Нет, мисси, — ответила няня, — вы будете спать в одной комнате с этой барышней. — И она указала на меня.
Мисси не встала с места, но отыскала меня глазами. Несколько минут она молча рассматривала меня, а потом вышла из своего угла.
— Доброй ночи, сударыня, — обратилась она к миссис Бреттон. Мимо меня она прошла без единого слова.
— Спокойной ночи, Полли, — сказала я.
— Ведь мы спим в одной комнате, зачем же прощаться на ночь, последовал ответ, и девочка удалилась из гостиной. Мы услышали, как Хариет предложила отнести ее наверх на руках. «Не нужно, не нужно», — прозвучал ответ, после чего послышались усталые детские шажки по лестнице.
Через час, ложась в постель, я обнаружила, что Полли еще не спит. Она подоткнула подушки так, чтобы удобно было сидеть, и с недетским самообладанием как-то по-старомодному восседала на простынях, вытянув сжатые в кулачок руки поверх одеяла. Я воздержалась от разговора с ней, пока не настало время гасить свет, тогда я посоветовала ей лечь.
— Попозже, — был ответ.
— Но ты простудишься.
Она сняла со стула, стоявшего у кроватки, какую-то крохотную одежонку и накинула ее на плечи. Я не стала возражать. Прислушиваясь к ней в темноте, я убедилась, что она все еще плачет — сдержанно, почти беззвучно.
Проснувшись утром, я услышала звук льющейся воды. Подумать только! Она, оказывается, уже встала, взобралась на скамеечку перед умывальником и с огромным трудом наклонила кувшин (поднять его у нее сил не хватало), чтобы вылить из него воду в таз. Забавно было наблюдать, как эта малышка бесшумно и деловито умывается и одевается. Она явно не привыкла сама совершать свой туалет — все эти пуговицы, шнурки и крючки были для нее серьезным препятствием, которое она преодолевала с завидным упорством. Затем она сложила ночную рубашечку и тщательно разгладила покрывало на постели. Удалившись в угол комнаты, она притихла за краем гардины. Я приподнялась, чтобы посмотреть, чем она занята. Стоя на коленях и подперев голову руками, она молилась.
В дверь постучала няня. Девочка вскочила.
— Я уже одета, Хариет, — сказала она. — Я сама оделась, но, по-моему, не все у меня в порядке. Поправьте что надо!
— Зачем вы сами одевались, барышня?
— Тс-с! Тише, Хариет, не разбудите эту девочку (то есть меня, я лежала с закрытыми глазами). Я оделась сама, чтобы обходиться без вас, когда вы уедете.
— А вы хотите, чтобы я уехала?
— Я много раз, когда вы сердились, хотела, чтобы вы уехали, но сейчас не хочу. Пожалуйста, поправьте мне пояс и пригладьте волосы.
— Но пояс у вас в порядке. Какая же вы привередливая!
— Нет, пояс нужно перевязать. Ну, пожалуйста.
— Хорошо, хорошо. Когда я уеду, попросите эту барышню помогать вам одеваться.
— Ни в коем случае.
— Почему? Она такая милая. Надеюсь, вы будете к ней хорошо относиться, барышня, и не станете дуться и важничать.
— Ни за что она не будет одевать меня.
— Какая же вы смешная!
— Вы неровно причесываете меня, Хариет. Пробор будет кривой.
— Вам не угодишь. Ну, так хорошо?
— Да, неплохо. А теперь куда мне следует идти?
— Я отведу вас в столовую.
— Пойдемте.
Они направились к двери, но девочка вдруг остановилась.
— Ах, Хариет, если бы это был папин дом! Я ведь совсем не знаю этих людей.
— Мисси, будьте хорошей девочкой.
— Я хорошая, но вот здесь мне больно, — сказала она, положив ручку на сердце, и со стоном воскликнула: — Папа, папа!
Я приподнялась на постели, чтобы увидеть эту сцену.
— Скажите барышне «доброе утро», — распорядилась Хариет.
Девочка сказала: «Доброе утро», — и вслед за няней вышла из комнаты. В тот же день Хариет уехала в гости к своим друзьям, которые жили неподалеку.
Спустившись к завтраку, я увидела, что Полина (девочка называла себя Полли, но ее полное имя было Полина Мэри) сидит за столом рядом с миссис Бреттон. Перед ней стоит кружка молока, в руке, неподвижно лежащей на скатерти, она держит кусочек хлеба и ничего не ест.
— Не знаю, как успокоить эту крошку, — обратилась ко мне миссис Бреттон, — она в рот ничего не берет, а по лицу ее видно, что она всю ночь не сомкнула глаз.
Я выразила надежду, что время и доброе отношение сделают свое дело.
— Если бы она привязалась к кому-нибудь у нас в доме, то быстро бы успокоилась, а до тех пор ничего не изменится, — заметила миссис Бреттон.
Глава II
ПОЛИНА
Прошло несколько дней, но не похоже было, чтобы девочка почувствовала к кому-нибудь расположение. Не то чтобы она особенно капризничала или своевольничала, скорее она была послушна, но столь безутешное дитя встречается очень редко. Она отдавалась грусти вся целиком, как это свойственно только взрослым людям; даже на изборожденном морщинами лице взрослого изгнанника из Европы, тоскующего где-то на другом краю света по своему дому, невозможно обнаружить столь явных признаков ностальгии, как на этом детском личике. Казалось, она на глазах стареет и превращается в какое-то неземное существо. Мне, Люси Сноу, неведома такая напасть, как пылкое и неукротимое воображение, но каждый раз, когда я входила в комнату и видела, как она одиноко сидит в углу, положив голову на крохотную ручку, комната эта представлялась мне населенной не людьми, а призраками.
Когда же я просыпалась лунной ночью и взгляд мой падал на резко очерченную фигурку в белом, когда я следила, как она, стоя на коленях в постели, молилась с истовостью ревностного католика или методиста,[6] меня начинали одолевать мысли, которые, хотя сейчас мне уже трудно передать их с точностью, едва ли были более разумными и здравыми, чем мысли, терзавшие мозг этого ребенка.
Она так тихо шептала молитвы, что мне редко удавалось уловить хоть слово, а иногда она молилась молча; в тех редких случаях, когда до меня все же долетали отдельные фразы, в них слышались одни и те же слова: «Папа, милый папа!»
Думаю, что эта девочка принадлежала к натурам, одержимым одной идеей. Признаюсь, я всегда считала склонность к мономании самой мучительной из всех присущих роду людскому.
Можно лишь предполагать, к чему могли бы привести все эти тревожные переживания, но ход событий внезапно изменился.
В один прекрасный день миссис Бреттон лаской уговорила девочку покинуть ее обычное место в углу, усадила на диван у окна и, чтобы занять ее внимание, велела наблюдать за прохожими и считать, сколько женщин проходит по улице за некий промежуток времени. Полли сидела с равнодушным видом, изредка поглядывая в окно, и прохожих не считала, как вдруг я, внимательно наблюдая за ней, увидела, что взгляд ее совершенно преобразился. Эти так называемые чувствительные натуры, способные на непредсказуемые и рискованные поступки, нередко кажутся странными тем, кого более спокойный темперамент удерживает от участия в их несуразных выходках. Ее неподвижный мрачный взор мгновенно оживился, глаза загорелись, наморщенный лобик разгладился, безучастное и печальное лицо осветилось и повеселело, грусть сменилась нетерпением и страстной надеждой.
— Наконец-то! — воскликнула она.
В мгновение ока вылетела она, подобно птице или стреле, из комнаты. Не знаю, как ей удалось отворить парадную дверь, возможно, она была открыта или там оказался Уоррен и исполнил ее, по всей вероятности, достаточно запальчивое приказание. Спокойно глядя в окно, я увидела, как она в своем черном платье и отделанном тесьмой фартучке (она питала отвращение к детским передникам) мчится по улице. Я было отвернулась от окна, чтобы сообщить миссис Бреттон, что Полли в безумном состоянии выскочила на улицу и что ее необходимо тотчас же догнать, как заметила, что кто-то подхватил на руки и понес девочку, скрыв ее от моего спокойного взора и от удивленных взглядов прохожих. Этот добрый поступок совершил какой-то джентльмен, и теперь, накрыв ее своим плащом, он шел к дому, откуда, как он приметил, она выбежала.
Я решила, что он оставит ее на попечении слуги, а сам удалится, но он, немного помедлив внизу, поднялся по лестнице.
Прием, оказанный ему миссис Бреттон, свидетельствовал о том, что они знакомы: она узнала его и пошла ему навстречу, причем было заметно, что она польщена, удивлена и застигнута врасплох. В глазах у нее даже мелькнула укоризна, и отвечая скорее на этот взгляд, чем на произнесенные ею слова, он сказал:
— Я не мог уехать из страны, не увидев своими глазами, как она устроилась здесь.
— Но вы растревожите ее.
— Надеюсь, что нет. Ну, как живет папина Полли?
С этим вопросом он обратился к Полли, сев на стул и осторожно поставив ее на пол перед собой.
— А как живет ее папа? — ответила она, прислонившись к его колену и глядя ему в лицо.
Сцена эта не была ни шумной, ни многословной, за что я испытывала благодарность; но чувства были слишком сдержанны — не бурлили и не выплескивались через край — и потому действовали особенно угнетающе. Обычно ощущение нелепости происходящего или презрение к нему приносят облегчение уставшему от слишком пылких и необузданных излияний свидетелю; мне же всегда тяжело наблюдать, как движение души сдается без борьбы — раб-исполин под игом рассудка.
У мистера Хоума было строгое или, вернее, суровое лицо с резкими чертами: бугристый лоб, резко очерченные высокие скулы. Но сейчас это типично шотландское лицо было взволнованно, а взгляд тревожен и печален. Северный акцент, отличавший его речь, удивительно гармонировал с его внешностью. У него был одновременно гордый и непритязательный вид.
Он положил руку на поднятую головку девочки, и она сказала:
— Поцелуйте Полли.
Он поцеловал ее. Как мне хотелось, чтобы она истерически крикнула, — я бы тогда испытала облегчение и успокоение. Но она вела себя удивительно тихо; казалось, она получила все, решительно все, что ей было нужно, и достигла теперь полного блаженства. Ни выражением, ни чертами лица она не была похожа на отца, но принадлежала она к той же породе: он вдохнул в нее свою душу и свой разум.
Несомненно, мистер Хоум умел, как и положено мужчине, владеть собой, но в некоторых обстоятельствах и его душа тайно преисполнялась волнением.
— Полли, — сказал он, глядя сверху вниз на своего ребенка, — пойди в переднюю, там на стуле лежит мое пальто, достань из кармана носовой платок и принеси мне.
Девочка не мешкая выполнила приказание. Когда она вернулась в комнату, ее отец разговаривал с миссис Бреттон, и Полли с платком в руке остановилась в ожидании. Ее стройная, изящная фигурка у колен отца являла собой трогательное зрелище. Увидев, что он не заметил ее возвращения и продолжает разговаривать, она взяла его за руку, отогнула пальцы, чему он не сопротивлялся, положила ему на ладонь платок и по одному сомкнула вновь его пальцы. Хотя казалось, что отец все еще не замечает ее присутствия, он почти сразу посадил ее к себе на колени. Она прижалась к нему, и несмотря на то, что они в течение целого часа не перемолвились и словом и не посмотрели друг на друга, я думаю, им было хорошо.
За чаем все движения и поступки этой малютки, как всегда, привлекали общее внимание.
Сначала она отдала распоряжения Уоррену, когда он расставлял стулья:
— Папин стул поставьте сюда, а мой — между ним и креслом миссис Бреттон.
Она заняла свое место и поманила отца рукой.
— Папа, сядьте около меня, как дома.
Взяв его чашку с чаем, она размешала сахар, добавила сливок и вновь сказала:
— Я ведь всегда делала это дома, папа; ни у кого, даже у вас, это так хорошо не получалось.
Все время, пока мы сидели за столом, она не переставала заботиться об отце, как ни смешно это выглядело. Щипцы для сахара оказались слишком широкими, и ей приходилось держать их обеими ручками; ей не хватало сил и ловкости, чтобы справляться с тяжелым серебряным сливочником, тарелками с бутербродами и даже чашкой с блюдцем, но она все это поднимала, передавала, и при этом ей удалось ничего не разбить. Откровенно говоря, мне она казалась суматошной хлопотуньей, но отец ее, слепой, как все родители, очевидно, с большим удовольствием предоставлял ей возможность ухаживать за ним и, судя по всему, даже испытывал наслаждение, принимая ее услуги.
— Она — моя единственная отрада! — не сумев сдержаться, сказал он миссис Бреттон. Поскольку у этой леди тоже была своя «отрада» — сын, казавшийся ей истинным совершенством, который ныне находился в отсутствии, такое проявление слабости со стороны мистера Хоума было ей понятно.
Эта вторая «отрада» появилась на сцене в тот же вечер. Я знала, что сын миссис Бреттон должен вернуться в тот день, и видела, что она с самого утра находится в состоянии напряженного ожидания. Когда мы, после чая, сидели у камина, прибыл Грэм. Он не просто прибыл, а, скорее, ворвался в наш мирный кружок, потому что его приезд, естественно, вызвал суматоху, а так как мистер Грэм был смертельно голоден, его нужно было немедленно накормить. С мистером Хоумом они встретились, как давние знакомые, а на Полли он сначала не обратил никакого внимания.
Подкрепившись и ответив на многочисленные вопросы матери, он перешел от стола к камину. Он сел так, что напротив него оказался мистер Хоум, а у локтя отца пристроился ребенок. Называя Полли ребенком, я употребляю слово неуместное, даже непригодное для этого сдержанного миниатюрного создания в отделанном белой манишкой траурном платье, впору большой кукле. Девочка сидела на высоком стульчике около полки, на которой стояла игрушечная рабочая шкатулка из белого лакированного дерева, и держала в руке лоскуток, стараясь его подрубить, чтобы сделать носовой платок; она настойчиво, но с трудом протыкала материю иголкой, казавшейся чуть ли не спицей у нее в пальчиках, то и дело укалывала их и оставляла на батисте цепочку мелких следов крови; когда непослушная игла глубже вонзалась ей в руку, она вздрагивала, но не издавала ни звука и продолжала работать прилежно, сосредоточенно, совсем как взрослая.
В те времена Грэм был красивым шестнадцатилетним юношей с не внушающим доверия лицом. Я характеризую его лицо как не внушающее доверия не потому, что он действительно обладал вероломной натурой, а потому, что, как мне кажется, такой эпитет весьма уместен для описания чисто кельтского (а не англо-сакского) типа красоты: волнистые светло-каштановые волосы, подвижное и симметричное лицо, неизменная улыбка, не лишенная обаяния и вкрадчивости (не в плохом смысле этого слова). В общем, тогда это был избалованный капризный юноша.
— Мама, — сказал он, молча оглядев миниатюрную фигурку и воспользовавшись тем, что мистер Хоум вышел из комнаты и дал таким образом ему возможность освободиться от той полунасмешливой застенчивости, которая заменяла ему истинную скромность.
— Мама, здесь находится юная леди, которой я не был представлен.
— Ты, наверное, имеешь в виду дочку мистера Хоума? — спросила мать.
— Несомненно, сударыня, — ответил сын, — мне кажется, вы употребили весьма непочтительное выражение: о столь благородной особе я бы посмел сказать только «мисс Хоум», а не «дочка».
— Послушай, Грэм, я запрещаю тебе дразнить ребенка. Не обольщайся, я не допущу, чтобы ты сделал девочку мишенью своих насмешек.
— Мисс Хоум, — продолжал Грэм, несмотря на замечание матери, — достоин ли я чести представиться вам, поскольку никто, видимо, не намерен оказать нам с вами эту услугу? Ваш покорный слуга — Джон Грэм Бреттон.
Девочка взглянула на него, а он встал и весьма почтительно ей поклонился. Она неторопливо положила на место наперсток, ножницы и лоскуток, осторожно спустилась с высокого сиденья и, с невыразимой серьезностью сделав реверанс, сказала:
— Здравствуйте, как поживаете?
— Имею честь сообщить вам, что нахожусь в полном здравии, лишь несколько утомился от стремительного путешествия. Надеюсь, сударыня, и вы здоровы?
— Я чувствую себя удлет-удовлет-творительно, — последовал изысканный ответ маленькой леди, после чего она попыталась было занять прежнее положение, но, сообразив, что для этого придется неловко карабкаться наверх, а такого нарушения приличий она допустить не могла, как и мысли о чьей-либо помощи в присутствии постороннего молодого джентльмена, она предпочла усесться на низкую скамеечку, к которой Грэм тотчас же придвинул свой стул.
— Надеюсь, сударыня, что нынешняя ваша резиденция, дом моей матери, является достаточно удобным для вас местом пребывания?
— Не особ-не-особенно. Я хочу жить дома.
— Естественное и похвальное желание, сударыня, однако я приложу все усилия, чтобы воспрепятствовать ему. Я рассчитываю, что хоть вы немного позабавите и развлечете меня, маме и мисс Сноу не удалось подарить мне столь редкого удовольствия.
— Я скоро уеду с папой, я не задержусь у вашей матери надолго.
— Нет, я уверен, вы останетесь со мной. У меня есть пони, на котором вы будете кататься, и уйма книг с картинками.
— А вы что, будете теперь здесь жить?
— Конечно. Вам это приятно? Я вам нравлюсь?
— Нет.
— Почему?
— Вы какой-то странный.
— Разве у меня странное лицо?
— И лицо, и все. Да и волосы у вас длинные и рыжие.
— Простите, но они каштановые. Мама и все ее друзья говорят, что они каштановые или золотистые. Но даже с «длинными рыжими волосами» (он с каким-то ликованием тряхнул копной, как он сам отлично знал, именно рыжеватых волос, этой львиной гривой он гордился) я вряд ли выгляжу более странным, чем вы, ваша милость.
— По-вашему, я странная?
— Безусловно.
Выдержав некоторую паузу, она сказала:
— Я, пожалуй, пойду спать.
— Такой малышке следовало бы давно уже быть в постели, но ты, вероятно, ждала меня.
— Ничего подобного.
— Ну конечно, ты хотела получить удовольствие от моего общества. Ты знала, что я должен вернуться, и не хотела пропустить возможность взглянуть на меня.
— Я сидела здесь ради папы, а не ради вас.
— Прекрасно, мисс Хоум, но я намерен стать вашим любимцем, которого, смею надеяться, вы вскоре предпочтете даже папе.
Она пожелала нам с миссис Бреттон спокойной ночи. Казалось, она колеблется, достоин ли Грэм подобного внимания с ее стороны, как вдруг он схватил ее одной рукой и поднял высоко над головой. Она увидела себя в зеркале над камином. Внезапность, бесцеремонность, дерзость этого поступка были беспримерны.
— Как вам не стыдно, мистер Грэм! — воскликнула она с негодованием. Отпустите меня сейчас же!
Уже стоя на полу, она добавила:
— Интересно, что вы подумали бы обо мне, если бы я так же схватила вас рукой (тут она воздела свою мощную длань) за шиворот, как Уоррен котенка.
И с этими словами она удалилась.
Произведения
Критика