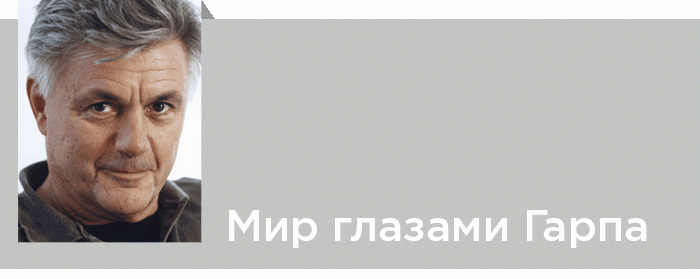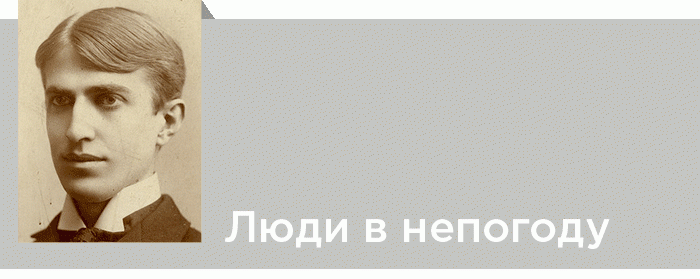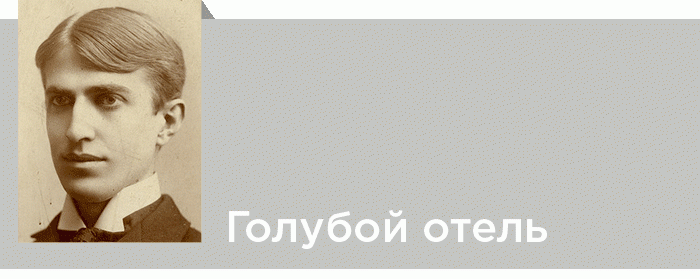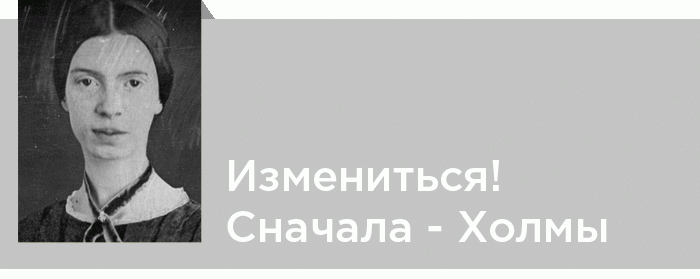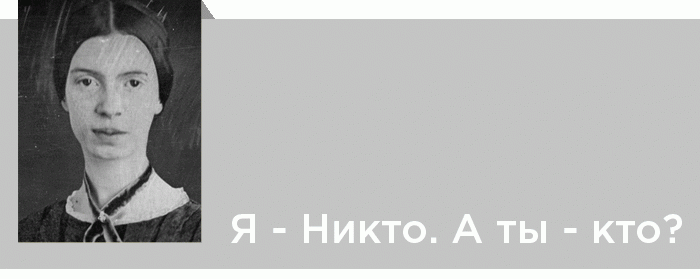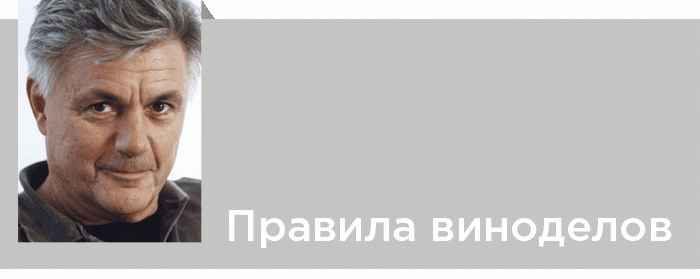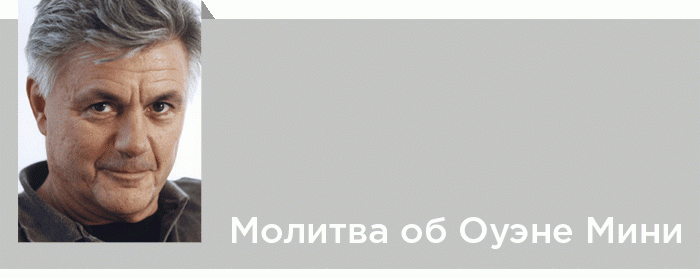Богатство «бедной» поэзии

Алексей Парин
Про одну трагическую актрису сказали: она настолько некрасива, что легче проступить душе.
Известный польский режиссер Ежи Гротовски ввел в обиход термин «бедный театр»: действо, в котором актер отказывается от помощи сценографии, музыки и шумовых эффектов.
Стихи Эмили Дикинсон можно было бы назвать «некрасивыми», «бедной поэзией» — поэтесса сознательно чуждается слишком пышных сравнений, нарядных эпитетов, рифмы ее как бы неряшливы и зачастую даже не хотят походить на рифмы, версификаторского блеска нет и в помине.
В «бедном театре» свои законы: внутренняя красота, стройность, многомерность режиссерского замысла открываются только заинтересованному, восприимчивому зрителю — именно не искушенному, а восприимчивому, тонко чувствующему движения человеческой души и ждущему духовного очищения. Таковы же требования поэзии Эмили Дикинсон к читателю, как в высказывании Киреевского, которое цитирует Пушкин: «...чтобы дослышать все оттенки... надобно иметь и тоньше слух, и больше внимания, нежели для других поэтов... верный признак поэзии, сомкнутой в собственном бытии, но доступной не для всякого...»
Ее современники — Эдгар По, Уолт Уитмен, Генри Лонгфелло, — с которыми она, по признанию современного литературоведения и всей читающей англоязычной публики, по праву стоит рядом, давно вошли в отечественную культуру. Что же помешало Эмили Дикинсон вовремя появиться не только на отечественном, но и на европейском горизонте звездою первой величины?
Во-первых, судьба. «Амхерстская затворница», проведшая всю жизнь в добровольном заключении родного дома, в захолустье, она не смогла и не захотела «вписаться» в литературный процесс Америки того времени. Не представляется столь уж важным раскапывать мелкие подробности, внешние детали этой жизни; шов между поэзией и жизнью у Дикинсон прострочен явно не здесь, это показывают ее письма: поэтические образы незаметно вырастают на ровной почве бытового разговора. Обладая цветаевской бескомпромиссностью, она отказалась ради публикации подгонять свои стихи под вкус издателей. И продолжала возводить здание поэзии в келейной тишине, ни строчки не показывая окружающим, а в последние годы жизни даже буквально не допуская к себе людей.
Громкая слава Дикинсон как первого лирического поэта Америки XIX века началась после ее смерти, да и то много лет спустя: ссора родственников из-за рукописного наследия на долгие годы отсрочила сколько-нибудь полновесную публикацию стихов. Только в XX веке стали достоянием читателей все стихи Дикинсон — в общей сложности около двух тысяч — и эпистолярная проза.
Зато наш век оказался к ней по справедливости щедрым — в Америке и Англии стихи выходят и в солидных академических и в массовых изданиях, они переведены на все основные европейские языки и занимают в антологиях американской поэзии одно из самых почетных мест.
Во-вторых, своевременному восхождению Дикинсон на поэтическом небосклоне помешали особенности творчества, с разговора об этом я и начал рецензию.
У Эмили Дикинсон — «поэзия, сомкнутая в собственном бытии»; она принадлежит к поэтам, которых Цветаева называет «высокими», в отличие от «великих». «Великие» всеохватны, многомерны, из них — Гете. «Высокие» концентрированы на одной грани и в чистой лирике зачастую превосходят великих. В сообществе «высоких» поэтов рядом с Дикинсон — Гельдерлин, Клейст, Донн, Баратынский, Мандельштам. Самодовлеющая целостность художественного мира, особость связей между вещами и логики их взаимодействия сочетаются здесь с мощным темпераментом, сознательным самоограничением и упрямым, фанатическим движением вверх. Художник подчиняется воле своего поэтического гения, пишет как бы под диктовку — отсюда характерная для «высокого» поэта орфичность, некоторая невнятность, внутреннее убеждение в том, что в момент творчества он выше самого себя. Однако невнятность эта у любого настоящего поэта кажущаяся — и он сам вначале и читатели при первом чтении изумляются своеобразию видения, и это изумление мешает взять в толк глубинную суть и, в частности, понять смысл сравнения, которое, по словам Мандельштама, «никогда не диктуется нищенской логической необходимостью».
Итак, перед, нами книга стихов Эмили Дикинсон в переводах крупнейшего нашего мастера Веры Марковой.
До сих пор стихи Дикинсон печатались у нас несколько раз в журналах и в томе «Библиотеки всемирной литературы» вместе с «Листьями травы» Уитмена и «Песнью о Гайавате» Лонгфелло. Вера Маркова и ныне покойный ленинградский переводчик Иван Лихачев, не убоявшись сложности задачи и не подгоняя любимого поэта под усредненные вкусы, первыми привели к нам Эмили Дикинсон.
Кратко говоря о творчестве Дикинсон, я намеренно не касался ни тем, ни образной системы поэтессы — для нас стихи обрели живую плоть благодаря мастерству и таланту переводчика и только рядом и в связи с переводами могут обсуждаться.
Очень показателен отбор стихов для этой небольшой книжечки. Вера Маркова знает тайны поэтического монтажа — не отступая от канонического порядка, она выбирает стихи так, что они вступают в непосредственное взаимодействие, общаются друг с другом. Книжка является моделью всего творчества Дикинсон, самодовлеющего и замкнутого, с лейттемами и узловыми словами-понятиями.
Тема одиночества как служения высокому — пожалуй, главная.
Друзей тенистых в знойный день Найти немудрено —
Но кто несет тебе тепло В час Мысли ледяной!
Кисейная душа дрожит — Чуть пробежит струя —
Но если твердое Сукно Прочней, чем Кисея —
Кого винить! Прядильщика! О — пряжи трудный жгут!
Ковры для райского села Так неприметно ткут.
Внутри этой темы сталкиваются высокое и повседневность, и столкновение это благодаря крупномасштабному видению поэтессы, благодаря сверхранимости — сродни той, которая заставляет умереть феллиниевскую Джельсомину от увиденного воочию «обыкновенного» убийства, — достигает уровня трагического конфликта.
Как странно — быть Столетьем! Люди проходят — а ты —
свидетель — И только! Нет — я не так стойка —
Я умерла бы наверняка.
Все видеть — и ничего не выдать! Не то еще вгонишь в краску
Наш застенчивый Шар земной — Его так смутит огласка.
Стальная воля непреклонного человека противостоит «требованиям времени», логике сиюминутного. Часто возникают жесткие, суровые интонации:
Дыба не сломит меня —
Душа моя вольна.
Кроме этих — смертных — костей
Есть другие — сильней.
Частые слова здесь «холод», «холодок», едва ли не главным словом является «молния» — она неистребима, электрический разряд пронизывает каждую минуту существования. Спокойно и сухо описывает поэт это постоянное нахождение «под напряжением»:
Я думала — Молния — миг — Безумное — быстро «прочь». Небеса проглядели ее И забыли — на вечный срок.
Скорбь, жажду духовного родства, человеческое тепло, горькие слезы заключают здесь в простые, неброские слова, между которыми, несмотря на все усилия, то и дело проблескивает электрическая вспышка.
Но в этом мире умеют радоваться многому. Малиновки, жуки, гусеницы и прочая живность так упоенно наслаждаются жизнью в стихах, что явно обнаруживают сердечность, нежность поэта, которая никогда не превращается в сентиментальность. С долей иронии смотрит на себя Дикинсон в момент сосредоточенного чтения:
Замшелая радость книжной души
Встретить старинный том
В доподлинном платье далеких лет.
Честь — побыть с ним вдвоем —
Его почтенную Руку взять — Согреть пожатьем своим —
Вместе уйти в те времена — Когда он был молодым...
Снова и снова возвращается тема «высокого одиночества». До самых последних стихов то глуше, то отчетливей звучит этот мотив. И мы в который раз осознаем, что речь идет не о человеческом одиночестве, которое хоть и страшно, но все же расположено на уровне драмы, а о трагическом одиночестве художника, которого делает одиноким дар слова, глубина видения...
Я ступала с доски на доску — Осторожно — как слепой —
Я слышала Звезды — у самого лба —
Море — у самых ног.
Казалось — я — на краю — Последний мой дюйм — вот он...
С тех пор у меня неуверенный шаг —
Говорят — житейский опыт.
Главную свою тему Дикинсон реализует в разных образных сферах. Так называемой любовной лирики у нее почти нет, есть стихи о напряженном взаимодействии двух сильных личностей, о столкновении воль, причем основной акцент стоит на духовном компоненте чувства. Напротив, в стихах о природе связи с внешним миром более непосредственны, растения и живые твари наделяются мельчайшими индивидуальными черточками, и контакт с ними более теплый, мягкий. Полнокровному, пульсирующему миру живой природы противостоит Смерть, которая как воплощение одиночества неодолимо влечет мысли поэта. Дикинсон в самом неожиданном месте вдруг как бы вскидывает взгляд и видит на заднем плане смерть. Но не мрак и ужас несет поэту этот неотступный фантом, а напоминание о внутреннем долге, о необходимости пронести через всю жизнь высокий идеал служения прекрасному. Как говорили когда-то, sub specie aeternitatis — под знаком вечности — проходит каждый миг жизни для поэта. Есть в арсенале «жанров» у Дикинсон и психологический портрет и стихотворение-новелла с пунктирно прочерченным сюжетом, есть и стихотворение-диспут, где, как в споре схоластов, теза и антитеза сталкиваются в своей наготе...
Я нарочно много цитирую и стараюсь лишь чуть-чуть комментировать стихи, мне хочется, чтобы заодно выявилась и «манера речи» Эмили Дикинсон. Манера, которая существует по-русски в виде манеры речи Веры Марковой. Вольно или невольно каждый крупный поэт-переводчик в своей неслучайной, выношенной, программной работе — а именно такой является эта работа для Марковой — реализует свое представление о том, «какой должна быть поэзия». И весь вопрос в том, насколько эти представления совпадают у поэта переводимого и поэта переводящего.
Сказать, что переводы Марковой выстраиваются в цельную замкнутую систему и обладают подлинной художественной убедительностью — значит сказать мало.
В многочисленных и разнообразных японских переводах, прозаических и стихотворных,— от старинных «Записок у изголовья» до современных поэтов — Маркова всегда погружает читателя в атмосферу высокой литературы, с первых же строк вас всегда обдает волна самобытности и художественной цельности. Перефразируя Дикинсон с ее стихом «У света есть один наклон...», можно сказать, что у языка есть такой наклон — известный Вере Марковой, — который позволяет ей, как актеру современного театра, верно, убедительно воссоздавать облик переводимого автора и одновременно выражать свое представление об искусстве.
Анализировать переводы Дикинсон можно и в широком контексте и пословно — всюду мы видим и формообразующий взгляд с расстояния и микроскопическую отделку каждого штриха.
Маркова на редкость строго воспроизводит особенности рифменной системы Дикинсон. В большинстве случаев если у Дикинсон рифмоид или консонанс, — то же у Марковой, если у Марковой точная рифма, — найдете точную у Дикинсон. Вообще-то наше ухо плохо воспринимает консонансы, а неточные рифмы и рифмоиды ассоциирует с плохой, неглубокой, во всем «неряшливой» поэзией. Но здесь поле духовного напряжения оказывает свое магическое действие и на «технологические» детали. Вернусь к сравнению, приведенному вначале, — это то самое некрасивое лицо, на котором легче проступить душе. Как сказано у Заболоцкого: «Есть лица, подобные пышным порталам, где всюду великое чудится в малом...»
Впрочем, есть одна черта в системе Марковой, которая позволяет ей походя убедить нас в художественной необходимости «неряшливой» рифмовки. Это фанатическая приверженность гармонизации звукового строя, тончайшая эвфоническая настройка стиха. Тут не только прямые аллитерации, которых много у Эмили Дикинсон и которые в англоязычной поэзии ведут свое происхождение из глубин средневековья, но и перекличка звуков более высокого порядка, оркестровка в истинном смысле этого слова. Такая организация сама по себе придает стиху особую емкость и глубину, и именно она делает органичным самый смелый образ, самое резкое сравнение.
Иногда Маркова бывает даже более требовательной к читателю, чем Дикинсон. У Дикинсон (подстрочник): «Воде научаются жаждой, суше — пройденными океанами»; у Марковой: «Воде учит ссохшийся рот, земле — пустой горизонт...» Марковский образ во второй строке требует большего усилия от читателя. Иногда поэт-переводчик чуть заметно перекраивает стихотворение, приберегая смысловой удар напоследок и акцентируя самое важное для нее слово. В стихотворении «Ликование Свободы...» у Дикинсон слово «вечность» — в пятой строке. Тут Маркова, наоборот, как бы старается помочь читателю не упустить главное и раскрывает финальный образ, перемещая «вечность» в последнюю, девятую строку: «...Мы росли в кольце долины. //Разве моряки поймут// Упоенье первой мили — //Первых Вечности минут?». Интуиция художника заставляет применять здесь логику большого контекста.
Сопоставляя «способы выражения» Эмили Дикинсон и Веры Марковой, мы убеждаемся, что переводимый поэт выбран переводящим не случайно — представления о том, «какой должна быть поэзия», у них во многом совпадают. Новая книга — подлинное художественное открытие. Более того — наше восприятие художественной системы Эмили Дикинсон в переводах Марковой во многом совпадает с восприятием оригинала англоязычными читателями, лишь сравнительно недавно открывшими для себя замечательного лирического поэта Америки XIX века. Достигается та самая прагматическая адекватность, о которой недавно писал С. Гончаренко (в книге «Испанская поэзия в русских переводах») и которая так редко в наше время достигается в переводах классики.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1981. – № 4. – С. 54-56.
Произведения
Критика