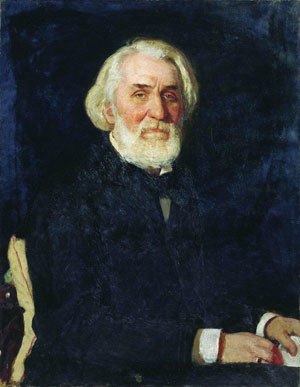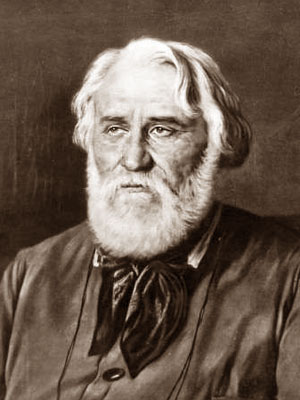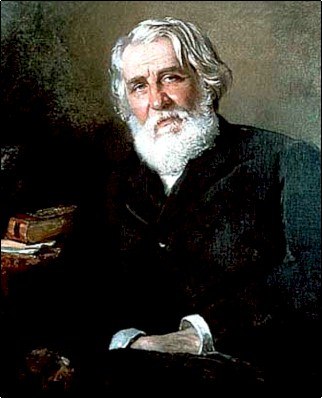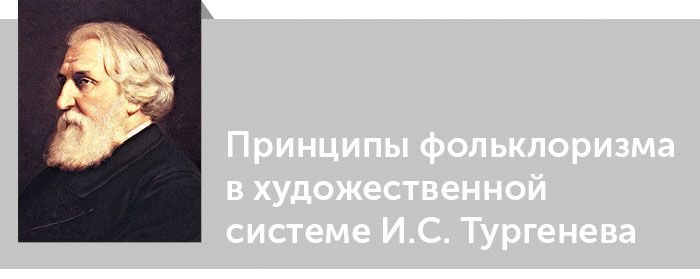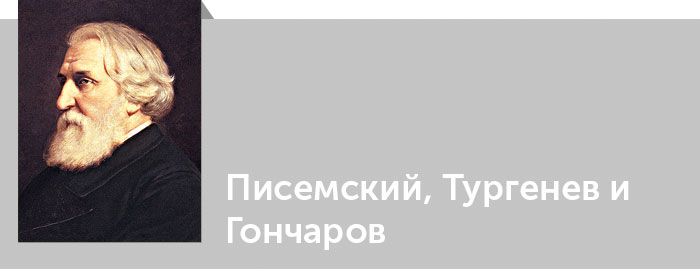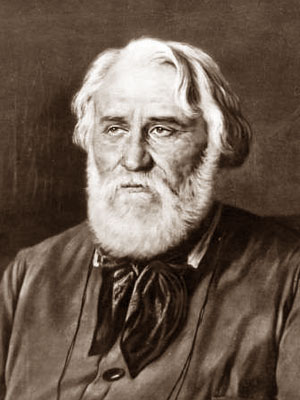Восточные мотивы в творчестве Тургенева
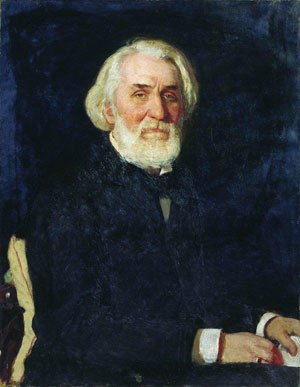
Н.Н. Мостовская
Мир Востока, на первый взгляд, далек от творческих интересов Тургенева — «неисправимого западника». На Востоке ему побывать не удалось.
Но ведь Тургенев не посетил и Греции, а судя по его очерку «Пергамские раскопки», был знатоком античной культуры. (Раскопки производились в 1876— 1879 годах в Мизии, Турция.) Известно, что современники считали Тургенева «неприлично образованным для писателя» (слова Л. Толстого). И потому едва ли справедливо высказанное в литературе мнение, что Тургенев знал Восток только по «художественным произведениям современной ему романтической, главным образом, русской литературы».
Первые основательные сведения о Востоке писатель получил в Петербургском университете, где профессором арабистики был О.И. Сенковский, знаток персидской и турецкой филологии, истории стран Ближнего Востока. Затем в Берлинском университете, посещая лекции востоковеда К. Риттера, автора фундаментальных трудов «Землеведение Азии» (1867), «Иран» (1874), посвященных мусульманскому Востоку.
О К. Риттере Тургенев оставил письмо-воспоминание, включенное впоследствии известным ориенталистом и другом Тургенева Н.В. Ханыковым в предисловие к труду Риттера «Иран», который он готовил в 1865 году к печати. Судя по переписке с Н.В. Ханыковым, писатель с интересом следил за его востоковедческими занятиями, в том числе за его переводческой и комментаторской деятельностью в связи с подготовкой персидской части «Книги Марко Поло». Возможно, от Ханыкова Тургенев узнал историю азербайджанского поэта из Ирана Фазил-хана Шейда, помощника Ханыкова во время его экспедиций на Кавказе в 1846-1852 годах. В некрологе Фазил-хана, написанном Ханыковым (1852), упоминался интересовавший Тургенева эпизод из биографии азербайджанского поэта: он находился в свите принца Хосров-мирзы, посланного в 1829 году в Петербург с извинительной миссией в связи с трагической гибелью Грибоедова. О встрече с ним писал Пушкин в «Путешествии в Арзрум». (Эпизод этот использован в рецензии Тургенева на драму С.А. Гедеонова «Смерть Ляпунова».) Тургенев мог знать и труд Ханыкова «Описание Бухарского ханства» (СПб., 1842), переизданный в Лондоне в 1845 году. Читал он и его статью «Самарканд (Рассказ очевидца)», опубликованную в 1868 году в «Русском инвалиде», давшую ему повод шутливо называть Ханыкова «губернатором Самарканда».
Культуру Востока, идею западно-восточного синтеза Тургенев осваивал, занимаясь философией Гегеля, изучая Гердера, в философских штудиях и спорах в кружке Грановского, Станкевича, где живо интересовались историей Востока, буддизмом. Немалое внимание восточным сюжетам уделялось и в обществе братьев Гонкур, на «обедах пяти», постоянным участником которых был Тургенев. Проблема Востока обсуждалась и во время встреч в 70-е годы с французским ориенталистом Жюлем Молем, успешно работавшим в области арабской и персидской филологии.
Сведения о восточной культуре, о местном фольклоре и литературе Тургенев мог получить и от пастора-англичанина Джеймса Лонга, с 1846 года жившего в Индии в качестве миссионера. Возвратившись через двадцать пять лет из Калькутты, Д. Лонг отправился в Россию с рекомендательными письмами Тургенева к своим московским друзьям. По-видимому, Тургеневу была известна и «География» древнегреческого историка и географа Страбона в семнадцати книгах, изданная в России в 1879 году в переводе с древнегреческого и с предисловием Ф.Т. Мищенко. Книги 3-6 «Географии» были посвящены Италии, Сицилии, Галлии, Испании, Британии; книги 12-14 — Малой Азии (Индии, Ирану, Египту). Страбон мог привлечь автора «таинственных» повестей богатством сведений, в том числе и фольклорных. Здесь же сосредоточено и обилие восточной экзотики, увиденной глазами путешественника и географа. Если продолжить разговор о круге чтения Тургенева, то нельзя не упомянуть восточную драматургию Вольтера и «Персидские письма» Монтескье, новеллы Мериме («Джуман»), рассказы Э. По, философские сочинения Паскаля («Мысли») и Шопенгауэра («Мир как воля в представление»), корнями своими уходившие в философские учения Востока.
Восток Тургенев знал и по первоисточникам. К ним прежде всего относится Священное писание ислама — Коран. Сообщая П. Виардо в 1849 году о прочитанном и продуманном в короткий период жизни в Куртавнеле, он писал: «Я только что начал его читать. В этой книге есть величие и здравый смысл; но предвижу, что восточная напыщенность и неясность пророческого языка мне скоро прискучат». Высказывание это знаменательно: наряду с признанием величия памятника мировой культуры в нем содержится и характерная для Тургенева-художника известная настороженность, точнее неприятие преувеличенной выспренности («напыщенности») восточного стиля. (Читал Тургенев Коран, по-видимому, во французском переводе М. Казимирского (1846), считавшемся лучшим.) Не случайно в этом же письме, пересказывая содержание труда Дама-Инара о Наполеоне, Тургенев иронически характеризует правительство Наполеона так: «...он организовал власть, правительство, этот отвратительный призрак, который бессилен что-либо произвести, пустой и глупый, со словом Порядок на устах, с саблей в одной руке и с золотом в другой, всех нас давящий своими железными ногами. Черт возьми! что за восточный образ! Отличный переход к Корану» (там же).
Постижению восточной культуры, восточной поэзии способствовало и хорошее знание Тургеневым творчества персидского поэта Хафиза, причем знание самостоятельное, а не только через посредничество «Западно-восточного дивана» Гете. В 1859 году писатель подарил А. Фету собрание стихотворений Хафиза в вольном переводе немецкого поэта Г.Ф. Даумера (1856), порекомендовав ему заняться русским переводом. И хотя Даумер «не переводил Хафиза, а сочинял в его духе», все-таки это был Хафиз. Не исключено, что Тургеневу были известны и другие переводы Хафиза, в частности перевод с персидского подлинника, выполненный О.И. Сенковским. Впоследствии Тургенев заинтересованно читал, тщательно редактировал фетовские переводы-перепевы, ревностно пропагандируя персидского поэта в России. Сообщая Фету осенью 1859 года свои замечания по поводу его переводов, Тургенев заметил, что отвергает «незначительные и могущие только охладить на первых порах публику к Гафизу, которого она не знает и которого надобно ей представить так, чтобы он ее завоевал, чтобы она его учуяла...». В другом письме Тургенев одобрил Фета: «Но сколько я мог заметить — в тон Гафиза Вы попали».
«Попасть в тон Гафиза» Фету помог и Гете, автор «Западно-восточного дивана». Эпиграфом из гетевской «Книги Хафиза» он воспользовался в качестве эпиграфа для своих переводов («Из Гафиза»), опубликованных во 2-м номере «Русского слова» за 1860 год. Имеются в виду известные стихи в переводе Фета:
Девой — слово назовем, Новобрачным — дух: С этим браком тот знаком, Кто Гафизу друг.
У Гете они звучат несколько иначе:
Как невеста, Слово ждет,
Дух — его жених;
Брак их знает, кто поет,
О Хафиз, твой стих.
Вместе с тем оба варианта воспроизводят иносказательность восточного языка, своеобразный культ Слова, присущий и Хафизу, и Гете. Не случайно эти стихи Гете, как и многие другие из «Западно-восточного дивана», часто цитируются Тургеневым в письмах, статьях и художественных произведениях.
Если вспомнить, что писатель называл себя «заклятым гетеанцем», гордился тем, что «тверд в Гете», то «Западно-восточный диван» должно отнести к числу важнейших источников, которыми он пользовался, осмысляя Восток как эстетическую и мировоззренческую проблему. (Читал Тургенев книгу Гете в немецком издании 1819 года.)
С поэтической интуицией, неоднократно отмечаемой Тургеневым, Гете постиг здесь суть восточной культуры глубже, чем многие специалисты-востоковеды его времени. Как явствует из переписки с Фетом, Анненковым, писатель восхищался и Гете-поэтом, и его статьями и «примечаниями», в которых он выступал как исследователь восточной поэзии во всех ее характерных чертах. Созвучна была Тургеневу-художнику и гетевская мысль о сближении прошлого и настоящего во всей непреодолимости их различий. Ему был близок общечеловеческий смысл книги Гете, сформулированный поэтом в словах, заимствованных из Корана: «Богу принадлежит и Восток, Богу принадлежит и Запад» (Коран, сура 2, ст. 110), Известно, что общечеловеческое содержание культуры — одна из центральных идей самого Тургенева. Ею проникнуто все его творчество (в том числе и критическое отношение к доктрине славянофилов, противопоставлявших Восток и Запад). По-видимому, в этом многомерном созвучии и глубоком духовном родстве двух художников кроется также и «загадка» тургеневского определения себя как «заклятого гетеанца». Она заключается не только в стремлении постичь немецкого классика и тем самым как бы «снять его „заклятье"», но и в признании духовной близости, и в восхищении глубиной и правотой его идей. Кстати, семантика слова «заклятый» вбирает в себя такие понятия, как страстный, рьяный, завзятый, — понятия, акцентирующие согласие и неодолимую привязанность.
То, что Тургенев часто цитировал «Западно-восточный диван», известно. И дело здесь не в пристрастии художника к литературным аллюзиям и реминисценциям. Отблеск глубокого восприятия этой книги Гете лежит и на его восторженных оценках восточных стихотворений Пушкина («Подражания Корану»), «От восточных стихотворений я прихожу в восторг несказанный», — писал он Анненкову в 1853 году. «Перечитайте их. — Я от них безумствую», — сказано в письме к С.Т. Аксакову.
Пушкин и Восток — особая тема. Мимолетно ее касаться невозможно. Однако нельзя не заметить, что Тургенев, хорошо знавший Пушкина, в том числе его произведения, отмеченные проникновением в суть восточной тайнописи, иносказаний (стихотворение «Из Гафиза», открывающее кавказский цикл стихов поэта, цикл «Подражания Корану», его поэмы «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник» и многое другое), несомненно учитывал и пушкинское видение Востока, его поэтический опыт: своеобразный пушкинский западно-восточный литературный синтез. Очевидно, осмысление гетевской концепции мирового литературного процесса происходило у Тургенева с опорой и на Пушкина.
Поиски конкретных источников, обстоятельств, причин обращения Тургенева к Востоку можно было бы продолжить. Это специальная и неисследованная проблема.
По-видимому, в художественном сознании писателя с Востоком ассоциировались не только экзотическая лексика, таинственное, романтическое, ставшие традиционными в русской литературе начала века, хотя восточная стилистика (кавказский колорит) присутствует в его рассказе «Отчаянный», восточный эпизод включен в «Историю лейтенанта Ергунова», стилизацией восточной притчи являются стихотворения в прозе «Восточная легенда», «Брамин» и другие произведения. И в быту Тургенев иногда обращался к восточному стилю: Н.В. Ханыкова, например, за его толщину он называл «индийской пагодой».
Восточные мотивы как эстетическая категория (стилизация, экзотика и другие художественные элементы) — это один круг вопросов, наиболее традиционный. Начиная с поэтов-романтиков Восток в русской литературе осмыслялся преимущественно под этим углом зрения.
Но есть и другой Восток, осознаваемый Тургеневым как философская система, как исконный феномен живой истории, неразрывно связанный с античностью и европейской культурой. Восток как тема духовная — одна из граней гетевской концепции западно-восточного синтеза — нашел отзвук и в творчестве Тургенева. В этой связи особый интерес представляет «Песнь торжествующей любви», начатая в 1879 году и завершенная через полтора года.
В литературе эту «таинственную повесть» традиционно связывают с интересом Тургенева к итальянской истории и культуре. Резон в этом есть: повествование ведется в форме изложения содержания «одной старинной итальянской рукописи», в которой рассказывается о странном, таинственном событии, происшедшем в итальянском городе Ферраре в эпоху Ренессанса, в XVI веке. Да и сам Тургенев, называя «Песнь» по-разному: «итальянской легендой», «итальянским пастиччио», «фантастическим рассказом», как бы давал к тому повод. В то же время нельзя не заметить, во всех авторских определениях в большей мере акцентировалась причудливость, необычность жанра, чем итальянский колорит. Тем более что в «Песни» мощно звучит и восточная тема, причем не только в качестве ориентальных мотивов, деталей, обрамления, стилизации. Все эти элементы выполняют в поэтике «итальянской легенды» существенные художественно-структурные функции, изменяя ее тональность и смысловые акценты.
Внешне сюжет этой возвышенно-поэтической легенды предельно прост: двое юношей (Фабий, живописец, и Муций, музыкант) влюблены в красавицу Валерию. По воле матери ее отдают в жены Фабию. Муций отправляется в «дальние путешествия на Восток», чтобы исцелиться от неразделенного чувства. Эпизод ассоциативно связан с гетевскими строками в «Западно-восточном диване»:
На Восток отправься дальний Воздух пить патриархальный...
прочно вошедшими в русскую поэтическую культуру в стихотворениях Тютчева, Фета.
Исцеления не произошло. Через пять лет Муций возвращается в Феррару с несметными восточными богатствами («самое употребление которых казалось таинственным и непонятным»), с рассказами о чудесном и загадочном Востоке, овладев искусством магии, заклинанием змей и т. д. Он, музыкант, привозит с собой таинственные восточные мелодии, народные песни. Одна из них, «дивная песня», обладающая гипнотическим свойством, звучит в повести трижды, являясь ее лейтмотивом и символом одновременно. «Песнь» пронизана духом восточной мифологии, преданий, легенд. Ощутимо в ней и авторское проникновение в поэтику восточной словесности. Достигается это и стилизацией, и ритмикой однотипных повторяющихся фраз (в частности, в перечне даров, «десятков сундуков», привезенных героем с Востока), и многофункциональной символикой. Последнее — одна из характерных примет восточной стилистики.
В повести обыгрывается магическое свойство вещей-символов, музыки-символа. Богатое жемчужное ожерелье, которое Муций преподносит Валерии, показалось ей «тяжелым и одаренным какой-то странной теплотой... оно так и прильнуло к коже». И получено оно Муцием от персидского шаха «за некоторую великую и тайную услугу» (там же). «Страстная мелодия», исполняемая Муцием на индийской скрипке, обтянутой змеиной кожей, также наделена магической силой: «...и таким огнем, такой торжествующей радостью сияла и горела эта мелодия, что и Фабию и Валерии стало жутко на сердце, и слезы выступили на глаза...».
Чудодейственная сила музыки углубляется сравнением с магическими предметами. По народным поверьям Востока жемчужное ожерелье и алмаз на конце смычка скрипки («как бы тоже зажженный огнем той дивной песни») обладают таинственной способностью притягивать. Сравнение мелодии Муция со змеей («полилась, красиво изгибаясь, как та змея») тоже восходит к старинным преданиям (в том числе восточным) о змее-искусительнице, наделенной сверхъестественными, колдовскими чарами. Ширазское вино таинственно искрилось, «загадочно блестело», «выпитое медленно, небольшими глотками, возбуждало во всех членах ощущение приятной дремоты».
Все эти художественно-образные детали в известной мере ассоциируются с газелями Хафиза, а возможно, и навеяны ими. Приведу некоторые аналогии. У Хафиза:
Мне вечор музыкант, — да утешится он! —
Дух свирелью смутил, дух мой ввергнул в полон.
Всей тоскою людской тосковала свирель,
И на мир ниспадал ее трепетный стон.
В «Песни» упоминаются и тоскливые, заунывные мелодии Востока, которыми овладел Муций. Перекликаются с тургеневским текстом почти дословно и другие стихи Хафиза:
Он восторг мой постиг, он подлил
мне вина, И я молвил, ища в чаше сладостный сон...
исполненные недоговоренности, намеков, иносказаний.
Поиски текстуальных соответствий можно было бы продолжить. Важно другое. Символикой музыки — «дивная» восточная мелодия («песнь торжествующей любви»), играющая в повести доминантную смысловую и композиционную роль, — Тургенев владел искони. Достаточно напомнить рассказы «Бежин луг», «Свидание», «Певцы», «Живые мощи» («Записки охотника»), в которых поэтическое слово выполняло функции музыки, и наоборот, рассказ «Три встречи», пронизанный музыкой, символизирующей духовное единение двух любящих и создающей тревожный, таинственный колорит повествования, и особенно «Дворянское гнездо». Эпизод, когда Лемм вдохновенно исполняет «свою чудную композицию» («дивные, торжествующие звуки»), услышанную Лаврецким неожиданно (после свидания и объяснения с Лизой), является кульминацией трагической темы несбыточности счастья в романе — темы, ведущей в творчестве Тургенева. Функционально эпизод этот, пусть и трансформированный, стал своеобразной автореминисценцией в «Песни».
Приведу текст из «Дворянского гнезда»: «Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного: сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце; она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою, она росла и таяла; она касалась всего, что есть на свете дорогого, тайного, святого; она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса. Лаврецкий выпрямился и стоял, похолоделый и бледный от восторга. Эти звуки так и впивались в его душу, только что потрясенную счастьем любви; они сами пылали любовью. „Повторите", — прошептал он, как только раздался последний аккорд».
И для героев «Песни» Фабия и Валерии сильные магические звуки торжествующей восточной мелодии неожиданны; они потрясены ими внезапно. Но в отличие от стилистики «Дворянского гнезда», где музыкальная образная стихия служит для психологической характеристики душевного состояния Лаврецкого и Лемма, в повести Тургенева она звучит как загадка («Что это такое? Что ты нам сыграл?»). После вежливого ответа Муция: «Эта песнь слывет там (на острове Цейлоне), между народом, песнью счастливой, удовлетворенной любви» — следует явная автореминисценция из «Дворянского гнезда»: «„Повтори", — прошептал было Фабий». И в «итальянской легенде» этот музыкальный эпизод выполняет функцию своеобразной экспозиции, предопределяющей таинственный настрой повести и в известной степени ее завязку. По сделано это иначе, иными поэтическими средствами.
Было бы ошибочным истолковывать слишком прямолинейно отмеченное сходство, тем более что «чудная композиция» Лемма согрета грустной, но светлой тональностью, а музыка в «Песни» полна чувственного упоения, характерного для восточных мелодий. Однако и в том и в другом произведении язык музыки не только композиционно цементирует повествование, но определяет его тон, подтекст и финал. В «Песни» же он усиливает символику загадочности, недосказанности, мистического.
В литературе уже отмечалось, что на жанр повести, ее стилистику повлияла работа Тургенева над переводом на русский язык «Легенды о Св. Юлиане Милостивом» (1877) и «Иродиады» (1877) Флобера. В предисловии к своим переводам Тургенев писал о «яркой и в то же время гармонически стройной поэзии этих легенд», называя их «переданной прозой поэмой». Известно, что Тургенев замышлял в 1874 году большую работу о Флобере. Сохранился лишь черновой набросок — отклик на «Искушение Св. Антония». Здесь содержится характерное наблюдение, имеющее прямое отношение к стилю и поэтике этого произведения, которое писатель назвал «фантастической поэмой в прозе». Определение это вполне применимо и к художественному миру тургеневской повести, в поэтике которой ощутимо и соприкосновение с романом Флобера «Саламбо» (1862), исполненным экзотических сцен, бурных страстей (роман на тему о борьбе Древнего Рима с Карфагеном). И это естественно: «Песнь» посвящена памяти Гюстава Флобера.
С посвящением вполне сочетается несколько неожиданный, на первый взгляд, эпиграф из стихотворения Шиллера «Текла»: «Дерзай заблуждаться и мечтать!». Строки из мира высокой поэзии, приоткрывающие замысел автора, задают эмоциональный, загадочный настрой повествования, подразумевают противостояние будничному, тривиальному и в то же время взаимодействуют с посвящением. Ведь духом восточной мистики, необычного овеяны и названные легенды французского писателя, и его роман «Саламбо». Однако дело вовсе не в поисках сходства отдельных ситуаций в «Песни» с флоберовскими. К этой проблеме обращалась еще современная Тургеневу критика, привлекала она и внимание литературоведов.
В поэтике повести прослеживается и дань восхищения мастером стилизации и существенные приметы, характерные для стилевых поисков позднего Тургенева. Не случайно жанр «Песни» не поддается традиционно строгому определению, а самим писателем это произведение называлось по-разному (в том числе «пастиччио»), столь причудливо переплетаются в нем особенности легенды и сказки, поэзии и прозы, научно-философские раздумья и мир музыки.
Таинственный Восток, привезенный Муцием, вполне реальный, настолько художественно конкретны его приметы в повести: странные напитки, немой малаец, пряные запахи, ковры, парчовые одежды, шелковые ткани, блюда, золотые и серебряные вещи, рассказы о чудесных странах и городах, о «живом Боге, по имени Далай-Лама, обитающем на земле во образе безмолвного человека с узкими глазами» и т. д. Все это не только окружает героев в рассказах и воспоминаниях, но проникает и в их подсознание, вселяет в них ожидание фатального, неизбежного, и в то же время ассоциируется со сказкой («...чем-то сказочным веяло от одних их имен»). «Предметная археология» (выражение Л.В. Пумпянского) существует у Тургенева не ради экзотики. Ею создается перспектива далеких цивилизаций с их неразгаданностью.
Таинственность повести усиливается и включением в ее художественную ткань необычных снов, явлений гипноза, сомнамбулизма, выполняющих сложную концептуальную функцию. С одной стороны, в идентичных снах Валерии и Муция как бы продолжается развитие событий. Они существуют как сон-явь. Во сне происходит то, что должно было случиться наяву, но не реализовалось. И здесь косвенно ощутимы отзвуки хафизовских строк: «Назначаю свидание тебе в видениях сна». С другой — в сновидениях происходит то, что остается как бы за кадром повествования.
Сны героев — Валерии и Муция воссозданы в символических восточных тонах: восточная мелодия, комната, убранная по-восточному, «по углам едва заметно дымятся высокие курильницы, представляющие чудовищных зверей», «дверь, завешенная бархатным пологом», «парчовые подушки», «таинственный свет» и т. д. (аксессуары необычного сна Валерии, воспроизведенного в тексте непосредственно). Все это насыщает поэтический строй повести игрой, иносказаниями, намеками, полутонами, недосказанностью — приметами ориентальной стилистики, присущей поэзии Хафиза, восточным сказкам. Восточная художественная конкретика обыгрывалась и в рассказах Муция о своих странствиях по Индии, Персии, Аравии, Китаю и Тибету. Уже сам прием повтора (характерный для восточных легенд и сказаний) нагнетает загадочный колорит «Песни». Вместе с тем ассоциативно он связан и с рассуждением героя о снах в неоконченной повести Тургенева «Силаев», задуманной, по-видимому, в 70-80-е годы: «Я не знаю (...) почему говорят: „Сон. Я это видел во сне". Не все ли равно, что во сне, что наяву? Да и что видишь во сне, что наяву — это трудно сказать».
Природа и художественная роль снов в творчестве Тургенева занимают литературоведов давно. Их связывают и с естественнонаучными интересами писателя, и с выяснением корней мистического в его позднем творчестве, и с традициями общеевропейской литературы, с которыми так или иначе совпадали собственные поиски Тургенева. Оставляя в стороне эту проблему, требующую самостоятельного исследования, заметим: несмотря на явный условно-аллегорический характер множества сновидений в романах («Накануне», «Отцы и дети»), повестях и рассказах («Живые мощи», «Фауст», «Три встречи», «Сон», «Призраки», «Довольно», «Чертопханов и Недопюскин», «Конец Чертопханова», «Клара Милич», «Силаев»), «Стихотворениях в прозе», их поэтическая функция, связанная с концепцией каждого из этих произведений, всегда оставалась многозначной. Различными были как истоки этой эстетической категории, так и ее художественное воплощение. Так, в «Песни» Тургенев по-своему воспользовался формой давно забытой новеллы-легенды, новеллы-сказки с ее фантастическим ореолом, недоговоренностью, множеством смыслов. В этой связи мотив сна (так же, как и тема музыки), на котором зиждется сюжетный механизм повести, ее образно-эмоциональное наполнение, соприкасается как со сказочными сновидениями, так и с литературными в стиле романтических новелл Э. По.
Исследователи, писавшие о «Песни торжествующей любви», давно заметили, что в процессе доработки этой повести в 1881 году изменению подверглись не столько ее сюжет, сколько тональность и финал, в котором исчезает беспросветная мрачность, нет гибели героев (оживление Муция магическими заклинаниями слуги-малайца, смутное воспоминание Валерии о сновидении). При всей загадочности, недосказанности финал окрашен в светлые, умиротворенные тона, а все трагическое, тревожное как бы уходит в подтекст, приближая тем самым «Песнь» к «Стихотворениям в прозе». В окончательном тексте тургеневской повести больше гармонической соразмерности, мифологических аллюзий, среди которых выделяются восточные сказания, библейские предания об искушении праведников дьявольскими наваждениями. В легенде пусть мимолетно, но звучит тема греха и нравственного долга. После «страшных» сновидений Валерия обращается к своему духовнику, который «отпустил ее невольный грех», подумав про себя: «Муций и прежде, помнится, не совсем был тверд в вере, а побывав такое долгое время в странах, не озаренных светом христианства, мог вынести оттуда заразу ложных учений...» Он же нашел простое объяснение смятенности Валерии: «Колдовство, чары бесовские... это так оставить нельзя».
В связи с этим особый интерес представляет эпизод об исчезновении «чистого, святого выражения» на лице Валерии (после ее первого сна), когда Фабий рисовал ее портрет в образе святой Цецилии. Лишь едва заметный штрих: «святость» святой Цецилии (о портрете Валерии в «Песни» говорится трижды) — обретает в повести знаковый характер, создает ее тревожный настрой. Портрет героини (точнее, прикровенная аналогия со святой) так же, как и восточная мелодия, выполняет роль аллегории, своеобразного композиционного приема.
Напомню предание о Цецилии, святой католической церкви, особенно чтимой в Риме. В ранней молодости она тайно обратилась в христианство и дала обет девственности. Родители пожелали выдать ее замуж за язычника Валерия. Она обратила его в христианство и склонила чтить ее обет. Приняла мученическую смерть. Святая Цецилия считается покровительницей духовной музыки и олицетворением чистоты и непорочности. Многие из этих подробностей метафорически обыгрываются Тургеневым, хорошо знавшим алтарную экспозицию Рафаэля «Святая Цецилия» (хранится в Болонской пинакотеке), на которой святая изображена внимающей хору ангелов.
Портрет Валерии упоминается еще раз в финале в полном соответствии с его умиротворенным колоритом: «...и когда, на другой день после отъезда Муция, Фабий снова принялся за ее портрет, он нашел в ее чертах то чистое выражение, мгновенное затмение которого так смутило его... и кисть побежала по полотну легко и верно».
Заметим кстати, эпизод этот по своей сути соотносится с индуистской мифологией, согласно которой поддавшийся соблазну аскет не утрачивает окончательно следов своего подвижничества, святости. (Ассоциативно здесь есть и нотки переклички с «Портретом Дориана Грея» О. Уайльда: изменение лица, отраженное в портрете; отдаленно — с «Портретом» Гоголя.)
Было бы преувеличением сводить многомерное и неожиданное содержание «переданной прозой поэмы», говоря словами Тургенева о легендах Флобера, только к восточной тайнописи и ее приметам. Ведь в «Песни» речь идет об имитируемой «старинной итальянской рукописи» и действие относится к эпохе Возрождения. Но, во-первых, хотя события и происходят в итальянском городе Ферраре, город этот в повести весьма условен. Реально-исторических итальянских штрихов в «Песни» не меньше, чем восточных, но ее образно-эмоциональную атмосферу, художественно-смысловые акценты создают вовсе не они. По-видимому, итальянское обрамление, переплетенное с прозрачной вязью Востока, — преднамеренная дань литературной традиции (стилизации) — существенный элемент художественной структуры. Само разграничение итальянских и восточных мотивов в «Песни» тоже условно, в ее поэтике нет противостояния. Напротив, судя по черновым и беловым рукописям, Тургенев особенно заботился о сохранении единства тона этого произведения. «Надо, чтобы тон был выдержан до малейших подробностей», — предупреждал он Стасюлевича, отправляя повесть в «Вестник Европы».
Что подразумевалось под «тоном»? Едва ли речь шла только о стиле повести, тем более что Стасюлевич был внимательным редактором. Некоторое пояснение тургеневской мысли содержится в его статье «Пергамские раскопки» (1880), написанной одновременно с «Песнью». Восхищаясь гармонией и мастерством Пергамского алтаря, Тургенев писал: «...все эти реальные детали до того исчезают в общем целостном впечатлении, — вся эта бурная свобода романтизма до того проникнута высшим порядком и ясным строем высокохудожественной, идеальной мысли, что нашему брату-эпигону только остается преклонить голову и учиться — учиться снова, перестроив все, что он до сих пор считал основной истиной своих соображений и выводов». По-видимому, и в «Песни» Тургенев стремился к созданию новой свободной формы, в которой бы самодовлели и целостность впечатления, и предельная полнота слова, скрывающего затаенную мысль автора.
В самом деле, замысел повести словно закодирован и, очевидно, глубже ее причудливо фантастической, хотя и прозрачной внешней канвы, не ограничивается он и «легендой о совершенной любви».
Художественный мир «Песни», созвучный поэтической природе «Стихотворений в прозе» или гармонии музыки, не поддается прямолинейному истолкованию. Авторский комментарий здесь, так же как и в «Кларе Милич», полностью отсутствует. Ассоциация же с автопризнанием в статье «Пергамские раскопки» в известной мере приоткрывает характер творческих поисков позднего Тургенева, поясняя в том числе и истоки переплетения в «Песни» восточных и западных мотивов.
Известно, что эпоху Возрождения отличало стремление к цельной, универсальной картине жизни, тенденция понять и объяснить все, даже не поддающееся объяснению. Неуемная любознательность побуждала выдающихся мыслителей Возрождения обращаться к магии и другим таинственным наукам, корни которых уходили на Восток, к восточной мудрости, к восточной магии слова, музыки.
Не потому ли в повести использован такой художественный штрих, как «Неистовый Орланд» Ариосто, которого в смятенном состоянии пытается читать Фабий? Непосредственной связи с тургеневским сюжетом здесь как будто бы нет. На первый взгляд, Ариосто — только историческая временная реалия, «поэма которого, недавно перед тем появившаяся в Ферраре, уже гремела по Италии». Но ведь поэма Ариосто (любимый Тургеневым автор, упоминается в письмах к П. Виардо, Л. Пичу, в статье «Поездка в Альбано и Фраскати») с необычайной многогранностью воплощает в себе гуманистические идеи и общечеловеческий пафос эпохи Возрождения. Герои «Неистового Орланда» живут естественной, гармоничной жизнью в мире чудес, волшебства и приключений. Они любят, страдают, сражаются и предпочитают умереть, не изменив своему чувству. События происходят, кстати, в Европе и Азии, есть у Ариосто и путешествия на Восток и восточная символика («волшебная книга», «чудодейственный рог», таинственное кольцо, чародеи и т. д.). Героев сближает естественное чувство общечеловеческого единения, активного гуманизма, свободы. Напомню, кстати, мысль о гармонии человеческого единения — одна из доминирующих и в гетевской концепции западно-восточного синтеза.
В «Песни» нет исторических событий. Но судьбы отдельных, частных личностей при помощи «таинственного» (фантастической романтики) наталкивают на не менее обобщающие мысли о человеческих стремлениях и независимых от воли человека силах, о судьбе.
В ее финале в форме намеков, полутонов, игры света и тени сфокусирована вся необычная, таинственная история «итальянской рукописи». Фабий заканчивает портрет Валерии («своей Цецилии») под звуки восточной мелодии, «той песни торжествующей любви, которую некогда играл Муций», зазвучавшие внезапно, противувольно под руками Валерии, сидевшей перед органом. «И в тот же миг (...) она почувствовала внутри себя трепет новой, зарождающейся жизни... (...) Что это значило? Неужели же... На этом слове оканчивалась рукопись». При всей внутренней композиционной законченности повествование остается открытым, недосказанным, что усиливается заключительным эпизодом с портретом, неприметно окрашенным авторской иронией или лукавой усмешкой: святость-то утверждается под звуки греховной торжествующей мелодии. Святая Цецилия, как известно по преданию и картине Рафаэля, на небесах внимает ангельскому пению. В повести преднамеренно устраняется возможность какого-либо определенного суждения о происходящем (особенность поэтики позднего Тургенева). В то же время в ней неуловимо ощущается соприкосновение с гетевской утопической идеей общечеловеческой гармонии, западно-восточного синтеза. За восточной орнаментикой и стилизацией (восточная мелодия, орган и скрипка, Св. Цецилия и т. д.) вместе с авторским голосом скрыт и многозначный философско-этический смысл повести, созвучный газелям Хафиза, стихотворениям Гете («Блаженное томление») в «Книге певца» и «Книге Зулейки» в «Западно-восточном диване». Не потому ли сам Тургенев опасался прямолинейных аллегорий, связанных с «Песней»? А современники (за малыми исключениями), восхищаясь преимущественно поэтической фантазией автора, не разгадали в повести общечеловеческой мысли о трагическом и идеальном в судьбе человека, мысли, скрытой за символикой слова, приметой художественного мира позднего Тургенева.
Источник: Русская литература. – 1994. - № 4. – С. 101-112.