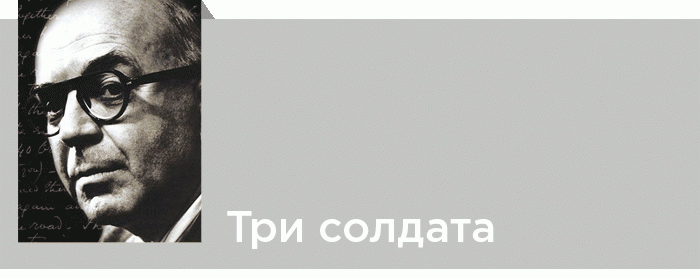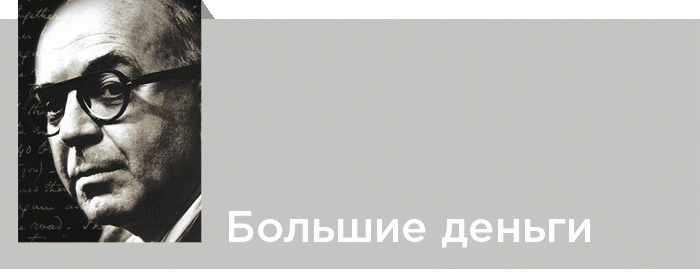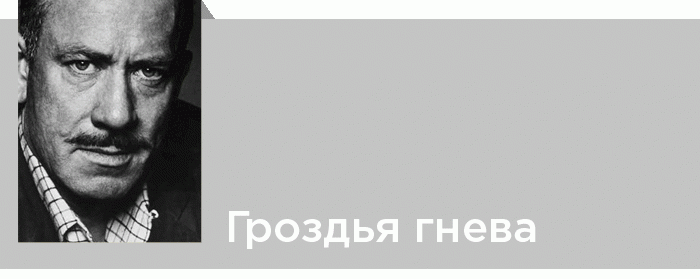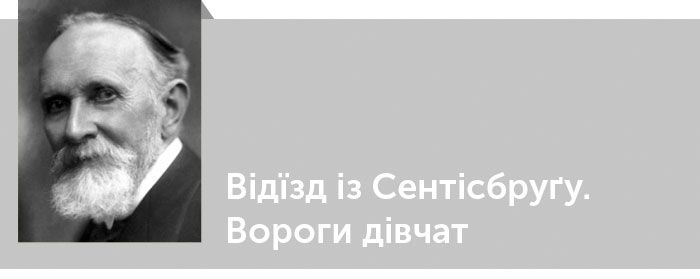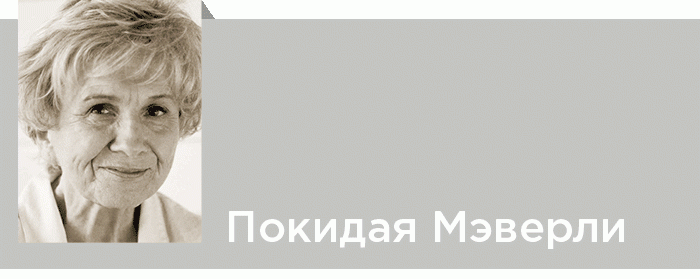Дорога никуда
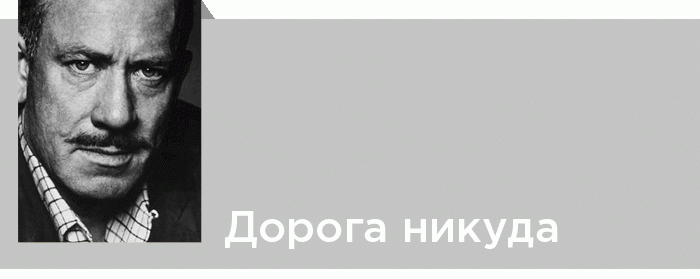
Л. Зверев
Время постоянно напоминает о себе, когда читаешь старую книгу, живая жизнь которой еще не закончилась в читательском сознании и на полке не встал памятником отшумевшей литературной эпохи еще один непомятый позолоченный переплет. Время не только фильтрует широкий книжный поток, оставляя для будущего немногие золотые крупицы, так часто не замечаемые, когда разлив еще не начал спадать. Существенно и другое: в том, что оставлено, с движением времени все отчетливее проступают новые грани смысла, и произведение меняется вместе с эпохой. Славно бы свет последующего опыта незаметно заполняет пустое пространство между строк.
Читая Стейнбека, думаешь об этом постоянно, — должно быть, оттого, что так значительны, так насыщены оказались в социальной и духовной истории годы, отделившие наше знакомство с «Заблудившимся автобусом» от его появления. Проверка временем состоялась, велик соблазн посмеяться теперь над недальновидностью первых рецензентов, которые посчитали книгу творческой неудачей, суля ей скорое забвение. Возможно, этот пример критической предвзятости и схематизма когда-нибудь будет упоминаться в летописи литературных курьезов. И все же он дает повод скорее не для иронии, а для размышления о том, почему с годами так изменилось восприятие романа, значение которого ныне представляется бесспорным.
Тогда, в 1947 году, книга показалась надуманной, переусложненной и, главное, далекой от тревог и забот американской жизни. Это удивляло всего больше. Ведь Стейнбек был автором «Гроздьев гнева», появившихся перед самой войной, чтобы остаться в литературе как эпос «красных тридцатых» с их болью и жестокостью, из которых рождались упорство и надежда миллионов людей. Стихией Стейнбека считалось конкретное, злободневное, «текущее», если воспользоваться любимым словом Достоевского.
«Заблудившийся автобус» с его символикой и многоплановостью вызвал недоумение, а затем упреки в том, что Стейнбек поступается сущностью своего дарования. Его самого начали уподоблять пассажирам разваливающейся колымаги Хуана Чикоя, которая в его книге петляет под сумрачным осенним небом по разбитым дождями калифорнийским дорогам, пока в финале этого странного кружения каким-то смутным обещанием не замаячат на горизонте огни городка с испанским именем, непривычным и чарующим для американского слуха.
Да и как было не уподоблять: ведь прочерченный Стейнбеком маршрут был конкретным автобусным рейсом ничуть не больше, чем плавание «Пекода» в «Моби Дике» или странствие Гека и Джима на плоту у Марка Твена, и было ясно, что речь идет о совсем другом путешествии — и автора, и его героев — вглубь себя, в собственную душу. Была ясна попытка выключить персонажей из суеты дней, когда стерты и неощущаемы подлинные устремления, желания, страхи, чтобы люди, случайно оказавшиеся попутчиками по неудачной поездке, остались наедине с собой и увидели свой духовный мир в его истинном содержании. Был ясен авторский замысел высказать горькую правду о человеке и времени, избрав ситуацию исключительную при всей своей кажущейся будничности и уже эпиграфом напоминая каждому о бренности бытия, давая почувствовать, что дело коснется коренных этических проблем и философских вопросов.
И как тут было не заговорить о метафизических дебрях, о блуждании ума, не находящего прочных опор перед сложностью жизни, о кризисе ценностей, непоколебимых для прежнего Стейнбека, — тем более что в своем рассказе он избегал однозначных выводов, настойчиво оттеняя настроение потерянности, травмированности и одиночества, свойственное самым близким ему героям и определившее всю тональность повествования.
Через три десятилетия именно этот мотив окажется наиболее созвучным мироощущению сегодняшней Америки, каким оно предстало в 70-е годы и у Апдайка, и у Воннегута, и у Хеллера. От нынешнего своего читателя «Заблудившийся автобус» не требует особого усилия, чтобы перенестись в иное время. Даже напротив, скажет такому читателю, наверное, больше, чем мог сказать современнику, только что пережившему войну и едва начинавшему осваиваться в резко изменившемся, «похолодавшем» климате послевоенной поры.
Отнести ли подобную запоздалую актуальность за счет внешних причин, объективного совпадения исторических обстоятельств? Едва ли. Скорее здесь вступает в действие логика общественного явления, которое Стейнбек уловил в самом его истоке.
Не он, конечно, первым заговорил о феномене отчуждения, о растущей внутренней несвободе, о распаде человеческого сообщества на клеточки изолированных индивидуальных существований. В философию и литературу Запада все это вошло еще на заре века, а ко времени «Заблудившегося автобуса» успело глубоко затронуть миропонимание многих художников, сделав их особенно чуткими ко все более ощутимым барьерам и перегородкам между людьми в буржуазном мире.
Но Стейнбек был первым американским писателем, осознавшим отчуждение как повседневность, как своего рода противоестественную норму. Как привычную ущербность.
Должно быть, раньше всех он почувствовал, как болезненно сказывается это всевластие — и уже незамечаемость — отчуждения на самосознании рядового человека и его отношениях с другими людьми. Это было открытием, которое в полной мере можно оценить, пожалуй, лишь сейчас, когда выясняется, что «Заблудившийся автобус» коснулся, быть может, важнейшего нервного узла послевоенной американской жизни. Оттого книга Стейнбека и прочитывается как произведение без всяких натяжек современное — на исходе 70-х даже более современное, чем на исходе 40-х.
В перспективе времени это одна из книг, задавших направление всей американской литературе после войны.
Дело было не только в намеченном Стейнбеком конфликте, к которому литература будет возвращаться бесконечно. Дело было прежде, всего в том, что отчужденность, о которой написан «Заблудившийся автобус», выступила у Стейнбека не отдаленной потенциальной опасностью, а уже готовым состоянием души, по-разному ощущаемым, но одинаково не принимаемым и девушкой, изучающей в университете испанскую филологию, и хозяйкой придорожной закусочной, чей мирок замкнут кухней да семейной спальней, и солидным бизнесменом, и рядовым водителем автобуса — всем американским макрокосмом. Каждый из его героев по собственному разумению пытался пробиться через этот барьер, чтобы обрести общение и живой контакт. И силою вещей каждый вновь и вновь возвращался к своей насильственно навязанной участи одиночки, вынужденного довольствоваться лишь чисто внешними формами человеческих связей.
В этих порывах, судорожных, мучительных, обреченных, и в этих неизбежных возвращениях с необычайной даже для Стейнбека тонкостью были обнажены корни и схвачены конкретные следствия той духовной драмы, которую социологи впоследствии обозначат понятием некоммуникабельности. От частого употребления это слово давно примелькалось и стерлось, но вовсе не исчезло, а лишь приняло теперь еще более гротескные формы стоящее за ним содержание. Где-то к концу первого послевоенного десятилетия повсюду на Западе начнет вступать в свои права потребительское общество, и посреди засилья материальных фетишей, в пестроте рвущихся из витрин доказательств невиданного прогресса и «всеобщего счастья» так неимоверно усилится чувство неуюта, взаимного непонимания, совершенной ненужности друг другу, хорошо знакомое и пассажирам Хуана Чикоя и ему самому. То, что первым читателям «Заблудившегося автобуса» еще могло казаться условностью притчи, претворится в реальность будней, когда всеобщей станет тревога за духовное содержание жизни и множество людей почувствует себя, подобно персонажам Стейнбека, путниками на дороге никуда.
В искусство широко войдет тема, найденная в «Заблудившемся автобусе», а его тональность сделается едва ли не доминирующей. Путешествие через зону отчужденности будет продолжено в некоторых выдающихся произведениях последующих лет. Например, в кинематографе Антониони. Здесь обнаружились те же коллизии, и муки героев были теми же, что и у Стейнбека, — угнетало сознание изоляции как своего удела, а робкие попытки выбраться из нее кончались крахом. Даже в самых заурядных бытовых ситуациях выявлялась легко опознаваемая болезнь духа, и жертв у нее было на Западе так много, что она нередко уже выглядела всеобщей.
«Заблудившийся автобус» перечитывали и толковали в ключе той же универсальности. Это было насилием над авторским замыслом. Бесспорно, роман Стейнбека несет в себе черты символической обобщенности. Буксующий на скользкой боковой дороге старенький автобус с водителем, который готов сбежать, предоставив пассажиров самим себе, с умирающим на заднем сиденье, с десятком случайно встретившихся и уже почти друг друга ненавидящих людей — все это имеет аллегорический смысл, и можно, хотя и с натяжкой, утверждать, что в рыдване Чикоя катит навстречу туманной, тревожной своей судьбе все человечество, каким его видел Стейнбек в 1947 году. Его настроения той поры не так уж трудно объяснить: свой след оставило и увиденное на фронте и многие сложности послевоенного мира, уже расколотого другой, «холодной войной»,— хотя роман заметно проигрывает всякий раз, когда аллегория становится слишком уж прозрачной.
Но когда в романе пытались увидеть лишь аллегорию «на все времена», забывали, что для Стейнбека, во всяком случае, такая цель, не была основной. Иначе потребовалось бы совсем другое художественное построение, близкое к притчевому, как у Камю в «Чуме» или у Гессе в «Степном волке», если взять классические образцы романа подобного типа, богато представленного в литературе нашего века. Простого сопоставления достаточно, чтобы выявились различия, — да вряд ли и могло быть иначе, если вспомнить и предыдущие и последующие книги Стейнбека, неизменно отмеченные стремлением к достоверности почти фактографической. И в «Заблудившемся автобусе» через очертания притчи без труда проступает целостная картина Америки тех лет, когда Стейнбек писал свой роман. Саму его символику трудно понять, игнорируя за «несущественностью» отразившиеся в нем приметы тогдашней американской действительности и типично американские конфликты, которые в нем воплотились.
Можно, скажем, не придать значения тому, что ареной событий, как и в «Гроздьях гнева», становится Калифорния. На самом деле это далеко не мелочь. Калифорния дольше всех оставалась последним прибежищем «американской мечты» — идеала безгранично свободного индивидуума, строящего свою жизнь в согласии с критериями разума и нормами гармоничного сообщества. Простор тихоокеанского побережья, райская земля, царственно щедрая природа пробуждали веру, что уж здесь-то обычный человек сумеет прочно встать на ноги, лишь бы достало энергии и хватки. Один из пассажиров Чикоя вспомнит о своем отце, преклонявшемся перед «честностью и усердием», которые непременно обеспечат спокойный завтрашний день, — наивное это убеждение в Калифорнии держалось всего упорнее. Еще Джек Лондон всерьез полагал, что в долине реки Сономы — Лунной долине — «мечта» непременно осуществится. А в «Гроздьях гнева» разоренные кризисом фермеры съезжаются сюда со всех концов страны, твердо рассчитывая на удачу.
Их ждали очереди безработных и грязь времянок, полицейские кордоны на шоссе, безымянные могильные холмики у обочины. Выпестовав тяжелые гроздья отчаяния и ярости, трагическая одиссея 30-х покончила с былыми верованиями в социальную идиллию под щедрым калифорнийским солнцем. Но «мечта» не исчезла, и Стейнбек продолжал испытывать ее реальностью. Своих персонажей он заставил странствовать в тех же краях, которые когда-то открылись восторженным глазам пионеров, здесь, в Калифорнии, наконец отыскавших тот сказочный золотой уголок, ради которого почти столетие пересекали они, борясь с врагами и стихиями, суровый необжитой континент. Неужели не промелькнет в душе ни отблеска старого огня, когда герои окажутся в одной из тех ситуаций, что были привычными их дедам, истинным паладинам «мечты»?
Такая ситуация предусмотрена Стейнбеком: автобус, увязший у кромки обрыва, ни жилья, ни телефона кругом, возможность проявить себя, оставшись лицом к лицу с вольной природой. Да только куда все это ушло — сноровка, хладнокровие, упорство? Паника охватывает всех, и надежда лишь на прыщавого юнца-механика с его воспаленными эротическими грезами да на охваченного душевной маетой Чикоя, который исчез за пеленой дождя. «Положим, вам пришлось остаться здесь на две недели, — размышляет один из попутчиков, Эрнест Хортон. — Сумеете вы не умереть с голоду?» И не ищет ответа. Уж какое там — «убить корову, освежевать ее и зажарить». Пожалуй, не хватит пороху пройти пешком в непогоду с десяток километров по пустынному каньону, выбираясь к обитаемым местам.
Так завершается история пионеров, важная для национальной психологии и этики, которые выплавились в американском котле. Безволие, дряблые мускулы, вздохи по утраченной великой вере предков. Поистине дорога никуда.
Этот Хортон, коммивояжер, торгующий хитроумными игрушками для развлечения обывателей, совсем недавно снял солдатскую форму. Сегодня уже почти не ощущается, что роман Стейнбека был написан сразу после войны. А ведь это важно, хотя писатель и не задерживается на недавнем прошлом своих героев.
Но дело не в прямых авторских пояснениях. Как не обратить внимания на то, что всякий раз, как кто-то в автобусе упоминает о войне, сущность человека выявляется отчетливо, словно на негативе, — а война ведь и была такой проверкой на истинность. Мистер Причард вспоминает о ней, сетуя на дефицит удобств в лачуге Чикоя, где пришлось ночевать. Он в первый раз едет в отпуск после четырех лет повышенной деловой активности, он перетрудился, заключая прибыльные военные контракты, — разумеется, для блага отечества, — и теперь он законно требует для себя максимум комфорта. Миссис Причард тоже возмущается лишениями, которые приходится терпеть в поездке: разве не кончились уже эти кошмарные времена, когда магазины стояли пустые — «ни крошки мяса, ничего, кроме кур».
А Хортон, вчерашний фронтовик, заговорит о войне лишь в минуту эмоционального напряжения, прорвавшего какую-то внутреннюю преграду, как будто им был дан обет себе — не вспоминать. И скажет, что на новую войну, коли она начнется, он тоже пойдет и что это ужасно.
Со временем стали намного понятнее истоки таких настроений, а преграда, мешавшая Хортону выговориться, перестала казаться необъяснимой, когда вслед за романом Стейнбека появились жестокие, переполненные болью книги Нормана Мейлера, Джеймса Джонса и других прозаиков фронтового поколения. «Заблудившийся автобус» сохранил приоритет произведения, впервые коснувшегося духовной травмы, которой оказалась война для американцев — и не только ее непосредственных участников.
Писатели, вернувшиеся с войны, расскажут о причинах — о духе казарм, изуродовавшем их наивные высокие устремления, о тиранстве надевших мундиры причардов, о насилии и оболванивании, заставивших позабыть, какая идет война. У Стейнбека мы видим только следствия. В Хортоне они особенно рельефны. И болезненны тем несомненнее, чем больше он старается их прикрыть цинизмом понаторевшего торговца, который усвоил, что людям надо отвлечься, поскорее обратить недавнюю драму в игру, приглушив слишком свежую память...
Но следствия наглядны не только в Хортоне.
Нельзя не почувствовать их во всей атмосфере романа. Эта атмосфера создана мучительным для большинства героев переживанием своего одиночества на холодном ветру жизни, которое до крайности обострилось в годы войны, так круто изменившей привычное течение повседневности и развеявшей многие утешительные иллюзии о преобладании добра над злом в обществе да и в самом человеке. Нелегкие эти уроки в каком-то смысле усваивались американским сознанием даже с особой болью — не было ощущения движущейся истории, которое знала Европа, сражавшаяся в Сопротивлении. Для выжидавшей Америки история замкнулась на том механическом насилии, которое наполнило собой будни солдатских лагерей, и это оказалось шоком, отозвавшимся — в неодинаковой степени и разных формах, но все же почти неизбежно — в мироощущении миллионов.
Стейнбек это понял и раньше и глубже других, метафорой заблудившегося автобуса передав сущность эпохи, охваченной болезнью человеческой разделенности, отчуждения и сковывающего страха перед действительностью. В той или иной степени эта болезнь затронула каждого его персонажа. Даже Причарда, вполне в духе времен «холодной войны» опасающегося «иностранного языка и другой политической партии», кроме демократов, к которым принадлежит он сам. Даже мещаночку Норму, придумавшую легенду о том, что она в родстве с идолом тогдашних кинозрительниц Кларком Гейблом: «без сказки, пусть и нелепой, жизнь сделается непереносимой.
И Алисой Чикой движет тот же неотступный страх, когда, напиваясь, она гоняется с полотенцем за мухами, словно они виноваты в том, что так непрочен, ненадежен выстроенный ею карточный домик убогого семейного счастья и жалкого житейского благополучия.
А в метаниях Хуана, готового все бросить и сбежать, но сразу поворачивающего назад, в душевном смятении Милдред, бунтующей, чтобы тут же подчиниться унылой прозе заведенного у Причардов порядка вещей, этот страх перемен, смешавшись с отвращением к своему каждодневному быту, сделается уже инстинктом, который подчинил себе всего человека и превратил его жизнь в кружение по замкнутому пространству. Все та же дорога никуда.
Когда умрет Ван Брант, желчный старик, докучавший попутчикам и Хуану настырными требованиями придерживаться расписания и правил обслуживания пассажиров, на миг исчезнут перегородки и возникнет та общность, к которой по-своему стремятся все, кто собрался под крышей автобуса. Напоминание будет услышано — отчего же люди неспособны преодолеть барьеры изоляции в своем будничном существовании? Для Стейнбека здесь главный вопрос, и он побуждает персонажей к попыткам вырваться из колеи всеобщей изоляции. Так полуосознанно тянутся друг к другу Милдред и Хуан, механик Кит и Норма, Хортон и манекенщица Камилла. Через весь роман проходит эта тема поисков живей человеческой связи вопреки расщепленности бытия.
Но здесь перед каждым и возникает тот закон отчуждения, который Стейнбек увидел не как отвлеченность, а как реальное содержание психологического и нравственного опыта непримечательных своих современников, в глубине души уже не обманывающихся идеями американской исключительности, безграничного простора для каждого и гармонии интересов всех. На поверку жизнь оказалась стесненной, предельно обуженной по части возможностей что-то выбирать, стиснутой необходимостью изо дня в день заниматься одной и той же бессмысленной работой, растрачивая в ней душевные силы и привыкая к этой механистичности, пока она полностью не заполнит горизонт. И остаются лишь бесплодные мечты о Кларке Гейбле или о приманивающем Хуана утреннем холодке Мексиканского плоскогорья, смутные, неосуществимые устремления, накатывающие и тут же исчезающие высокие порывы — и тоска, и ущербность вечно однообразного быта с его ничтожными, но обязательными заботами и уже вошедшим в кровь сознанием своей изолированности от других людей.
Человек не остров: вслед за Джоном Донном Хемингуэй сказал об этом в «Колоколе», написанном одновременно с «Гроздьями гнева», и для Стейнбека это была аксиома, как и для всего его писательского поколения. Смерть Ван Бранта в «Заблудившемся автобусе» — возвращение к той же мысли, от которой писатель не отступил и в книге, поначалу многим показавшейся его изменой самому себе.
Время заставило воспринять эту книгу по-другому, увидев в ней свидетельство трезвости стейнбековского гуманизма, отдающего себе отчет в том, насколько трудны пути обретения человеческой общности в мире, расколотом на атомы лишь вынужденно пересекающихся биографий. Литература вернется к образам и коллизиям «Заблудившегося автобуса», оценив и точность исследования этих трудностей и упорство противостояния им.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1980. – № 2. – С. 77-80.
Произведения
Критика