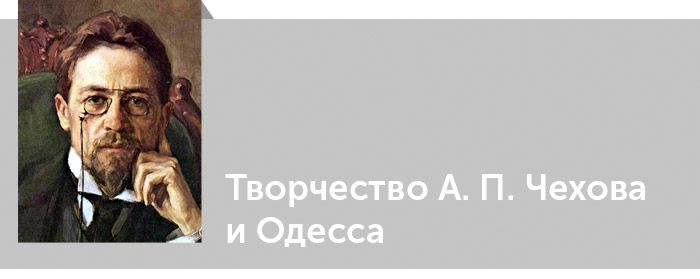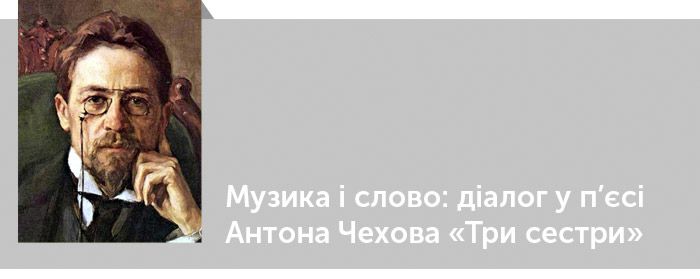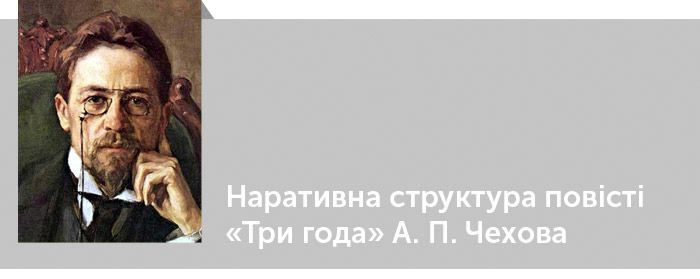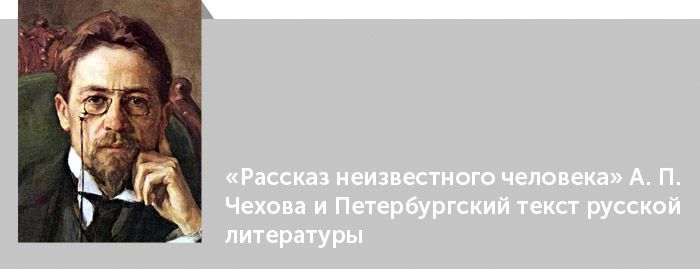Вишневый сад

КОМЕДИЯ В 4-х ДЕЙСТВИЯХ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Раневская Любовь Андреевна, помещица.
Аня, ее дочь, 17 лет.
Варя, ее приемная дочь, 24 лет.
Гаев Леонид Андреевич, брат Раневской.
Лопахин Ермолай Алексеевич, купец.
Трофимов Петр Сергеевич, студент.
Симеонов-Пищик Борис Борисович, помещик.
Шарлотта Ивановна, гувернантка.
Епиходов Семен Пантелеевич, конторщик.
Дуняша, горничная.
Фирс, лакей, старик 87 лет.
Яша, молодой лакей.
Прохожий.
Начальник станции.
Почтовый чиновник.
Гости, прислуга.
Действие происходит в имении Л. А. Раневской.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Комната, которая до сих пор называется детскою. Одна из дверей ведет в комнату Ани. Рассвет, скоро взойдет солнце. Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник. Окна в комнате закрыты.
Входят Дуняша со свечой и Лопахин с книгой в руке.
Лопахин. Пришел поезд, слава богу. Который час?
Дуняша. Скоро два. (Тушит свечу.) Уже светло.
Лопахин. На сколько же это опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере. (Зевает и потягивается.) Я-то хорош, какого дурака свалял! Нарочно приехал сюда, чтобы на станции встретить, и вдруг проспал... Сидя уснул. Досада... Хоть бы ты меня разбудила.
Дуняша. Я думала, что вы уехали. (Прислушивается.) Вот, кажется, уже едут.
Лопахин (прислушивается). Нет... Багаж получить, то да се...
Пауза.
Любовь Андреевна прожила за границей пять лет, не знаю, какая она теперь стала... Хороший она человек. Легкий, простой человек. Помню, когда я был мальчонком лет пятнадцати, отец мой покойный — он тогда здесь на деревне в лавке торговал — ударил меня по лицу кулаком, кровь пошла из носу... Мы тогда вместе пришли зачем-то во двор, и он выпивши был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, еще молоденькая, такая худенькая, подвела меня к рукомойнику, вот в этой самой комнате, в детской. «Не плачь, говорит, мужичок, до свадьбы заживет...»
Пауза. Мужичок... Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, желтых башмаках. Со свиным рылом в калашный ряд... Только что вот богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком... (Перелистывает книгу.) Читал вот книгу и ничего не понял. Читал и заснул.
Пауза.
Дуняша. А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут.
Лопахин. Что ты, Дуняша, такая...
Дуняша. Руки трясутся. Я в обморок упаду.
Лопахин. Очень уж ты нежная, Дуняша. И одеваешься, как барышня, и прическа тоже. Так нельзя. Надо себя помнить.
Входит Епиходов с букетом; он в пиджаке и в ярко вычищенных сапогах, которые сильно скрипят; войдя, он роняет букет.
Епиходов (поднимает букет). Вот садовник прислал, говорит, в столовой поставить. (Отдает Дуняше букет.)
Лопахин. И квасу мне принесешь.
Дуняша. Слушаю. (Уходит.)
Епиходов. Сейчас утренник, мороз в три градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата. (Вздыхает.) Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот, Ермолай Алексеич, позвольте вам присовокупить, купил я себе третьего дня сапоги, а они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности. Чем бы смазать?
Лопахин. Отстань. Надоел.
Епиходов. Каждый день случается со мной какое-нибудь несчастье. И я не ропщу, привык и даже улыбаюсь.
Дуняша входит, подает Лопахину квас.
Я пойду. (Натыкается на стул, который падает.) Вот... (Как бы торжествуя.) Вот видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим... Это просто даже замечательно! (Уходит.)
Дуняша. А мне, Ермолай Алексеич, признаться, Епиходов предложение сделал.
Лопахин. А!
Дуняша. Не знаю уж как... Человек он смирный, а только иной раз как начнет говорить, ничего не поймешь. И хорошо, и чувствительно, только непонятно. Мне он как будто и нравится. Он меня любит безумно. Человек он несчастливый, каждый день что-нибудь. Его так и дразнят у нас: двадцать два несчастья...
Лопахин (прислушивается). Вот, кажется, едут...
Дуняша. Едут! Что ж это со мной... похолодела вся.
Лопахин. Едут, в самом деле. Пойдем встречать. Узнает ли она меня? Пять лет не видались.
Дуняша (в волнении). Я сейчас упаду... Ах, упаду!
Слышно, как к дому подъезжают два экипажа. Лопахин и Дуняша быстро уходят. Сцена пуста. В соседних комнатах начинается шум. Через сцену, опираясь на палочку, торопливо проходит Фирс, ездивший встречать Любовь Андреевну; он в старинной ливрее и в высокой шляпе; что-то говорит сам с собой, но нельзя разобрать ни одного слова. Шум за сценой все усиливается. Голос: «Вот пройдемте здесь...» Любовь Андреевна, Аня и Шарлотта Ивановна с собачкой на цепочке, одетые по-дорожному. Варя в пальто и платке, Гаев, Симеонов-Пищик, Лопахин, Дуняша с узлом и зонтиком, прислуга с вещами — все идут через комнату.
Аня. Пройдемте здесь. Ты, мама, помнишь, какая это комната?
Любовь Андреевна (радостно, сквозь слезы). Детская!
Варя. Как холодно, у меня руки закоченели. (Любови Андреевне.) Ваши комнаты, белая и фиолетовая, такими же и остались, мамочка.
Любовь Андреевна. Детская, милая моя, прекрасная комната... Я тут спала, когда была маленькой... (Плачет.) И теперь я как маленькая... (Целует брата, Варю, потом опять брата.) А Варя по-прежнему все такая же, на монашку похожа. И Дуняшу я узнала... (Целует Дуняшу.)
Гаев. Поезд опоздал на два часа. Каково? Каковы порядки?
Шарлотта (Пищику). Моя собака и орехи кушает.
Пищик (удивленно). Вы подумайте!
Уходят все, кроме Ани и Дуняши.
Дуняша. Заждались мы... (Снимает с Ани пальто, шляпу.)
Аня. Я не спала в дороге четыре ночи... теперь озябла очень.
Дуняша. Вы уехали в Великом посту, тогда был снег, был мороз, а теперь? Милая моя! (Смеется, целует ее.) Заждалась вас, радость моя, светик... Я скажу вам сейчас, одной минутки не могу утерпеть...
Аня (вяло). Опять что-нибудь...
Дуняша. Конторщик Епиходов после Святой мне предложение сделал.
Аня. Ты все об одном... (Поправляет волосы.) Я растеряла все шпильки... (Она очень утомлена, даже пошатывается.)
Дуняша. Уж я не знаю, что и думать. Он меня любит, так любит!
Аня (глядит в свою дверь, нежно). Моя комната, мои окна, как будто я не уезжала. Я дома! Завтра утром встану, побегу в сад... О, если бы я могла уснуть! Я не спала всю дорогу, томило меня беспокойство.
Дуняша. Третьего дня Петр Сергеич приехали.
Аня (радостно). Петя!
Дуняша. В бане спят, там и живут. Боюсь, говорят, стеснить. (Взглянув на свои карманные часы.) Надо бы их разбудить, да Варвара Михайловна не велела. Ты, говорит, его не буди.
Входит Варя, на поясе у нее вязка ключей.
Варя. Дуняша, кофе поскорей... Мамочка кофе просит.
Дуняша. Сию минуточку. (Уходит.)
Варя. Ну, слава богу, приехали. Опять ты дома. (Ласкаясь.) Душечка моя приехала! Красавица приехала!
Аня. Натерпелась я.
Варя. Воображаю!
Аня. Выехала я на Страстной неделе, тогда было холодно. Шарлотта всю дорогу говорит, представляет фокусы. И зачем ты навязала мне Шарлотту...
Варя. Нельзя же тебе одной ехать, душечка. В семнадцать лет!
Аня. Приезжаем в Париж, там холодно, снег. По-французски говорю я ужасно. Мама живет на пятом этаже, прихожу к ней, у нее какие-то французы, дамы, старый патер с книжкой, и накурено, неуютно. Мне вдруг стало жаль мамы, так жаль, я обняла ее голову, сжала руками и не могу выпустить. Мама потом все ласкалась, плакала...
Варя (сквозь слезы). Не говори, не говори...
Аня. Дачу свою около Ментоны она уже продала, у нее ничего не осталось, ничего. У меня тоже не осталось ни копейки, едва доехали. И мама не понимает! Сядем на вокзале обедать, и она требует самое дорогое и на чай лакеям дает по рублю. Шарлотта тоже. Яша тоже требует себе порцию, просто ужасно. Ведь у мамы лакей Яша, мы привезли его сюда...
Варя. Видела подлеца.
Аня. Ну что, как? Заплатили проценты?
Варя. Где там.
Аня. Боже мой, боже мой...
Варя. В августе будут продавать имение...
Аня. Боже мой...
Лопахин (заглядывает в дверь и мычит). Ме-е-е... (Уходит.)
Варя (сквозь слезы). Вот так бы и дала ему... (Грозит кулаком.)
Аня (обнимает Варю, тихо). Варя, он сделал предложение? (Варя отрицательно качает головой.) Ведь он же тебя любит... Отчего вы не объяснитесь, чего вы ждете?
Варя. Я так думаю, ничего у нас не выйдет. У него дела много, ему не до меня... и внимания не обращает. Бог с ним совсем, тяжело мне его видеть... Все говорят о нашей свадьбе, все поздравляют, а на самом деле ничего нет, всё как сон... (Другим тоном.) У тебя брошка вроде как пчелка.
Аня (печально). Это мама купила. (Идет в свою комнату, говорит весело, по-детски.) А в Париже я на воздушном шаре летала!
Варя. Душечка моя приехала! Красавица приехала!
Дуняша уже вернулась с кофейником и варит кофе.
(Стоит около двери.) Хожу я, душечка, цельный день по хозяйству и все мечтаю. Выдать бы тебя за богатого человека, и я бы тогда была покойней, пошла бы себе в пустынь, потом в Киев... в Москву, и так бы все ходила по святым местам... Ходила бы и ходила. Благолепие!..
Аня. Птицы поют в саду. Который теперь час?
Варя. Должно, третий. Тебе пора спать, душечка. (Входя в комнату к Ане.) Благолепие!
Входит Яша с пледом, дорожной сумочкой.
Яша (идет через сцену, деликатно). Тут можно пройти-с?
Дуняша. И не узнаешь вас, Яша. Какой вы стали за границей.
Яша. Гм... А вы кто?
Дуняша. Когда вы уезжали отсюда, я была этакой... (Показывает от пола.) Дуняша, Федора Козоедова дочь. Вы не помните!
Яша. Гм... Огурчик! (Оглядывается и обнимает ее; она вскрикивает и роняет блюдечко. Яша быстро уходит.)
Варя (в дверях, недовольным голосом). Что еще тут?
Дуняша (сквозь слезы). Блюдечко разбила...
Варя. Это к добру.
Аня (выйдя из своей комнаты). Надо бы маму предупредить: Петя здесь...
Варя. Я приказала его не будить.
Аня (задумчиво.) Шесть лет тому назад умер отец, через месяц утонул в реке брат Гриша, хорошенький семилетний мальчик. Мама не перенесла, ушла, ушла без оглядки... (Вздрагивает.) Как я ее понимаю, если бы она знала!
Пауза.
А Петя Трофимов был учителем Гриши, он может напомнить...
Входит Фирс; он в пиджаке и белом жилете.
Фирс (идет к кофейнику, озабоченно). Барыня здесь будут кушать... (Надевает белые перчатки.) Готов кофий? (Строго Дуняше.) Ты! А сливки?
Дуняша. Ах, боже мой... (Быстро уходит.)
Фирс (хлопочет около кофейника). Эх ты, недотёпа... (Бормочет про себя.) Приехали из Парижа... И барин когда-то ездил в Париж... на лошадях... (Смеется.)
Варя. Фирс, ты о чем?
Фирс. Чего изволите? (Радостно.) Барыня моя приехала! Дождался! Теперь хоть и помереть... (Плачет от радости.)
Входят Любовь Андреевна, Гаев, Лопахин и Симеонов-Пищик; Симеонов-Пищик в поддевке из тонкого сукна и шароварах. Гаев, входя, руками и туловищем делает движения, как будто играет на биллиарде.
Любовь Андреевна. Как это? Дай-ка вспомнить... Желтого в угол! Дуплет в середину!
Гаев. Режу в угол! Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате, а теперь мне уже пятьдесят один год, как это ни странно...
Лопахин. Да, время идет.
Гаев. Кого?
Лопахин. Время, говорю, идет.
Гаев. А здесь пачулями пахнет.
Аня. Я спать пойду. Спокойной ночи, мама. (Целует мать.)
Любовь Андреевна. Ненаглядная дитюся моя. (Целует ей руки.) Ты рада, что ты дома? Я никак в себя не приду.
Аня. Прощай, дядя.
Гаев (целует ей лицо, руки). Господь с тобой. Как ты похожа на свою мать! (Сестре.) Ты, Люба, в ее годы была точно такая.
Аня подает руку Лопахину и Пищику, уходит и затворяет за собой дверь.
Любовь Андреевна. Она утомилась очень.
Пищик. Дорога, небось, длинная.
Варя (Лопахину и Пищику). Что ж, господа? Третий час, пора и честь знать.
Любовь Андреевна (смеется). Ты все такая же, Варя. (Привлекает ее к себе и целует.) Вот выпью кофе, тогда все уйдем.
Фирс кладет ей под ноги подушечку.
Спасибо, родной. Я привыкла к кофе. Пью его и днем и ночью. Спасибо, мой старичок. (Целует Фирса.)
Варя. Поглядеть, все ли вещи привезли... (Уходит.)
Любовь Андреевна. Неужели это я сижу? (Смеется.) Мне хочется прыгать, размахивать руками. (Закрывает лицо руками.)А вдруг я сплю! Видит бог, я люблю родину, люблю нежно, я не могла смотреть из вагона, все плакала. (Сквозь слезы.) Однако же надо пить кофе. Спасибо тебе, Фирс, спасибо, мой старичок. Я так рада, что ты еще жив.
Фирс. Позавчера.
Гаев. Он плохо слышит.
Лопахин. Мне сейчас, в пятом часу утра, в Харьков ехать. Такая досада! Хотелось поглядеть на вас, поговорить... Вы все такая же великолепная.
Пищик (тяжело дышит). Даже похорошела... Одета по-парижскому... пропадай моя телега, все четыре колеса...
Лопахин. Ваш брат, вот Леонид Андреич, говорит про меня, что я хам, я кулак, но это мне решительно все равно. Пускай говорит. Хотелось бы только, чтобы вы мне верили по-прежнему, чтобы ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Боже милосердный! Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно вы, сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас, как родную... больше, чем родную.
Любовь Андреевна. Я не могу усидеть, не в состоянии... (Вскакивает и ходит в сильном волнении.) Я не переживу этой радости... Смейтесь надо мной, я глупая... Шкафик мой родной... (Целует шкаф.) Столик мой.
Гаев. А без тебя тут няня умерла.
Любовь Андреевна (садится и пьет кофе). Да, царство небесное. Мне писали.
Гаев. И Анастасий умер. Петрушка Косой от меня ушел и теперь в городе у пристава живет. (Вынимает из кармана коробку с леденцами, сосет.)
Пищик. Дочка моя, Дашенька... вам кланяется...
Лопахин. Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое. (Взглянув на часы.) Сейчас уеду, некогда разговаривать... ну, да я в двух-трех словах. Вам уже известно, вишневый сад ваш продается за долги, на двадцать второе августа назначены торги, но вы не беспокойтесь, моя дорогая, спите себе спокойно, выход есть... Вот мой проект. Прошу внимания! Ваше имение находится только в двадцати верстах от города, возле прошла железная дорога, и если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода.
Гаев. Извините, какая чепуха!
Любовь Андреевна. Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеич.
Лопахин. Вы будете брать с дачников самое малое по двадцати пяти рублей в год за десятину, и если теперь же объявите, то я ручаюсь чем угодно, у вас до осени не останется ни одного свободного клочка, всё разберут. Одним словом, поздравляю, вы спасены. Местоположение чудесное, река глубокая. Только, конечно, нужно поубрать, почистить... например, скажем, снести все старые постройки, вот этот дом, который уже никуда не годится, вырубить старый вишневый сад...
Любовь Андреевна. Вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад.
Лопахин. Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто не покупает.
Гаев. И в «Энциклопедическом словаре» упоминается про этот сад.
Лопахин (взглянув на часы). Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то двадцать второго августа и вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайтесь же! Другого выхода нет, клянусь вам. Нет и нет.
Фирс. В прежнее время, лет сорок-пятьдесят назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили, и, бывало...
Гаев. Помолчи, Фирс.
Фирс. И, бывало, сушеную вишню возами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было! И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая... Способ тогда знали...
Любовь Андреевна. А где же теперь этот способ?
Фирс. Забыли. Никто не помнит.
Пищик (Любови Андреевне). Что в Париже? Как? Ели лягушек?
Любовь Андреевна. Крокодилов ела.
Пищик. Вы подумайте...
Лопахин. До сих пор в деревне были только господа и мужики, а теперь появились еще дачники. Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. И можно сказать, дачник лет через двадцать размножится до необычайности. Теперь он только чай пьет на балконе, но ведь может случиться, что на своей одной десятине он займется хозяйством, и тогда ваш вишневый сад станет счастливым, богатым, роскошным...
Гаев (возмущаясь). Какая чепуха!
Входят Варя и Яша.
Варя. Тут, мамочка, вам две телеграммы. (Выбирает ключ и со звоном отпирает старинный шкаф.) Вот они.
Любовь Андреевна. Это из Парижа. (Рвет телеграммы, не прочитав.) С Парижем кончено...
Гаев. А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю назад я выдвинул нижний ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкаф сделан ровно сто лет тому назад. Каково? А? Можно было бы юбилей отпраздновать. Предмет неодушевленный, а все-таки, как-никак, книжный шкаф.
Пищик (удивленно). Сто лет... Вы подумайте!..
Гаев. Да... Это вещь... (Ощупав шкаф.) Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая (сквозь слезы) в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания.
Пауза.
Лопахин. Да...
Любовь Андреевна. Ты все такой же, Леня.
Гаев (немного сконфуженный). От шара направо в угол! Режу в среднюю!
Лопахин (поглядев на часы). Ну, мне пора.
Яша (подает Любови Андреевне лекарства). Может, примете сейчас пилюли...
Пищик. Не надо принимать медикаменты, милейшая... от них ни вреда, ни пользы... Дайте-ка сюда... многоуважаемая. (Берет пилюли, высыпает их себе на ладонь, дует на них, кладет в рот и запивает квасом.) Вот!
Любовь Андреевна (испуганно). Да вы с ума сошли!
Пищик. Все пилюли принял.
Лопахин. Экая прорва.
Все смеются.
Фирс. Они были у нас на Святой, полведра огурцов скушали... (Бормочет.)
Любовь Андреевна. О чем это он?
Варя. Уж три года так бормочет. Мы привыкли.
Яша. Преклонный возраст.
Шарлотта Ивановна в белом платье, очень худая, стянутая, с лорнеткой на поясе проходит через сцену.
Лопахин. Простите, Шарлотта Ивановна, я не успел еще поздороваться с вами. (Хочет поцеловать у нее руку.)
Шарлотта (отнимая руку). Если позволить вам поцеловать руку, то вы потом пожелаете в локоть, потом в плечо...
Лопахин. Не везет мне сегодня.
Все смеются.
Шарлотта Ивановна, покажите фокус!
Любовь Андреевна. Шарлотта, покажите фокус!
Шарлотта. Не надо. Я спать желаю. (Уходит.)
Лопахин. Через три недели увидимся. (Целует, Любови Андреевне руку.) Пока прощайте. Пора. (Гаеву.) До свиданция. (Целуется с Пищиком.) До свиданция. (Подает руку Варе, потом Фирсу и Яше.) Не хочется уезжать. (Любови Андреевне.)Ежели надумаете насчет дач и решите, тогда дайте знать, я взаймы тысяч пятьдесят достану. Серьезно подумайте.
Варя (сердито). Да уходите же наконец!
Лопахин. Ухожу, ухожу... (Уходит.)
Гаев. Хам. Впрочем, пардон... Варя выходит за него замуж, это Варин женишок.
Варя. Не говорите, дядечка, лишнего.
Любовь Андреевна. Что ж, Варя, я буду очень рада. Он хороший человек.
Пищик. Человек, надо правду говорить... достойнейший... И моя Дашенька... тоже говорит, что... разные слова говорит. (Храпит, но тотчас же просыпается.) А все-таки, многоуважаемая, одолжите мне... взаймы двести сорок рублей... завтра по закладной проценты платить...
Варя (испуганно). Нету, нету!
Любовь Андреевна. У меня в самом деле нет ничего.
Пищик. Найдутся. (Смеется.) Не теряю никогда надежды. Вот, думаю, уж все пропало, погиб, ан глядь, — железная дорога по моей земле прошла, и... мне заплатили. А там, гляди, еще что-нибудь случится не сегодня-завтра... Двести тысяч выиграет Дашенька... у нее билет есть.
Любовь Андреевна. Кофе выпит, можно на покой.
Фирс (чистит щеткой Гаева, наставительно). Опять не те брючки надели. И что мне с вами делать!
Варя (тихо). Аня спит. (Тихо отворяет окно.) Уже взошло солнце, не холодно. Взгляните, мамочка: какие чудесные деревья! Боже мой, воздух! Скворцы поют!
Гаев (отворяет другое окно). Сад весь белый. Ты не забыла, Люба? Вот эта длинная аллея идет прямо, прямо, точно протянутый ремень, она блестит в лунные ночи. Ты помнишь? Не забыла?
Любовь Андреевна (глядит в окно на сад). О, мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось. (Смеется от радости.)Весь, весь белый! О, сад мой! После темной, ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя... Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!
Гаев. Да, и сад продадут за долги, как это ни странно...
Любовь Андреевна. Посмотрите, покойная мама идет по саду... в белом платье! (Смеется от радости.) Это она.
Гаев. Где?
Варя. Господь с вами, мамочка.
Любовь Андреевна. Никого нет, мне показалось. Направо, на повороте к беседке, белое деревцо склонилось, похоже на женщину...
Входит Трофимов, в поношенном студенческом мундире, в очках.
Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо...
Трофимов. Любовь Андреевна!
Она оглянулась на него.
Я только поклонюсь вам и тотчас же уйду. (Горячо целует руку.) Мне приказано было ждать до утра, но у меня не хватило терпения...
Любовь Андреевна глядит с недоумением.
Варя (сквозь слезы). Это Петя Трофимов...
Трофимов. Петя Трофимов, бывший учитель вашего Гриши... Неужели я так изменился?
Любовь Андреевна обнимает его и тихо плачет.
Гаев (смущенно). Полно, полно, Люба.
Варя (плачет). Говорила ведь, Петя, чтобы погодили до завтра.
Любовь Андреевна. Гриша мой... мой мальчик... Гриша... сын...
Варя. Что же делать, мамочка. Воля божья.
Трофимов (мягко, сквозь слезы). Будет, будет...
Любовь Андреевна (тихо плачет). Мальчик погиб, утонул... Для чего? Для чего, мой друг? (Тише.) Там Аня спит, а я громко говорю... поднимаю шум... Что же, Петя? Отчего вы так подурнели? Отчего постарели?
Трофимов. Меня в вагоне одна баба назвала так: облезлый барин.
Любовь Андреевна. Вы были тогда совсем мальчиком, милым студентиком, а теперь волосы не густые, очки. Неужели вы все еще студент? (Идет к двери.)
Трофимов. Должно быть, я буду вечным студентом.
Любовь Андреевна (целует брата, потом Варю). Ну, идите спать... Постарел и ты, Леонид.
Пищик (идет за ней). Значит, теперь спать... Ох, подагра моя. Я у вас останусь... Мне бы, Любовь Андреевна, душа моя, завтра утречком... двести сорок рублей...
Гаев. А этот все свое.
Пищик. Двести сорок рублей... проценты по закладной платить.
Любовь Андреевна. Нет у меня денег, голубчик.
Пищик. Отдам, милая... Сумма пустяшная...
Любовь Андреевна. Ну, хорошо, Леонид даст... Ты дай, Леонид.
Гаев. Дам я ему, держи карман.
Любовь Андреевна. Что же делать, дай... Ему нужно... Он отдаст.
Любовь Андреевна, Трофимов, Пищик и Фирс уходят. Остаются Гаев, Варя и Яша.
Гаев. Сестра не отвыкла еще сорить деньгами. (Яше.) Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет.
Яша (с усмешкой). А вы, Леонид Андреич, все такой же, как были.
Гаев. Кого? (Варе.) Что он сказал?
Варя (Яше). Твоя мать пришла из деревни, со вчерашнего дня сидит в людской, хочет повидаться...
Яша. Бог с ней совсем!
Варя. Ах, бесстыдник!
Яша. Очень нужно. Могла бы и завтра прийти. (Уходит.)
Варя. Мамочка такая же, как была, нисколько не изменилась. Если б ей волю, она бы все раздала.
Гаев. Да...
Пауза.
Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то это значит, что болезнь неизлечима. Я думаю, напрягаю мозги, у меня много средств, очень много и, значит, в сущности ни одного. Хорошо бы получить от кого-нибудь наследство, хорошо бы выдать нашу Аню за очень богатого человека, хорошо бы поехать в Ярославль и попытать счастья у тетушки-графини. Тетка ведь очень, очень богата.
Варя (плачет). Если бы бог помог.
Гаев. Не реви. Тетка очень богата, но нас она не любит. Сестра, во-первых, вышла замуж за присяжного поверенного, не дворянина...
Аня показывается в дверях.
Вышла за не дворянина и вела себя нельзя сказать чтобы очень добродетельно. Она хорошая, добрая, славная, я ее очень люблю, но, как там ни придумывай смягчающие обстоятельства, все же, надо сознаться, она порочна. Это чувствуется в ее малейшем движении.
Варя (шепотом). Аня стоит в дверях.
Гаев. Кого?
Пауза.
Удивительно, мне что-то в правый глаз попало... плохо стал видеть. И в четверг, когда я был в окружном суде...
Входит Аня.
Варя. Что же ты не спишь, Аня?
Аня. Не спится. Не могу.
Гаев. Крошка моя. (Целует Ане лицо, руки.) Дитя мое... (Сквозь слезы.) Ты не племянница, ты мой ангел, ты для меня все. Верь мне, верь...
Аня. Я верю тебе, дядя. Тебя все любят, уважают... но, милый дядя, тебе надо молчать, только молчать. Что ты говорил только что про мою маму, про свою сестру? Для чего ты это говорил?
Гаев. Да, да... (Ее рукой закрывает себе лицо.) В самом деле, это ужасно! Боже мой! Боже, спаси меня! И сегодня я речь говорил перед шкафом... так глупо! И только когда кончил, понял, что глупо.
Варя. Правда, дядечка, вам надо бы молчать. Молчите себе, и все.
Аня. Если будешь молчать, то тебе же самому будет покойнее.
Гаев. Молчу. (Целует Ане и Варе руки.) Молчу. Только вот о деле. В четверг я был в окружном суде, ну, сошлась компания, начался разговор о том, о сем, пятое-десятое, и, кажется, вот можно будет устроить заем под векселя, чтобы заплатить проценты в банк.
Варя. Если бы господь помог!
Гаев. Во вторник поеду, еще раз поговорю. (Варе.) Не реви. (Ане.) Твоя мама поговорит с Лопахиным; он, конечно, ей не откажет... А ты, как отдохнешь, поедешь в Ярославль к графине, твоей бабушке. Вот так и будем действовать с трех концов — и дело наше в шляпе. Проценты мы заплатим, я убежден... (Кладет в рот леденец.) Честью моей, чем хочешь, клянусь, имение не будет продано! (Возбужденно.) Счастьем моим клянусь! Вот тебе моя рука, назови меня тогда дрянным, бесчестным человеком, если я допущу до аукциона! Всем существом моим клянусь!
Аня (спокойное настроение вернулось к ней, она счастлива). Какой ты хороший, дядя, какой умный! (Обнимает дядю.) Я теперь покойна! Я покойна! Я счастлива!
Входит Фирс.
Фирс (укоризненно). Леонид Андреич, бога вы не боитесь! Когда же спать?
Гаев. Сейчас, сейчас. Ты уходи, Фирс. Я уж, так и быть, сам разденусь. Ну, детки, бай-бай... Подробности завтра, а теперь идите спать. (Целует Аню и Варю.) Я человек восьмидесятых годов... Не хвалят это время, но все же могу сказать, за убеждения мне доставалось немало в жизни. Недаром меня мужик любит. Мужика надо знать! Надо знать, с какой...
Аня. Опять ты, дядя!
Варя. Вы, дядечка, молчите.
Фирс (сердито). Леонид Андреич!
Гаев. Иду, иду... Ложитесь. От двух бортов в середину! Кладу чистого... (Уходит, за ним семенит Фирс.)
Аня. Я теперь покойна. В Ярославль ехать не хочется, я не люблю бабушку, но все же я покойна. Спасибо дяде. (Садится.)
Варя. Надо спать. Пойду. А тут без тебя было неудовольствие. В старой людской, как тебе известно, живут одни старые слуги: Ефимьюшка, Поля, Евстигней, ну и Карп. Стали они пускать к себе ночевать каких-то проходимцев — я промолчала. Только вот, слышу, распустили слух, будто я велела кормить их одним только горохом. От скупости, видишь ли... И это все Евстигней... Хорошо, думаю. Коли так, думаю, то погоди же. Зову я Евстигнея... (Зевает.) Приходит... Как же ты, говорю, Евстигней... дурак ты этакой... (Поглядев на Аню.) Анечка!..
Пауза.
Заснула!.. (Берет Аню под руку.) Пойдем в постельку... Пойдем!.. (Ведет ее.) Душечка моя уснула! Пойдем...
Идут.
Далеко за садом пастух играет на свирели.
Трофимов идет через сцену и, увидев Варю и Аню, останавливается.
Тссс... Она спит... спит... Пойдем, родная.
Аня (тихо, в полусне). Я так устала... все колокольчики... Дядя... милый... и мама и дядя...
Варя. Пойдем, родная, пойдем... (Уходят в комнату Ани.)
Трофимов (в умилении). Солнышко мое! Весна моя!
Занавес
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка, возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами, и старая скамья. Видна дорога в усадьбу Гаева. В стороне, возвышаясь, темнеют тополи: там начинается вишневый сад. Вдали ряд телеграфных столбов, и далеко-далеко на горизонте неясно обозначается большой город, который бывает виден только в очень хорошую, ясную погоду. Скоро сядет солнце. Шарлотта, Яша и Дуняша сидят на скамье;Епиходов стоит возле и играет на гитаре; все сидят задумавшись. Шарлотта в старой фуражке; она сняла с плеч ружье и поправляет пряжку на ремне.
Шарлотта (в раздумье). У меня нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала salto mortale и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я — не знаю... Кто мои родители, может, они не венчались... не знаю. (Достает из кармана огурец и ест.) Ничего не знаю.
Пауза.
Так хочется поговорить, а не с кем... Никого у меня нет.
Епиходов (играет на гитаре и поет). «Что мне до шумного света, что мне друзья и враги...» Как приятно играть на мандолине!
Дуняша. Это гитара, а не мандолина. (Глядится в зеркальце и пудрится.)
Епиходов. Для безумца, который влюблен, это мандолина... (Напевает.) «Было бы сердце согрето жаром взаимной любви...»
Яша подпевает.
Шарлотта. Ужасно поют эти люди... фуй! Как шакалы.
Дуняша (Яше). Все-таки какое счастье побывать за границей.
Яша. Да, конечно. Не могу с вами не согласиться. (Зевает, потом закуривает сигару.)
Епиходов. Понятное дело. За границей всё давно уж в полной комплекции.
Яша. Само собой.
Епиходов. Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направления, чего мне собственно хочется, жить мне или застрелиться, собственно говоря, но тем не менее я всегда ношу при себе револьвер. Вот он... (Показывает револьвер.)
Шарлотта. Кончила. Теперь пойду. (Надевает ружье.) Ты, Епиходов, очень умный человек и очень страшный; тебя должны безумно любить женщины. Бррр! (Идет.) Эти умники все такие глупые, не с кем мне поговорить... Все одна, одна, никого у меня нет и... и кто я, зачем я, неизвестно... (Уходит не спеша.)
Епиходов. Собственно говоря, не касаясь других предметов, я должен выразиться о себе, между прочим, что судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю. Если, допустим, я ошибаюсь, тогда зачем же сегодня утром я просыпаюсь, к примеру сказать, гляжу, а у меня на груди страшной величины паук... Вот такой. (Показывает обеими руками.) И тоже квасу возьмешь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь в высшей степени неприличное, вроде таракана.
Пауза.
Вы читали Бокля?
Пауза. Я желаю побеспокоить вас, Авдотья Федоровна, на пару слов.
Дуняша. Говорите.
Епиходов. Мне бы желательно с вами наедине... (Вздыхает.)
Дуняша (смущенно). Хорошо... только сначала принесите мне мою тальмочку... Она около шкафа... тут немножко сыро...
Епиходов. Хорошо-с... принесу-с... Теперь я знаю, что мне делать с моим револьвером... (Берет гитару и уходит, наигрывая.)
Яша. Двадцать два несчастья! Глупый человек, между нами говоря. (Зевает.)
Дуняша. Не дай бог, застрелится.
Пауза.
Я стала тревожная, все беспокоюсь. Меня еще девочкой взяли к господам, я теперь отвыкла от простой жизни, и вот руки белые-белые, как у барышни. Нежная стала, такая деликатная, благородная, всего боюсь... Страшно так. И если вы, Яша, обманете меня, то я не знаю, что будет с моими нервами.
Яша (целует ее). Огурчик! Конечно, каждая девушка должна себя помнить, и я больше всего не люблю, ежели девушка дурного поведения.
Дуняша. Я страстно полюбила вас, вы образованный, можете обо всем рассуждать.
Пауза.
Яша (зевает). Да-с... По-моему, так: ежели девушка кого любит, то она, значит, безнравственная.
Пауза.
Приятно выкурить сигару на чистом воздухе... (Прислушивается.) Сюда идут... Это господа...
Дуняша порывисто обнимает его.
Идите домой, будто ходили на реку купаться, идите этой дорожкой, а то встретятся и подумают про меня, будто я с вами на свидании. Терпеть этого не могу.
Дуняша (тихо кашляет). У меня от сигары голова разболелась... (Уходит.)
Яша остается, сидит возле часовни. Входят Любовь Андреевна, Гаев и Лопахин.
Лопахин. Надо окончательно решить — время не ждет. Вопрос ведь совсем пустой. Согласны вы отдать землю под дачи или нет? Ответьте одно слово: да или нет? Только одно слово!
Любовь Андреевна. Кто это здесь курит отвратительные сигары... (Садится.)
Гаев. Вот железную дорогу построили, и стало удобно. (Садится.) Съездили в город и позавтракали... желтого в середину! Мне бы сначала пойти в дом, сыграть одну партию...
Любовь Андреевна. Успеешь.
Лопахин. Только одно слово! (Умоляюще.) Дайте же мне ответ!
Гаев (зевая). Кого?
Любовь Андреевна (глядит в свое портмоне). Вчера было много денег, а сегодня совсем мало. Бедная моя Варя из экономии кормит всех молочным супом, на кухне старикам дают один горох, а я трачу как-то бессмысленно... (Уронила портмоне, рассыпала золотые.) Ну, посыпались... (Ей досадно.)
Яша. Позвольте, я сейчас подберу. (Собирает монеты.)
Любовь Андреевна. Будьте добры, Яша. И зачем я поехала завтракать... Дрянной ваш ресторан с музыкой, скатерти пахнут мылом... Зачем так много пить, Леня? Зачем так много есть? Зачем так много говорить? Сегодня в ресторане ты говорил опять много и все некстати. О семидесятых годах, о декадентах. И кому? Половым говорить о декадентах!
Лопахин. Да.
Гаев (машет рукой). Я неисправим, это очевидно... (Раздраженно Яше.) Что такое, постоянно вертишься перед глазами...
Яша (смеется). Я не могу без смеха вашего голоса слышать.
Гаев (сестре). Или я, или он...
Любовь Андреевна. Уходите, Яша, ступайте...
Яша (отдает Любови Андреевне кошелек). Сейчас уйду. (Едва удерживается от смеха.) Сию минуту... (Уходит.)
Лопахин. Ваше имение собирается купить богач Дериганов. На торги, говорят, приедет сам лично.
Любовь Андреевна. А вы откуда слышали?
Лопахин. В городе говорят.
Гаев. Ярославская тетушка обещала прислать, а когда и сколько пришлет, неизвестно...
Лопахин. Сколько она пришлет? Тысяч сто? Двести?
Любовь Андреевна. Ну... Тысяч десять-пятнадцать, и на том спасибо.
Лопахин. Простите, таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я еще не встречал. Вам говорят русским языком, имение ваше продается, а вы точно не понимаете.
Любовь Андреевна. Что же нам делать? Научите, что?
Лопахин. Я вас каждый день учу. Каждый день я говорю все одно и то же. И вишневый сад, и землю необходимо отдать в аренду под дачи, сделать это теперь же, поскорее — аукцион на носу! Поймите! Раз окончательно решите, чтоб были дачи, так денег вам дадут сколько угодно, и вы тогда спасены.
Любовь Андреевна. Дачи и дачники — это так пошло, простите.
Гаев. Совершенно с тобой согласен.
Лопахин. Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Не могу! Вы меня замучили! (Гаеву.) Баба вы!
Гаев. Кого?
Лопахин. Баба! (Хочет уйти.)
Любовь Андреевна (испуганно). Нет, не уходите, останьтесь, голубчик. Прошу вас. Может быть, надумаем что-нибудь!
Лопахин. О чем тут думать!
Любовь Андреевна. Не уходите, прошу вас. С вами все-таки веселее...
Пауза.
Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом.
Гаев (в глубоком раздумье). Дуплет в угол... Круазе в середину...
Любовь Андреевна. Уж очень много мы грешили...
Лопахин. Какие у вас грехи...
Гаев (кладет в рот леденец). Говорят, что я все свое состояние проел на леденцах... (Смеется.)
Любовь Андреевна. О, мои грехи... Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая, и вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Муж мой умер от шампанского, — он страшно пил, — и на несчастье я полюбила другого, сошлась, и как раз в это время, — это было первое наказание, удар прямо в голову, — вот тут на реке... утонул мой мальчик, и я уехала за границу, совсем уехала, чтобы никогда не возвращаться, не видеть этой реки... Я закрыла глаза, бежала, себя не помня, а он за мной... безжалостно, грубо. Купила я дачу возле Ментоны, так как он заболел там, и три года я не знала отдыха ни днем, ни ночью; больной измучил меня, душа моя высохла. А в прошлом году, когда дачу продали за долги, я уехала в Париж, и там он обобрал меня, бросил, сошелся с другой, я пробовала отравиться... Так глупо, так стыдно... И потянуло вдруг в Россию, на родину, к девочке моей... (Утирает слезы.) Господи, господи, будь милостив, прости мне грехи мои! Не наказывай меня больше! (Достает из кармана телеграмму.) Получила сегодня из Парижа... Просит прощения, умоляет вернуться... (Рвет телеграмму.)Словно где-то музыка. (Прислушивается.)
Гаев. Это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь, четыре скрипки, флейта и контрабас.
Любовь Андреевна. Он еще существует? Его бы к нам зазвать как-нибудь, устроить вечерок.
Лопахин (прислушивается). Не слыхать... (Тихо напевает.) «И за деньги русака немцы офранцузят». (Смеется.) Какую я вчера пьесу смотрел в театре, очень смешно.
Любовь Андреевна. И, наверное, ничего нет смешного. Вам не пьесы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя. Как вы все серо живете, как много говорите ненужного.
Лопахин. Это правда. Надо прямо говорить, жизнь у нас дурацкая...
Пауза.
Мой папаша был мужик, идиот, ничего не понимал, меня не учил, а только бил спьяна, и все палкой. В сущности, и я такой же болван и идиот. Ничему не обучался, почерк у меня скверный, пишу я так, что от людей совестно, как свинья.
Любовь Андреевна. Жениться вам нужно, мой друг.
Лопахин. Да... Это правда.
Любовь Андреевна. На нашей бы Варе. Она хорошая девушка.
Лопахин. Да.
Любовь Андреевна. Она у меня из простых, работает целый день, а главное, вас любит. Да и вам-то давно нравится.
Лопахин. Что же? Я не прочь... Она хорошая девушка.
Пауза.
Гаев. Мне предлагают место в банке. Шесть тысяч в год... Слыхала?
Любовь Андреевна. Где тебе! Сиди уж...
Фирс входит; он принес пальто.
Фирс (Гаеву). Извольте, сударь, надеть, а то сыро.
Гаев (надевает пальто). Надоел ты, брат.
Фирс. Нечего там... Утром уехали, не сказавшись. (Оглядывает его.)
Любовь Андреевна. Как ты постарел, Фирс!
Фирс. Чего изволите?
Лопахин. Говорят, ты постарел очень!
Фирс. Живу давно. Меня женить собирались, а вашего папаши еще на свете не было... (Смеется.) А воля вышла, я уже старшим камердинером был. Тогда я не согласился на волю, остался при господах...
Пауза.
И помню, все рады, а чему рады, и сами не знают.
Лопахин. Прежде очень хорошо было. По крайней мере, драли.
Фирс (не расслышав). А еще бы. Мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все враздробь, не поймешь ничего.
Гаев. Помолчи, Фирс. Завтра мне нужно в город. Обещали познакомить с одним генералом, который может дать под вексель.
Лопахин. Ничего у вас не выйдет. И не заплатите вы процентов, будьте покойны.
Любовь Андреевна. Это он бредит. Никаких генералов нет.
Входят Трофимов, Аня и Варя.
Гаев. А вот и наши идут.
Аня. Мама сидит.
Любовь Андреевна (нежно). Иди, иди... Родные мои... (Обнимая Аню и Варю.) Если бы вы обе знали, как я вас люблю. Садитесь рядом, вот так.
Все усаживаются.
Лопахин. Наш вечный студент все с барышнями ходит.
Трофимов. Не ваше дело.
Лопахин. Ему пятьдесят лет скоро, а он все еще студент.
Трофимов. Оставьте ваши дурацкие шутки.
Лопахин. Что же ты, чудак, сердишься?
Трофимов. А ты не приставай.
Лопахин (смеется). Позвольте вас спросить, как вы обо мне понимаете?
Трофимов. Я, Ермолай Алексеич, так понимаю: вы богатый человек, будете скоро миллионером. Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадается ему на пути, так и ты нужен.
Все смеются.
Варя. Вы, Петя, расскажите лучше о планетах.
Любовь Андреевна. Нет, давайте продолжим вчерашний разговор.
Трофимов. О чем это?
Гаев. О гордом человеке.
Трофимов. Мы вчера говорили долго, но ни к чему не пришли. В гордом человеке, в вашем смысле, есть что-то мистическое. Быть может, вы и правы по-своему, но если рассуждать попросту, без затей, то какая там гордость, есть ли в ней смысл, если человек физиологически устроен неважно, если в своем громадном большинстве он груб, неумен, глубоко несчастлив. Надо перестать восхищаться собой. Надо бы только работать.
Гаев. Все равно умрешь.
Трофимов. Кто знает? И что значит — умрешь? Быть может, у человека сто чувств и со смертью погибают только пять, известных нам, а остальные девяносто пять остаются живы.
Любовь Андреевна. Какой вы умный, Петя!..
Лопахин (иронически). Страсть!
Трофимов. Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину. У нас, в России, работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно. Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят «ты», с мужиками обращаются как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезны, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушек, по тридцати, по сорока в одной комнате, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота... И, очевидно, все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы отвести глаза себе и другим. Укажите мне, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто, где читальни? О них только в романах пишут, на деле же их нет совсем. Есть только грязь, пошлость, азиатчина... Я боюсь и не люблю очень серьезных физиономий, боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчим!
Лопахин. Знаете, я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера, ну, у меня постоянно деньги свои и чужие, и я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. Иной раз, когда не спится, я думаю: господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами...
Любовь Андреевна. Вам понадобились великаны... Они только в сказках хороши, а так они пугают.
В глубине сцены проходит Епиходов и играет на гитаре.
(Задумчиво.) Епиходов идет...
Аня (задумчиво). Епиходов идет...
Гаев. Солнце село, господа.
Трофимов. Да.
Гаев (негромко, как бы декламируя). О природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная, ты, которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть, ты живишь и разрушаешь...
Варя (умоляюще). Дядечка!
Аня. Дядя, ты опять!
Трофимов. Вы лучше желтого в середину дуплетом.
Гаев. Я молчу, молчу.
Все сидят, задумались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фирс. Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный.
Любовь Андреевна. Это что?
Лопахин. Не знаю. Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Но где-нибудь очень далеко.
Гаев. А может быть, птица какая-нибудь... вроде цапли.
Трофимов. Или филин...
Любовь Андреевна (вздрагивает). Неприятно почему-то.
Пауза.
Фирс. Перед несчастьем тоже было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.
Гаев. Перед каким несчастьем?
Фирс. Перед волей.
Пауза.
Любовь Андреевна. Знаете, друзья, пойдемте, уже вечереет. (Ане.) У тебя на глазах слезы... Что ты, девочка? (Обнимает ее.)
Аня. Это так, мама. Ничего.
Трофимов. Кто-то идет.
Показывается Прохожий в белой потасканной фуражке, в пальто; он слегка пьян.
Прохожий. Позвольте вас спросить, могу ли я пройти здесь прямо на станцию?
Гаев. Можете. Идите по этой дороге.
Прохожий. Чувствительно вам благодарен. (Кашлянув.) Погода превосходная... (Декламирует.) Брат мой, страдающий брат... выдь на Волгу, чей стон... (Варе.) Мадемуазель, позвольте голодному россиянину копеек тридцать...
Варя испугалась, вскрикивает.
Лопахин (сердито). Всякому безобразию есть свое приличие!
Любовь Андреевна (оторопев). Возьмите... вот вам... (Ищет в портмоне.) Серебра нет... Все равно, вот вам золотой...
Прохожий. Чувствительно вам благодарен! (Уходит.)
Смех.
Варя (испуганная). Я уйду... я уйду... Ах, мамочка, дома людям есть нечего, а вы ему отдали золотой.
Любовь Андреевна. Что ж со мной, глупой, делать! Я тебе дома отдам все, что у меня есть. Ермолай Алексеич, дадите мне еще взаймы!..
Лопахин. Слушаю.
Любовь Андреевна. Пойдемте, господа, пора. А тут, Варя, мы тебя совсем просватали, поздравляю.
Варя (сквозь слезы). Этим, мама, шутить нельзя.
Лопахин. Охмелия, иди в монастырь...
Гаев. А у меня дрожат руки: давно не играл на биллиарде.
Лопахин. Охмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах!
Любовь Андреевна. Идемте, господа. Скоро ужинать.
Варя. Напугал он меня. Сердце так и стучит.
Лопахин. Напоминаю вам, господа: двадцать второго августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом!.. Думайте!..
Уходят все, кроме Трофимова и Ани.
Аня (смеясь). Спасибо прохожему, напугал Варю, теперь мы одни.
Трофимов. Варя боится, а вдруг мы полюбим друг друга, и целые дни не отходит от нас. Она своей узкой головой не может понять, что мы выше любви. Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и счастливым, — вот цель и смысл нашей жизни. Вперед! Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там вдали! Вперед! Не отставай, друзья!
Аня (всплескивая руками). Как хорошо вы говорите!
Пауза.
Сегодня здесь дивно!
Трофимов. Да, погода удивительная.
Аня. Что вы со мной сделали, Петя, отчего я уже не люблю вишневого сада, как прежде. Я любила его так нежно, мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад.
Трофимов. Вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест.
Пауза.
Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов... Владеть живыми душами — ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих, так что ваша мать, вы, дядя уже не замечаете, что вы живете в долг, на чужой счет, на счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней... Мы отстали по крайней мере лет на двести, у нас нет еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому, мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку. Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом. Поймите это, Аня.
Аня. Дом, в котором мы живем, давно уже не наш дом, и я уйду, даю вам слово.
Трофимов. Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны, как ветер.
Аня (в восторге). Как хорошо вы сказали!
Трофимов. Верьте мне, Аня, верьте! Мне еще нет тридцати, я молод, я еще студент, но я уже столько вынес! Как зима, так я голоден, болен, встревожен, беден, как нищий, и — куда только судьба не гоняла меня, где я только не был! И все же душа моя всегда, во всякую минуту, и днем и ночью, была полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его...
Аня (задумчиво). Восходит луна.
Слышно, как Епиходов играет на гитаре все ту же грустную песню. Восходит луна. Где-то около тополей Варя ищет Аню и зовет: «Аня! Где ты?»
Трофимов. Да, восходит луна.
Пауза.
Вот оно счастье, вот оно идет, подходит все ближе и ближе, я уже слышу его шаги. И если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие!
Голос Вари: «Аня! Где ты?»
Опять эта Варя! (Сердито.) Возмутительно!
Аня. Что ж? Пойдемте к реке. Там хорошо.
Трофимов. Пойдемте.
Идут.
Голос Вари: «Аня! Аня!»
Занавес
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Гостиная, отделенная аркой от залы. Горит люстра. Слышно, как в передней играет еврейский оркестр, тот самый, о котором упоминается во втором акте. Вечер. В зале танцуют grand-rond. Голос Симеонова-Пищика: «Promenade à une paire!» Выходят в гостиную: в первой паре Пищик и Шарлотта Ивановна, во второй — Трофимов и Любовь Андреевна, в третьей — Аня с почтовым чиновником, в четвертой — Варя с начальником станции и т. д. Варя тихо плачет и, танцуя, утирает слезы. В последней паре Дуняша. Идут по гостиной, Пищик кричит: «Grand-rond, balancez!» и «Les cavaliers à genoux et remerciez vos dames».1
Фирс во фраке проносит на подносе сельтерскую воду. Входят в гостиную Пищик и Трофимов.
Пищик. Я полнокровный, со мной уже два раза удар был, танцевать трудно, но, как говорится, попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. Здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник, царство небесное, насчет нашего происхождения говорил так, будто древний род наш Симеоновых-Пищиков происходит будто бы от той самой лошади, которую Калигула посадил в сенате... (Садится.) Но вот беда: денег нет! Голодная собака верует только в мясо... (Храпит и тотчас же просыпается.) Так и я... могу только про деньги...
Трофимов. А у вас в фигуре в самом деле есть что-то лошадиное.
Пищик. Что ж... лошадь хороший зверь... Лошадь продать можно...
Слышно, как в соседней комнате играют на биллиарде. В зале под аркой показывается Варя.
Трофимов (дразнит). Мадам Лопахина! Мадам Лопахина!..
Варя (сердито). Облезлый барин!
Трофимов. Да, я облезлый барин и горжусь этим!
Варя (в горьком раздумье). Вот наняли музыкантов, а чем платить? (Уходит.)
Трофимов (Пищику). Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы могли бы перевернуть землю.
Пищик. Ницше... философ... величайший, знаменитейший... громадного ума человек, говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно.
Трофимов. А вы читали Ницше?
Пищик. Ну... Мне Дашенька говорила. А я теперь в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай... Послезавтра триста десять рублей платить... Сто тридцать уже достал... (Ощупывает карманы, встревоженно.) Деньги пропали! Потерял деньги! (Сквозь слезы.) Где деньги? (Радостно.) Вот они, за подкладкой... Даже в пот ударило...
Входят Любовь Андреевна и Шарлотта Ивановна.
Любовь Андреевна (напевает лезгинку). Отчего так долго нет Леонида? Что он делает в городе? (Дуняше.) Дуняша, предложите музыкантам чаю...
Трофимов. Торги не состоялись, по всей вероятности.
Любовь Андреевна. И музыканты пришли некстати, и бал мы затеяли некстати... Ну, ничего... (Садится и тихо напевает.)
Шарлотта (подает Пищику колоду карт). Вот вам колода карт, задумайте какую-нибудь одну карту.
Пищик. Задумал.
Шарлотта. Тасуйте теперь колоду. Очень хорошо. Дайте сюда, о мой милый господин Пищик. Ein, zwei, drei! Теперь поищите, она у вас в боковом кармане...
Пищик (достает из бокового кармана карту). Восьмерка пик, совершенно верно! (Удивляясь.) Вы подумайте!
Шарлотта (держит на ладони колоду карт, Трофимову). Говорите скорее, какая карта сверху?
Трофимов. Что ж? Ну, дама пик.
Шарлотта. Есть! (Пищику.) Ну? Какая карта сверху?
Пищик. Туз червовый.
Шарлотта. Есть!.. (Бьет по ладони, колода карт исчезает.) А какая сегодня хорошая погода!
Ей отвечает таинственный женский голос, точно из-под пола: «О да, погода великолепная, сударыня».
Вы такой хороший мой идеал...
Голос: «Вы сударыня, мне тоже очень понравился».
Начальник станции (аплодирует). Госпожа чревовещательница, браво!
Пищик (удивляясь). Вы подумайте! Очаровательнейшая Шарлотта Ивановна... я просто влюблен...
Шарлотта. Влюблен? (Пожав плечами.) Разве вы можете любить? Guter Mensch, aber schlechter Musikant.2
Трофимов (хлопает Пищика по плечу). Лошадь вы этакая...
Шарлотта. Прошу внимания, еще один фокус. (Берет со стула плед.) Вот очень хороший плед, я желаю продавать... (Встряхивает.) Не желает ли кто покупать?
Пищик (удивляясь). Вы подумайте!
Шарлотта. Ein, zwei, drei! (Быстро поднимает опущенный плед.)
За пледом стоит Аня; она делает реверанс, бежит к матери, обнимает ее и убегает назад в залу при общем восторге.
Любовь Андреевна (аплодирует). Браво, браво!..
Шарлотта. Теперь еще! Ein, zwei, drei!
Поднимает плед; за пледом стоит Варя и кланяется.
Пищик (удивляясь). Вы подумайте!
Шарлотта. Конец! (Бросает плед на Пищика, делает реверанс и убегает в залу.)
Пищик (спешит за ней). Злодейка... какова? Какова? (Уходит.)
Любовь Андреевна. А Леонида все нет. Что он делает в городе, так долго, не понимаю! Ведь все уже кончено там, имение продано или торги не состоялись, зачем же так долго держать в неведении!
Варя (стараясь ее утешить). Дядечка купил, я в этом уверена.
Трофимов (насмешливо). Да.
Варя. Бабушка прислала ему доверенность, чтобы он купил на ее имя с переводом долга. Это она для Ани. И я уверена, бог поможет, дядечка купит.
Любовь Андреевна. Ярославская бабушка прислала пятнадцать тысяч, чтобы купить имение на ее имя, — нам она не верит, — а этих денег не хватило бы даже проценты заплатить. (Закрывает лицо руками.) Сегодня судьба моя решается, судьба...
Трофимов (дразнит Варю). Мадам Лопахина!
Варя (сердито). Вечный студент! Уже два раза увольняли из университета.
Любовь Андреевна. Что же ты сердишься, Варя? Он дразнит тебя Лопахиным, ну что ж? Хочешь — выходи за Лопахина, он хороший, интересный человек. Не хочешь — не выходи; тебя, дуся, никто не неволит...
Варя. Я смотрю на это дело серьезно, мамочка, надо прямо говорить. Он хороший человек, мне нравится.
Любовь Андреевна. И выходи. Что же ждать, не понимаю!
Варя. Мамочка, не могу же я сама делать ему предложение. Вот уже два года все мне говорят про него, все говорят, а он или молчит или шутит. Я понимаю. Он богатеет, занят делом, ему не до меня. Если бы были деньги, хоть немного, хоть бы сто рублей, бросила бы я все, ушла бы подальше. В монастырь бы ушла.
Трофимов. Благолепие!
Варя (Трофимову). Студенту надо быть умным! (Мягким тоном, со слезами.) Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели! (Любови Андреевне, уже не плача.) Только вот без дела не могу, мамочка. Мне каждую минуту надо что-нибудь делать.
Входит Яша.
Яша (едва удерживаясь от смеха). Епиходов биллиардный кий сломал!.. (Уходит.)
Варя. Зачем же Епиходов здесь? Кто ему позволил на биллиарде играть? Не понимаю этих людей... (Уходит.)
Любовь Андреевна. Не дразните ее, Петя, вы видите, она и без того в горе.
Трофимов. Уж очень она усердная, не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мне, ни Ане, боялась, как бы у нас романа не вышло. Какое ей дело? И к тому же я вида не подавал, я так далек от пошлости. Мы выше любви!
Любовь Андреевна. А я вот, должно быть, ниже любви. (В сильном беспокойстве.) Отчего нет Леонида? Только бы знать: продано имение или нет? Несчастье представляется мне до такой степени невероятным, что даже как-то не знаю, что думать, теряюсь... Я могу сейчас крикнуть... могу глупость сделать. Спасите меня, Петя. Говорите же что-нибудь, говорите...
Трофимов. Продано ли сегодня имение или не продано — не все ли равно? С ним давно уже покончено, нет поворота назад, заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя, надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза.
Любовь Андреевна. Какой правде? Вы видите, где правда и где неправда, а я точно потеряла зрение, ничего не вижу. Вы смело решаете все важные вопросы, но скажите, голубчик, не потому ли это, что вы молоды, что вы не успели перестрадать ни одного вашего вопроса? Вы смело смотрите вперед, и не потому ли, что не видите и не ждете ничего страшного, так как жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз? Вы смелее, честнее, глубже нас, но вдумайтесь, будьте великодушны хоть на кончике пальца, пощадите меня. Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом... (Обнимает Трофимова,целует его в лоб.) Ведь мой сын утонул здесь... (Плачет.) Пожалейте меня, хороший, добрый человек.
Трофимов. Вы знаете, я сочувствую всей душой.
Любовь Андреевна. Но надо иначе, иначе это сказать... (Вынимает платок, на пол падает телеграмма.) У меня сегодня тяжело на душе, вы не можете себе представить. Здесь мне шумно, дрожит душа от каждого звука, я вся дрожу, а уйти к себе не могу, мне одной в тишине страшно. Не осуждайте меня, Петя... Я вас люблю, как родного. Я охотно бы отдала за вас Аню, клянусь вам, только, голубчик, надо же учиться, надо курс кончить. Вы ничего не делаете, только судьба бросает вас с места на место, так это странно... Не правда ли? Да? И надо же что-нибудь с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь... (Смеется.)Смешной вы!
Трофимов (поднимает телеграмму). Я не желаю быть красавцем.
Любовь Андреевна. Это из Парижа телеграмма. Каждый день получаю. И вчера, и сегодня. Этот дикий человек опять заболел, опять с ним нехорошо... Он просит прощения, умоляет приехать, и понастоящему мне следовало бы съездить в Париж, побыть возле него. У вас, Петя, строгое лицо, но что же делать, голубчик мой, что мне делать, он болен, он одинок, несчастлив, а кто там поглядит за ним, кто удержит его от ошибок, кто даст ему вовремя лекарство? И что ж тут скрывать или молчать, я люблю его, это ясно. Люблю, люблю... Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю этот камень и жить без него не могу. (Жмет Трофимову руку.) Не думайте дурно, Петя, не говорите мне ничего, не говорите...
Трофимов (сквозь слезы). Простите за откровенность бога ради: ведь он обобрал вас!
Любовь Андреевна. Нет, нет, нет, не надо говорить так... (Закрывает уши.)
Трофимов. Ведь он негодяй, только вы одна не знаете этого! Он мелкий негодяй, ничтожество...
Любовь Андреевна (рассердившись, но сдержанно). Вам двадцать шесть лет или двадцать семь, а вы все еще гимназист второго класса!
Трофимов. Пусть!
Любовь Андреевна. Надо быть мужчиной, в ваши годы надо понимать тех, кто любит. И надо самому любить... надо влюбляться! (Сердито.) Да, да! И у вас нет чистоты, а вы просто чистюлька, смешной чудак, урод...
Трофимов (в ужасе). Что она говорит!
Любовь Андреевна. «Я выше любви!» Вы не выше любви, а просто, как вот говорит наш Фирс, вы недотёпа. В ваши годы не иметь любовницы!..
Трофимов (в ужасе). Это ужасно! Что она говорит?! (Идет быстро в зал, схватив себя за голову.) Это ужасно... Не могу, я уйду... (Уходит, но тотчас же возвращается.) Между нами все кончено! (Уходит в переднюю.)
Любовь Андреевна (кричит вслед). Петя, погодите! Смешной человек, я пошутила! Петя!
Слышно, как в передней кто-то быстро идет по лестнице и вдруг с грохотом падает вниз. Аня и Варя вскрикивают, но тотчас же слышится смех.
Что там такое?
Вбегает Аня.
Аня (смеясь). Петя с лестницы упал! (Убегает.)
Любовь Андреевна. Какой чудак этот Петя...
Начальник станции останавливается среди залы и читает «Грешницу» А. Толстого. Его слушают, но едва он прочел несколько строк, как из передней доносятся звуки вальса, и чтение обрывается. Все танцуют. Проходят из передней Трофимов, Аня, Варя иЛюбовь Андреевна.
Ну, Петя... ну, чистая душа... я прощения прошу... Пойдемте танцевать... (Танцует с Петей.)
Аня и Варя танцуют.
Фирс входит, ставит свою палку около боковой двери. Яша тоже вошел из гостиной, смотрит на танцы.
Яша. Что, дедушка?
Фирс. Нездоровится. Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и те не в охотку идут. Что-то ослабел я. Барин покойный, дедушка, всех сургучом пользовал, от всех болезней. Я сургуч принимаю каждый день уже лет двадцать, а то и больше; может, я от него и жив.
Яша. Надоел ты, дед. (Зевает.) Хоть бы ты поскорее подох.
Фирс. Эх ты... недотёпа! (Бормочет.)
Трофимов и Любовь Андреевна танцуют в зале, потом в гостиной.
Любовь Андреевна. Merci! Я посижу... (Садится.) Устала.
Входит Аня.
Аня (взволнованно). А сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишневый сад уже продан сегодня.
Любовь Андреевна. Кому продан?
Аня. Не сказал, кому. Ушел. (Танцует с Трофимовым, оба уходят в залу.)
Яша. Это там какой-то старик болтал. Чужой.
Фирс. А Леонида Андреича еще нет, не приехал. Пальто на нем легкое, демисезон, того гляди простудится. Эх, молодо-зелено.
Любовь Андреевна. Я сейчас умру. Подите, Яша, узнайте, кому продано.
Яша. Да он давно ушел, старик-то. (Смеется.)
Любовь Андреевна (с легкой досадой). Ну, чему вы смеетесь? Чему рады?
Яша. Очень уж Епиходов смешной. Пустой человек. Двадцать два несчастья.
Любовь Андреевна. Фирс, если продадут имение, то куда ты пойдешь?
Фирс. Куда прикажете, туда и пойду.
Любовь Андреевна. Отчего у тебя лицо такое? Ты нездоров? Шел бы, знаешь, спать...
Фирс. Да... (С усмешкой.) Я уйду спать, а без меня тут кто подаст, кто распорядится? Один на весь дом.
Яша (Любови Андреевне). Любовь Андреевна! Позвольте обратиться к вам с просьбой, будьте так добры! Если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой, сделайте милость. Здесь мне оставаться положительно невозможно. (Оглядываясь, вполголоса.) Что ж там говорить, вы сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно, а тут еще Фирс этот ходит, бормочет разные неподходящие слова. Возьмите меня с собой, будьте так добры!
Входит Пищик.
Пищик. Позвольте просить вас... на вальсишку, прекраснейшая... (Любовь Андреевна идет с ним.) Очаровательная, все-таки сто восемьдесят рубликов я возьму у вас... Возьму... (Танцует.) Сто восемьдесят рубликов...
Перешли в зал.
Яша (тихо напевает). «Поймешь ли ты души моей волненье...»
В зале фигура в сером цилиндре и в клетчатых панталонах машет руками и прыгает; крики: «Браво, Шарлотта Ивановна!»
Дуняша (остановилась, чтобы попудриться). Барышня велит мне танцевать, — кавалеров много, а дам мало, — а у меня от танцев кружится голова, сердце бьется, Фирс Николаевич, а сейчас чиновник с почты такое мне сказал, что у меня дыхание захватило.
Музыка стихает.
Фирс. Что же он тебе сказал?
Дуняша. Вы, говорит, как цветок.
Яша (зевает). Невежество... (Уходит.)
Дуняша. Как цветок... Я такая деликатная девушка, ужасно люблю нежные слова.
Фирс. Закрутишься ты.
Входит Епиходов.
Епиходов. Вы, Авдотья Федоровна, не желаете меня видеть... как будто я какое насекомое. (Вздыхает.) Эх, жизнь!
Дуняша. Что вам угодно?
Епиходов. Несомненно, может, вы и правы. (Вздыхает.) Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволю себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа. Я знаю свою фортуну, каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье, и к этому я давно уже привык, так что с улыбкой гляжу на свою судьбу. Вы дали мне слово, и хотя я...
Дуняша. Прошу вас, после поговорим, а теперь оставьте меня в покое. Теперь я мечтаю. (Играет веером.)
Епиходов. У меня несчастье каждый день, и я, позволю себе так выразиться, только улыбаюсь, даже смеюсь.
Входит из залы Варя.
Варя. Ты все еще не ушел, Семен? Какой же ты, право, неуважительный человек. (Дуняше.) Ступай отсюда, Дуняша. (Епиходову.) То на биллиарде играешь и кий сломал, то по гостиной расхаживаешь, как гость.
Епиходов. С меня взыскивать, позвольте вам выразиться, вы не можете.
Варя. Я не взыскиваю с тебя, а говорю. Только и знаешь, что ходишь с места на место, а делом не занимаешься. Конторщика держим, а неизвестно — для чего.
Епиходов (обиженно). Работаю ли я, хожу ли, кушаю ли, играю ли на биллиарде, про то могут рассуждать только люди понимающие и старшие.
Варя. Ты смеешь мне говорить это! (Вспылив.) Ты смеешь? Значит, я ничего не понимаю? Убирайся же вон отсюда! Сию минуту!
Епиходов (струсив). Прошу вас выражаться деликатным способом.
Варя (выйдя из себя). Сию же минуту вон отсюда! Вон!
Он идет к двери, она за ним.
Двадцать два несчастья! Чтобы духу твоего здесь не было! Чтобы глаза мои тебя не видели!
Епиходов вышел, за дверью его голос: «Я на вас буду жаловаться».
А, ты назад идешь? (Хватает палку, поставленную около двери Фирсом.) Иди... Иди... Иди, я тебе покажу... А, ты идешь? Идешь? Так вот же тебе... (Замахивается.)
В это время входит Лопахин.
Лопахин. Покорнейше благодарю.
Варя (сердито и насмешливо). Виновата!
Лопахин. Ничего-с. Покорно благодарю за приятное угощение.
Варя. Не стоит благодарности. (Отходит, потом оглядывается и спрашивает мягко.) Я вас не ушибла?
Лопахин. Нет, ничего. Шишка, однако, вскочит огромадная.
Голоса в зале: «Лопахин приехал! Ермолай Алексеич!»
Пищик. Видом видать, слыхом слыхать... (Целуется с Лопахиным.) Коньячком от тебя попахивает, милый мой, душа моя. А мы тут тоже веселимся.
Входит Любовь Андреевна.
Любовь Андреевна. Это вы, Ермолай Алексеич? Отчего так долго? Где Леонид?
Лопахин. Леонид Андреич со мной приехал, он идет...
Любовь Андреевна (волнуясь). Ну, что? Были торги? Говорите же!
Лопахин (сконфуженно, боясь обнаружить свою радость). Торги кончились к четырем часам... Мы к поезду опоздали, пришлось ждать до половины десятого. (Тяжело вздохнув.) Уф! У меня немножко голова кружится...
Входит Гаев; в правой руке у него покупки, левой он утирает слезы.
Любовь Андреевна. Леня, что? Леня, ну? (Нетерпеливо, со слезами.) Скорей же, бога ради...
Гаев (ничего ей не отвечает, только машет рукой; Фирсу, плача). Вот возьми... Тут анчоусы, керченские сельди... Я сегодня ничего не ел... Столько я выстрадал!
Дверь в биллиардную открыта; слышен стук шаров и голос Яши: «Семь и восемнадцать!» У Гаева меняется выражение, он уже не плачет.
Устал я ужасно. Дашь мне, Фирс, переодеться. (Уходит к себе через залу, за ним Фирс.)
Пищик. Что на торгах? Рассказывай же!
Любовь Андреевна. Продан вишневый сад?
Лопахин. Продан.
Любовь Андреевна. Кто купил?
Лопахин. Я купил.
Пауза.
Любовь Андреевна угнетена; она упала бы, если бы не стояла возле кресла и стола. Варя снимает с пояса ключи, бросает их на пол, посреди гостиной, и уходит.
Я купил! Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу... (Смеется.) Пришли мы на торги, там уже Дериганов. У Леонида Андреича было только пятнадцать тысяч, а Дериганов сверх долга сразу надавал тридцать. Вижу, дело такое, я схватился с ним, надавал сорок. Он сорок пять. Я пятьдесят пять. Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти... Ну, кончилось. Сверх долга я надавал девяносто, осталось за мной. Вишневый сад теперь мой! Мой! (Хохочет.) Боже мой, господи, вишневый сад мой! Скажите мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется... (Топочет ногами.)Не смейтесь надо мной! Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется... Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности... (Поднимает ключи, ласково улыбаясь.)Бросила ключи, хочет показать, что она уж не хозяйка здесь... (Звенит ключами.) Ну, да все равно.
Слышно, как настраивается оркестр.
Эй, музыканты, играйте, я желаю вас слушать! Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь... Музыка, играй!
Играет музыка, Любовь Андреевна опустилась на стул и горько плачет.
(С укором.) Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь. (Со слезами.) О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь.
Пищик (берет его под руку, вполголоса). Она плачет. Пойдем в залу, пусть она одна... Пойдем... (Берет его под руку и уводит в залу.)
Лопахин. Что ж такое? Музыка, играй отчетливо! Пускай всё, как я желаю! (С иронией.) Идет новый помещик, владелец вишневого сада! (Толкнул нечаянно столик, едва не опрокинул канделябры.) За все могу заплатить! (Уходит с Пищиком.)
В зале и гостиной нет никого, кроме Любови Андреевны, которая сидит, сжалась вся и горько плачет. Тихо играет музыка. Быстро входят Аня и Трофимов. Аня подходит к матери и становится перед ней на колени. Трофимов остается у входа в залу.
Аня. Мама!.. Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя. Вишневый сад продан, его уже нет, это правда, правда, но не плачь, мама, у тебя осталась жизнь впереди, осталась твоя хорошая, чистая душа... Пойдем со мной, пойдем, милая, отсюда, пойдем!.. Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама! Пойдем, милая! Пойдем!..
Занавес
Сноски
1 «Променад парами!»... «Большой круг, балансе!»... «Кавалеры, на колени и благодарите дам» (франц.).
2 Хороший человек, но плохой музыкант. (нем.)
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Декорация первого акта. Нет ни занавесей на окнах, ни картин, осталось немного мебели, которая сложена в один угол, точно для продажи. Чувствуется пустота. Около выходной двери и в глубине сцены сложены чемоданы, дорожные узлы и т. п. Налево дверь открыта, оттуда слышны голоса Вари и Ани. Лопахин стоит, ждет. Яша держит поднос со стаканчиками, налитыми шампанским. В передней Епиходов увязывает ящик. За сценой в глубине гул. Это пришли прощаться мужики. Голос Гаева: «Спасибо, братцы, спасибо вам».
Яша. Простой народ прощаться пришел. Я такого мнения, Ермолай Алексеич, народ добрый, но мало понимает.
Гул стихает. Входят через переднюю Любовь Андреевна и Гаев; она не плачет, но бледна, лицо ее дрожит, она не может говорить.
Гаев. Ты отдала им свой кошелек, Люба. Так нельзя! Так нельзя!
Любовь Андреевна. Я не смогла! Я не смогла!
Оба уходят.
Лопахин (в дверь, им вслед). Пожалуйте, покорнейше прошу! По стаканчику на прощанье. Из города не догадался привезть, а на станции нашел только одну бутылку. Пожалуйте!
Пауза.
Что ж, господа! Не желаете? (Отходит от двери.) Знал бы — не покупал. Ну, и я пить не стану.
Яша осторожно ставит поднос на стул.
Выпей, Яша, хоть ты.
Яша. С отъезжающими! Счастливо оставаться! (Пьет.) Это шампанское не настоящее, могу вас уверить.
Лопахин. Восемь рублей бутылка.
Пауза.
Холодно здесь чертовски.
Яша. Не топили сегодня, все равно уезжаем. (Смеется.)
Лопахин. Что ты?
Яша. От удовольствия.
Лопахин. На дворе октябрь, а солнечно и тихо, как летом. Строиться хорошо. (Поглядев на часы, в дверь.) Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего сорок шесть минут! Значит, через двадцать минут на станцию ехать. Поторапливайтесь.
Трофимов в пальто входит со двора.
Трофимов. Мне кажется, ехать уже пора. Лошади поданы. Черт его знает, где мои калоши. Пропали. (В дверь.) Аня, нет моих калош! Не нашел!
Лопахин. А мне в Харьков надо. Поеду с вами в одном поезде. В Харькове проживу всю зиму. Я все болтался с вами, замучился без дела. Не могу без работы, не знаю, что вот делать с руками; болтаются как-то странно, точно чужие.
Трофимов. Сейчас уедем, и вы опять приметесь за свой полезный труд.
Лопахин. Выпей-ка стаканчик.
Трофимов. Не стану.
Лопахин. Значит, в Москву теперь?
Трофимов. Да, провожу их в город, а завтра в Москву.
Лопахин. Да... Что ж, профессора не читают лекций, небось всё ждут, когда приедешь!
Трофимов. Не твое дело.
Лопахин. Сколько лет, как ты в университете учишься?
Трофимов. Придумай что-нибудь поновее. Это старо и плоско. (Ищет калоши.) Знаешь, мы, пожалуй, не увидимся больше, так вот позволь мне дать тебе на прощанье один совет: не размахивай руками! Отвыкни от этой привычки — размахивать. И тоже вот строить дачи, рассчитывать, что из дачников со временем выйдут отдельные хозяева, рассчитывать так — это тоже значит размахивать... Как-никак, все-таки я тебя люблю. У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа...
Лопахин (обнимает его). Прощай, голубчик. Спасибо за все. Ежели нужно, возьми у меня денег на дорогу.
Трофимов. Для чего мне? Не нужно.
Лопахин. Ведь у вас нет!
Трофимов. Есть. Благодарю вас. Я за перевод получил. Вот они тут, в кармане. (Тревожно.) А калош моих нет!
Варя (из другой комнаты). Возьмите вашу гадость! (Выбрасывает на сцену пару резиновых калош.)
Трофимов. Что же вы сердитесь, Варя? Гм... Да это не мои калоши!
Лопахин. Я весной посеял маку тысячу десятин и теперь заработал сорок тысяч чистого. А когда мой мак цвел, что это была за картина! Так вот я, говорю, заработал сорок тысяч и, значит, предлагаю тебе взаймы, потому что могу. Зачем же нос драть? Я мужик... попросту.
Трофимов. Твой отец был мужик, мой — аптекарь, и из этого не следует решительно ничего.
Лопахин вынимает бумажник.
Оставь, оставь... Дай мне хоть двести тысяч, не возьму. Я свободный человек. И всё, что так высоко и дорого цените вы все, богатые и нищие, не имеет надо мной ни малейшей власти, вот как пух, который носится по воздуху. Я могу обходиться без вас, я могу проходить мимо вас, я силен и горд. Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно на земле, и я в первых рядах!
Лопахин. Дойдешь?
Трофимов. Дойду.
Пауза.
Дойду, или укажу другим путь, как дойти.
Слышно, как вдали стучат топором по дереву.
Лопахин. Ну, прощай, голубчик. Пора ехать. Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь знай себе проходит. Когда я работаю подолгу, без устали, тогда мысли полегче, и кажется, будто мне тоже известно, для чего я существую. А сколько, брат, в России людей, которые существуют неизвестно для чего. Ну, все равно, циркуляция дела не в этом. Леонид Андреич, говорят, принял место, будет в банке, шесть тысяч в год... Только ведь не усидит, ленив очень...
Аня (в дверях). Мама вас просит: пока она не уехала, чтоб не рубили сада.
Трофимов. В самом деле, неужели не хватает такта... (Уходит через переднюю.)
Лопахин. Сейчас, сейчас... Экие, право. (Уходит за ним.)
Аня. Фирса отправили в больницу?
Яша. Я утром говорил. Отправили, надо думать.
Аня (Епиходову, который проходит через залу). Семен Пантелеич, справьтесь, пожалуйста, отвезли ли Фирса в больницу.
Яша (обиженно). Утром я говорил Егору. Что ж спрашивать по десяти раз!
Епиходов. Долголетний Фирс, по моему окончательному мнению, в починку не годится, ему надо к праотцам. А я могу ему только завидовать. (Положил чемодан на картонку со шляпой и раздавил.) Ну, вот, конечно. Так и знал. (Уходит.)
Яша (насмешливо). Двадцать два несчастья...
Варя (за дверью). Фирса отвезли в больницу?
Аня. Отвезли.
Варя. Отчего же письмо не взяли к доктору?
Аня. Так надо послать вдогонку... (Уходит.)
Варя (из соседней комнаты). Где Яша? Скажите, мать его пришла, хочет проститься с ним.
Яша (машет рукой). Выводят только из терпения.
Дуняша все время хлопочет около вещей; теперь, когда Яша остался один, она подошла к нему.
Дуняша. Хоть бы взглянули разочек, Яша. Вы уезжаете... меня покидаете... (Плачет и бросается ему на шею.)
Яша. Что ж плакать? (Пьет шампанское.) Через шесть дней я опять в Париже. Завтра сядем в курьерский поезд и закатим, только нас и видели. Даже как-то не верится. Вив ла Франс!..3 Здесь не по мне, не могу жить... ничего не поделаешь. Насмотрелся на невежество — будет с меня. (Пьет шампанское.) Что ж плакать? Ведите себя прилично, тогда не будете плакать.
Дуняша (пудрится, глядясь в зеркальце). Пришлите из Парижа письмо. Ведь я вас любила, Яша, так любила! Я нежное существо, Яша!
Яша. Идут сюда. (Хлопочет около чемоданов, тихо напевает.)
Входят Любовь Андреевна, Гаев, Аня и Шарлотта Ивановна.
Гаев. Ехать бы нам. Уже немного осталось. (Глядя на Яшу.) От кого это селедкой пахнет!
Любовь Андреевна. Минут через десять давайте уже в экипажи садиться... (Окидывает взглядом комнату.) Прощай, милый дом, старый дедушка. Пройдет зима, настанет весна, а там тебя уже не будет, тебя сломают. Сколько видели эти стены! (Целует горячо дочь.) Сокровище мое, ты сияешь, твои глазки играют, как два алмаза. Ты довольна? Очень?
Аня. Очень! Начинается новая жизнь, мама!
Гаев (весело). В самом деле, теперь все хорошо. До продажи вишневого сада мы все волновались, страдали, а потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже... Я банковский служака, теперь я финансист... желтого в середину, и ты, Люба, как-никак, выглядишь лучше, это несомненно.
Любовь Андреевна. Да. Нервы мои лучше, это правда.
Ей подают шляпу и пальто.
Я сплю хорошо. Выносите мои вещи, Яша. Пора. (Ане.) Девочка моя, скоро мы увидимся... Я уезжаю в Париж, буду жить там на те деньги, которые прислала твоя ярославская бабушка на покупку имения — да здравствует бабушка! — а денег этих хватит ненадолго.
Аня. Ты, мама, вернешься скоро, скоро... не правда ли? Я подготовлюсь, выдержу экзамен в гимназии и потом буду работать, тебе помогать. Мы, мама, будем вместе читать разные книги... Не правда ли? (Целует матери руки.) Мы будем читать в осенние вечера, прочтем много книг, и перед нами откроется новый, чудесный мир... (Мечтает.) Мама, приезжай...
Любовь Андреевна. Приеду, мое золото. (Обнимает дочь.)
Входит Лопахин. Шарлотта тихо напевает песенку.
Гаев. Счастливая Шарлотта: поет!
Шарлотта (берет узел, похожий на свернутого ребенка). Мой ребеночек, бай, бай...
Слышится плач ребенка: «Уа, уа!..»
Замолчи, мой хороший, мой милый мальчик.
«Уа!.. уа!..»
Мне тебя так жалко! (Бросает узел на место.) Так вы, пожалуйста, найдите мне место. Я не могу так.
Лопахин. Найдем, Шарлотта Ивановна, не беспокойтесь.
Гаев. Все нас бросают, Варя уходит... мы стали вдруг не нужны.
Шарлотта. В городе мне жить негде. Надо уходить... (Напевает.) Все равно...
Входит Пищик.
Лопахин. Чудо природы!..
Пищик (запыхавшись). Ой, дайте отдышаться... замучился... Мои почтеннейшие... Воды дайте...
Гаев. За деньгами небось? Слуга покорный, ухожу от греха... (Уходит.)
Пищик. Давненько не был у вас... прекраснейшая... (Лопахину.) Ты здесь... рад тебя видеть... громаднейшего ума человек... возьми... получи... (Подает Лопахину деньги.) Четыреста рублей... За мной остается восемьсот сорок...
Лопахин (в недоумении пожимает плечами). Точно во сне... Ты где же взял?
Пищик. Постой... Жарко... Событие необычайнейшее. Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то белую глину... (Любови Андреевне.) И вам четыреста... прекрасная... удивительная... (Подает деньги.) Остальные потом. (Пьет воду.) Сейчас один молодой человек рассказывал в вагоне, будто какой-то... великий философ советует прыгать с крыш... «Прыгай!», говорит, и в этом вся задача. (Удивленно.) Вы подумайте! Воды!..
Лопахин. Какие же это англичане?
Пищик. Сдал им участок с глиной на двадцать четыре года... А теперь, извините, некогда... надо скакать дальше... Поеду к Знойкову... к Кардамонову... Всем должен... (Пьет.) Желаю здравствовать... В четверг заеду...
Любовь Андреевна. Мы сейчас переезжаем в город, а завтра я за границу.
Пищик. Как? (Встревоженно.) Почему в город? То-то я гляжу на мебель... чемоданы... Ну, ничего... (Сквозь слезы.)Ничего... Величайшего ума люди... эти англичане... Ничего... Будьте счастливы... Бог поможет вам... Ничего... Всему на этом свете бывает конец... (Целует руку Любови Андреевне.) А дойдет до вас слух, что мне конец пришел, вспомните вот эту самую... лошадь и скажите: «Был на свете такой, сякой... Симеонов-Пищик... царство ему небесное»... Замечательнейшая погода... Да... (Уходит в сильном смущении, но тотчас же возвращается и говорит в дверях.) Кланялась вам Дашенька! (Уходит.)
Любовь Андреевна. Теперь можно и ехать. Уезжаю я с двумя заботами. Первая — это больной Фирс. (Взглянув на часы.)Еще минут пять можно...
Аня. Мама, Фирса уже отправили в больницу. Яша отправил утром.
Любовь Андреевна. Вторая моя печаль — Варя. Она привыкла рано вставать и работать, и теперь без труда она как рыба без воды. Похудела, побледнела и плачет, бедняжка...
Пауза.
Вы это очень хорошо знаете, Ермолай Алексеич; я мечтала... выдать ее за вас, да и по всему видно было, что вы женитесь. (Шепчет Ане, та кивает Шарлотте, и обе уходят.) Она вас любит, вам она по душе, и не знаю, не знаю, почему это вы точно сторонитесь друг друга. Не понимаю!
Лопахин. Я сам тоже не понимаю, признаться. Как-то странно все... Если есть еще время, то я хоть сейчас готов... Покончим сразу — и баста, а без вас я, чувствую, не сделаю предложения.
Любовь Андреевна. И превосходно. Ведь одна минута нужна, только. Я ее сейчас позову...
Лопахин. Кстати и шампанское есть. (Поглядев на стаканчики.) Пустые, кто-то уже выпил.
Яша кашляет.
Это называется вылакать...
Любовь Андреевна (оживленно). Прекрасно. Мы выйдем... Яша, allez!4 Я ее позову... (В дверь.) Варя, оставь все, поди сюда. Иди! (Уходит с Яшей.)
Лопахин (поглядев на часы). Да...
Пауза.
За дверью сдержанный смех, шепот, наконец входит Варя.
Варя (долго осматривает вещи). Странно, никак не найду...
Лопахин. Что вы ищете?
Варя. Сама уложила и не помню.
Пауза.
Лопахин. Вы куда же теперь, Варвара Михайловна?
Варя. Я? К Рагулиным... Договорилась к ним смотреть за хозяйством... в экономки, что ли.
Лопахин. Это в Яшнево? Верст семьдесят будет.
Пауза.
Вот и кончилась жизнь в этом доме...
Варя (оглядывая вещи). Где же это... Или, может, я в сундук уложила... Да, жизнь в этом доме кончилась... больше уже не будет...
Лопахин. А я в Харьков уезжаю сейчас... вот с этим поездом. Дела много. А тут во дворе оставляю Епиходова... Я его нанял.
Варя. Что ж!
Лопахин. В прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомните, а теперь тихо, солнечно. Только что вот холодно... Градуса три мороза.
Варя. Я не поглядела.
Пауза.
Да и разбит у нас градусник...
Пауза.
Голос в дверь со двора: «Ермолай Алексеич!..»
Лопахин (точно давно ждал этого зова). Сию минуту! (Быстро уходит.)
Варя, сидя на полу, положив голову на узел с платьем, тихо рыдает. Отворяется дверь, осторожно входит Любовь Андреевна.
Любовь Андреевна. Что?
Пауза.
Надо ехать.
Варя (уже не плачет, вытерла глаза). Да, пора, мамочка. Я к Рагулиным поспею сегодня, не опоздать бы только к поезду...
Любовь Андреевна (в дверь). Аня, одевайся!
Входят Аня, потом Гаев, Шарлотта Ивановна. На Гаеве теплое пальто с башлыком. Сходится прислуга, извозчики. Около вещей хлопочет Епиходов.
Теперь можно и в дорогу.
Аня (радостно). В дорогу!
Гаев. Друзья мои, милые, дорогие друзья мои! Покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы не высказать на прощанье те чувства, которые наполняют теперь все мое существо...
Аня (умоляюще). Дядя!
Варя. Дядечка, не нужно!
Гаев (уныло). Дуплетом желтого в середину... Молчу...
Входит Трофимов, потом Лопахин.
Трофимов. Что же, господа, пора ехать!
Лопахин. Епиходов, мое пальто!
Любовь Андреевна. Я посижу еще одну минутку. Точно раньше я никогда не видела, какие в этом доме стены, какие потолки, и теперь я гляжу на них с жадностью, с такой нежной любовью...
Гаев. Помню, когда мне было шесть лет, в Троицын день я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь...
Любовь Андреевна. Все вещи забрали?
Лопахин. Кажется, все. (Епиходову, надевая пальто.) Ты же, Епиходов, смотри, чтобы все было в порядке.
Епиходов (говорит сиплым голосом). Будьте покойны, Ермолай Алексеич!
Лопахин. Что это у тебя голос такой?
Епиходов. Сейчас воду пил, что-то проглотил.
Яша (с презрением). Невежество...
Любовь Андреевна. Уедем — и здесь не останется ни души...
Лопахин. До самой весны.
Варя (выдергивает из узла зонтик, похоже, как будто она замахнулась).
Лопахин делает вид, что испугался.
Что вы, что вы... Я и не думала.
Трофимов. Господа, идемте садиться в экипажи... Уже пора! Сейчас поезд придет!
Варя. Петя, вот они, ваши калоши, возле чемодана. (Со слезами.) И какие они у вас грязные, старые...
Трофимов (надевая калоши). Идем, господа!..
Гаев (сильно смущен, боится заплакать). Поезд... станция... Круазе в середину, белого дуплетом в угол...
Любовь Андреевна. Идем!
Лопахин. Все здесь? Никого там нет? (Запирает боковую дверь налево.) Здесь вещи сложены, надо запереть. Идем!..
Аня. Прощай, дом! Прощай, старая жизнь!
Трофимов. Здравствуй, новая жизнь!.. (Уходит с Аней.)
Варя окидывает взглядом комнату и не спеша уходит. Уходят Яша и Шарлотта с собачкой.
Лопахин. Значит, до весны. Выходите, господа... До свиданция!.. (Уходит.)
Любовь Андреевна и Гаев остались вдвоем. Они точно ждали этого, бросаются на шею друг другу и рыдают сдержанно, тихо, боясь, чтобы их не услышали.
Гаев (в отчаянии). Сестра моя, сестра моя...
Любовь Андреевна. О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..
Голос Ани (весело, призывающе): «Мама!..»
Голос Трофимова (весело, возбужденно): «Ау!..»
В последний раз взглянуть на стены, на окна... По этой комнате любила ходить покойная мать...
Гаев. Сестра моя, сестра моя!..
Голос Ани: «Мама!..»
Голос Трофимова: «Ау!..»
Любовь Андреевна. Мы идем!..
Уходят.
Сцена пуста. Слышно, как на ключ запирают все двери, как потом отъезжают экипажи. Становится тихо. Среди тишины раздается глухой стук топора по дереву, звучащий одиноко и грустно.
Слышатся шаги. Из двери, что направо, показывается Фирс. Он одет, как всегда, в пиджаке и белой жилетке, на ногах туфли. Он болен.
Фирс (подходит к двери, трогает за ручку). Заперто. Уехали... (Садится на диван.) Про меня забыли... Ничего... я тут посижу... А Леонид Андреич, небось, шубы не надел, в пальто поехал... (Озабоченно вздыхает.) Я-то не поглядел... Молодо-зелено! (Бормочет что-то, чего понять нельзя.) Жизнь-то прошла, словно и не жил... (Ложится.) Я полежу... Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего... Эх ты... недотёпа!.. (Лежит неподвижно.)
Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву.
Занавес
Сноски
3 Да здравствует Франция! (франц. Vive la France!)
4 идите! (франц.).
Примечания
- Стр. 203. ...пачулями пахнет. — Пачули — род сильно пахнущих цветочных духов, изготовленных из тропического растения того же названия.
- Стр. 215—216. «Что мне до шумного света ~ жаром взаимной любви...» — Начало популярного «жестокого» романса.
- Стр. 222—223. В гордом человеке... — В словах Трофимова о гордом человеке — полемический отклик на монолог Сатина в пьесе А. М. Горького «На дне» (1902), где были слова: «Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо!» (см.: Б. А. Бялик. М. Горький-драматург. М., 1977, стр. 40—41).
- Стр. 226. Брат мой, страдающий брат... — Неточное начало стихотворения С. Я. Надсона «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...» (1881).
- ...выдь на Волгу, чей стон... — Из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858).
- Стр. 231. Guter Mensch, aber schlechter Musikant (Хороший человек, но плохой музыкант — нем.) — Крылатое выражение, восходит к комедии Клеменса Брентано «Понс де Леон» (1804). См. G. Büchmann. Geflügelte Worte. 1959, S. 100.
- Стр. 235. ...читает «Грешницу» А. Толстого ~ несколько строк... — Поэма А. К. Толстого «Грешница»(1858) — о блуднице, прощенной Христом, — была в репертуаре литературных вечеров и пользовалась большой популярностью (как и картина Г. И. Семирадского «Христос и грешница», написанная в 1873 г. на ее сюжет). Ср. иронические упоминания поэмы в рассказах «Либеральный душка», «Учитель словесности».
- Стр. 237. «Поймешь ли ты души моей волненье...» — Начало романса Н. С. Ржевской (1869).
ВИШНЕВЫЙ САД
Впервые — Сборник товарищества «Знание» за 1903 год. Книга вторая. СПб., 1904, стр. 29—105. Подпись: А. Чехов.
С единичными изменениями — в отдельном издании: Антон Чехов. Вишневый сад. Комедия в четырех действиях. С.-Петербург. Издание А. Ф. Маркса (ценз. разр. 1 июня 1904 г.).
Сохранился беловой автограф (ГБЛ) с текстом первоначальной редакции пьесы, относящийся к октябрю 1903 г. (А1), в котором последующий слой авторской правки (внесенные в текст рукой Чехова исправления были отмечены им в рукописи зеленым карандашом, а также вклеены на отдельных листках) отражает изменения, произведенные в декабре 1903 г. (А2); затем — беловой автограф добавлений ко II акту, посланных в цензуру в начале января и утвержденных 15 января 1904 г. (АД — Музей МХТ); наконец — цензурные экземпляры пьесы (машинописные оттиски с невыправленным текстом), скопированные с беловой рукописи А1. На обложке — штемпель с датой представления в цензуру: «12 ноя<бря> 1903» и резолюция: «К представлению дозволено. С.-Петербург, 25 ноября 1903 г. Цензор драматических сочинений Верещагин». В тексте в двух местах — вычерки цензора (экз. Музея МХТ и ЛГТБ). В ЛГТБ хранится еще один цензурный экземпляр, поступивший 17 марта 1904 г. в драматическую цензуру и разрешенный тем же цензором 18 марта 1904 г.; он изготовлен, видимо, по тексту одной из театральных копий. В нем учтены добавления, сделанные в А2 и АД, однако, он содержит множество отклонений от авторского текста и прямых искажений (вместо: «удивительные, трогательные глаза» — «выразительные, удивительные глаза» и т. д.).
Печатается по тексту отдельного издания А. Ф. Маркса (1904 г.) с восстановлением мест, измененных по требованию цензора:
Стр. 223, строки 29—31: у всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушек, по тридцати, по сорока в одной комнате — вместо: громадное большинство из нас, девяносто девять из ста, живут как дикари, чуть что — сейчас зуботычина, брань, едят отвратительно, спят в грязи, в духоте.
Стр. 227, строки 33—37: Владеть живыми душами — ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих, так что ваша мать, вы, дядя уже не замечаете, что вы живете в долг, на чужой счет, на счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней... — вместо: О, это ужасно, сад ваш страшен, и когда вечером или ночью проходишь по саду, то старая кора на деревьях отсвечивает тускло и, кажется, вишневые деревья видят во сне то, что было сто, двести лет назад, и тяжелые сны томят их.1 Что говорить!
1
А1 — первоначальный текст белового автографа (ГБЛ), посланного Чеховым из Ялты для Художественного театра и полученного в Москве 18 октября 1903 г. С этой рукописи в театре были изготовлены две машинописные копии, представленные затем в драматическую цензуру в Петербурге (получение зарегистрировано 12 ноября 1903 г.).
Текст цензурных экземпляров не выверен, содержит много пропусков и искажений (вместо: «благолепие» — «благовение», вместо: «смягчилась» — «смеялась» и т. п.), поэтому разночтения по ним в вариантах не приводятся.
А2 — исправленный текст белового автографа, доработанный Чеховым после приезда в Москву в начале декабря 1903 г.
Исключенные цензором фразы в монологах Трофимова из II акта были заменены другими (см. выше), при этом первоначальный текст Чехов в рукописи не вычеркнул, а лишь заключил в скобки. С указанными заменами текст II акта печатался во всех изданиях «Вишневого сада» вплоть до 1932 г.
Тогда же в рукописи были сделаны и другие исправления. Ряд изменений касался характеристики Лопахина. Опасаясь, как бы в театре из Лопахина не сделали «кулачка», и указывая, что это «не купец в пошлом смысле этого слова», а «порядочный человек», «художественный Лопахин», Чехов в доработанной редакции подчеркнул честность намерений, искренность его желания предотвратить продажу имения с аукциона и оказать услуги Любови Андреевне. Дополнительно введены в текст его настоятельные напоминания и предупреждения: «Вам уже известно, вишневый сад ваш продается за долги, на 22 августа назначены торги», «Другого выхода нет, клянусь вам», «Серьезно подумайте», «Ответьте одно слово: да или нет? Только одно слово!», «вы точно не понимаете», «вы тогда спасены» и т. д. Исключено упоминание о крупном долге Любови Андреевны («около 40 тысяч») Лопахину. В его речи добавлены слова, показывающие восхищение Любовью Андреевной и развитое в нем чувство изящного: «Вы все такая же великолепная», «ваши удивительные, трогательные глаза», «люблю вас, как родную... больше, чем родную».
В роли Гаева акцентировано его нежелание прислушиваться к напоминаниям Лопахина: введена ремарка, поясняющая, что он слушает его практические советы «зевая». А в разговоре с Аней в конце I акта добавлены высокопарные и не имеющие никакого практического смысла клятвенные заверения: «Честью моей, чем хочешь, клянусь, имение не будет продано! (Возбужденно.) Счастьем моим клянусь!» и т. д.
В сцене с Епиходовым в начале II акта подчеркнуто его настойчивое стремление казаться «ужасно» образованным: «Я развитой человек, читаю разные ученые книги», «Вы читали Бокля?»; здесь же добавлены фразы, намекающие на роковые обстоятельства в его судьбе и даже угрозу самоубийства: «жить мне или застрелиться», «Теперь я знаю, что мне делать с моим револьвером», «Не дай бог застрелится».
В сцене, где Яша остается наедине с Дуняшей, более четко выявлен цинизм и бесстыдство его поведения: добавлены его пошлые рассуждения о «нравственности» («я больше всего не люблю, ежели девушка дурного поведения», «ежели девушка кого любит, то она, значит, безнравственная»), слова, указывающие на его лакейскую боязнь обнаружить перед «господами» свою близость с горничной («а то встретятся и подумают про меня, будто я с вами на свидании. Терпеть этого не могу»).
В сцене с Симеоновым-Пищиком из I акта введены его реплики с расспросами о парижской жизни Любови Андреевны и эпизод с ее пилюлями, которые он выпивает все разом. В речи Фирса добавлены слова, оттеняющие его безграничную преданность господам и радость в связи с приездом хозяйки: «Барыня моя приехала! Дождался! Теперь хоть и помереть», введены ремарки: «радостно», «зарыдав от радости». Здесь же прибавлена фраза Любови Андреевны, подчеркивающая ласковое обращение с верным Фирсом: «Спасибо, мой старичок. (Целует Фирса.)» Сцена II акта после монолога Трофимова дополнена эпизодом, в котором появляется Епиходов — «в глубине сцены».
АД — текст автографа с дополнениями ко II акту, написанный в конце декабря 1903 г. или в начале 1904 г.
В период репетиций в декабре 1903 г. Станиславский обратился к Чехову с просьбой сократить II акт и выкинуть финальную сцену — своеобразный лирический дуэт Шарлотты и Фирса, их задушевный разговор (см. варианты). Станиславский позднее вспоминал об этой сцене и называл ее «прекрасной»: «Так встречаются два одиноких человека. Им не о чем говорить, но так хочется поговорить, ведь каждый человек должен с кем-нибудь отвести душу...» (Станиславский, т. 1, стр. 473). Однако тогда II акт театру не давался и казался растянутым, а финальная сцена — лишней, однотонной, ослабляющей напряжение действия: «После оживленной сцены молодежи столь лирический конец снижал настроение действия, и мы уже не могли его поднять. Очевидно, мы сами были в этом виноваты, и за наше неумение поплатился автор» (там же). О реакции Чехова на предложение театра Станиславский тоже рассказал в своих мемуарах: «...когда мы дерзнули предложить Антону Павловичу выкинуть целую сцену — в конце второго акта „Вишневого сада“, — он сделался очень грустным, побледнел от боли, которую мы ему причинили тогда, но, подумав и оправившись, ответил: „Сократите!“ И никогда больше не высказал нам по этому поводу ни одного упрека» (там же, стр. 270).
Чехов вычеркнул из II акта заключительную сцену Шарлотты с Фирсом, а ее рассказ о детских годах («У меня нет настоящего паспорта...» и т. д.) перенес в самое начало акта, где первоначально Шарлотта вообще не появлялась. В новой редакции II акт кончался, как этого хотел Станиславский, «шумной сценой молодежи с Варей», то есть призывными речами Трофимова и восторженными репликами вторящей ему Ани.
Рукопись с этими изменениями и добавлениями (АД) Чехов передал Немировичу-Данченко, который переслал ее в драматическую цензуру на утверждение. 15 января 1904 г. просмотренный цензурой текст был возвращен театру с сопроводительной бумагой канцелярии Главного управления по делам печати (см. ЛН, т. 68, стр. 141).
Еще осенью 1903 г., заканчивая работу над «Вишневым садом», Чехов получил от редакции товарищества «Знание» телеграмму с убедительной просьбой дать пьесу для публикации в очередном сборнике (ГБЛ; телеграмма подписана К. П. Пятницким и А. М. Пешковым; см. также письма Чехова к Горькому 6 и 17 октября 1903 г.). Дав согласие печатать пьесу в сборнике «Знание» (с благотворительной целью), Чехов на предложение А. Ф. Маркса передать пьесу ему для напечатания в «Ниве» ответил, что «пьеса уже отдана» (письмо Маркса 24 октября и ответ Чехова 25 октября 1903 г.).
18 ноября 1903 г. Книппер сообщила Чехову, что в Художественный театр заезжал Горький и получил от Немировича-Данченко экземпляр пьесы для издательства «Знание». 22 января 1904 г. Пятницкий известил Чехова: «Набор „Вишневого сада“ кончен. Отправляю Вам корректуры заказной бандеролью» (ГБЛ). 27 января Чехов ответил, что «немного задержал корректуру <...> оттого, что уж очень много мелких ошибок, которые пришлось исправлять», и просил выслать повторную корректуру (она была послана ему Пятницким 9 февраля). Последнюю корректуру, в которой Чехов обнаружил «неприятную опечатку», Чехов получил в Ялте около 27 апреля (см. письмо Пятницкому от 27 апреля). Однако выход сборника по цензурным причинам задержался, и только в последних числах мая он поступил в продажу (письмо Пятницкого Чехову 29 мая 1904 г. — ГБЛ).
При подготовке пьесы к публикации в сборнике «Знание» Чехов опять подверг ее значительной доработке. В роль Лопахина снова были внесены поправки, имевшие целью придать ему черты «интеллигентности» и «благопристойности». Добавлена фраза Трофимова: «У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа». В другой сцене, где Лопахин после торгов похваляется покупкой вишневого сада, к его словам «Идет новый помещик, владелец вишневого сада!» добавлена ремарка, указывавшая, что он произносит их «с иронией». Там же исключено упоминание Лопахина, что у него голова кружится оттого, что после торгов «коньяк пили». Добавлены фразы, свидетельствующие о его участливом отношении к Варе. Он отзывается о ней с теплотой: «Она хорошая девушка», а когда она демонстративно швыряет на пол ключи от дома, он поднимает их «ласково улыбаясь». Добавлено также его чутко-ласковое обращение к Любови Андреевне: «моя дорогая».
Речь Дуняши дополнена рядом фраз и ремарок, характеризующих ее смешные претензии на «чувствительность», манерное жеманничанье: «Он меня любит безумно», «Я сейчас упаду... Ах, упаду!», «Я такая деликатная девушка», «Я нежное существо», «Оставьте меня в покое. Теперь я мечтаю. (Играет веером.)», «Глядится в зеркальце и пудрится».
При появлении на сцене Яши в его первой фразе («Тут можно пройти?») подчеркнута показная манера выражаться «деликатно», добавляя частицу «с»: «Тут можно пройти-с?», а также добавлена ремарка «деликатно». Исключено из текста многократно повторенное в пьесе указание в ремарках на глуповато-простодушную привычку Яши: «смеется в кулак», которая не очень вязалась со свойственными его характеру самодовольством и наглостью; эта ремарка всюду заменена другими: «с усмешкой», «с презрением» или просто: «смеется». Слова «жестокого» романса, исполняемого Епиходовым в присутствии соперника и не отвечающей ему взаимностью избранницы («Сколько счастья, сколько муки...»), заменены другими: «Что мне до шумного света...»
В тексте одновременно произведен ряд сокращений. В середине II акта исключена небольшая сценка Вари и Шарлотты, рисующая повседневные заботы Вари: ее беспокойство об Ане, которую «не следует оставлять одну» с Трофимовым, наставления по поводу ужина и «порядка» в доме. В следующей сцене с Варей также был сделан вычерк: сняты ее жалобы на Епиходова («Только походя ест и чай пьет целый день») и требование непременно уволить «негодяя». В I акте вычеркнут эпизод с фокусом Шарлотты («Стук в дверь с той стороны»).
Сокращена прощальная речь Гаева в IV акте, из которой исключена фраза: «Друзья мои, вы, которые прочувствовали так же, как я, которые знают...»
Отдельные коррективы внесены в роль Трофимова. После упрека, брошенного ему Любовью Андреевной в сцене на балу из III акта, сделано добавление, содержащее многозначительный намек на принудительный характер его «безделья»: «только судьба бросает вас с места на место». В самом финале пьесы, где реплики Ани и Трофимова звучат уже за сценой, в ремарках добавлены указания на то, что призывные голоса молодых людей звучат бодро и победно: «весело, призывающе», «весело, возбужденно».
Кроме того, в печатном тексте пьесы впервые появилось много новых ремарок, уточняющих сценическое поведение персонажей («в глубоком раздумье», «возбужденно», «взволнованно», «весело», «уныло», «тяжело дышит» и т. п.) — вероятно, следствие знакомства Чехова с постановкой его пьесы на сцене Художественного театра.
Исправив пьесу для сборника «Знание», Чехов передал А. Ф. Марксу (через Немировича-Данченко) корректурный оттиск для ознакомления с пьесой предполагаемого составителя текста под фотоснимками постановки «Вишневого сада» на сцене Художественного театра, которые Маркс намеревался поместить в «Ниве». Получив оттиск, Маркс без ведома Чехова распорядился о наборе пьесы для своего издания и 12 марта 1904 г. выслал ему корректуру пьесы на просмотр. Сообщая об этом Чехову, Маркс в том же письме прибавлял: «Само собою разумеется, что мое издание будет выпущено только после того, как пьеса будет Вами обнародована в повременном издании или, как Вы предполагали на этот раз, в сборнике с благотворительною целью» (ГБЛ). Корректура марксовского издания лежала у Чехова до получения последних гранок сборника «Знание», по которым он исправил корректуру марксовского издания и 27 апреля отослал ее. Присланные через месяц чистые листы были подписаны к печати и возвращены Марксу 31 мая. В начале июня 1904 г. отдельное издание пьесы вышло в свет.
В тексте отдельного издания пьесы были сделаны лишь единичные изменения. Внесены уточнения и замены в выдвинутом Лопахиным (I акт) проекте продажи вишневого сада под дачи. Вместо прежних слов: «дачник лет через двадцать размножится и начнет работать вовсю» — в окончательном тексте читается: «дачник лет через двадцать размножится до необычайности»; окончание фразы «тогда ваш вишневый сад стал бы счастливым, богатым, и вы бы не узнали его» было заменено другим: «тогда ваш вишневый сад станет счастливым, богатым, роскошным». Уточнена также реплика Шарлотты в I акте: вместо «Я спать хочу» — стало: «Я спать желаю». Во II акте в ремарках об игре Епиходова на гитаре в двух местах снято указание: играет «что-то грустное», «тихо, грустно играет». В IV акте к высказыванию Гаева о продаже вишневого сада добавлена ремарка, уточняющая, что он произносит свои слова «весело». Сделано добавление также в одной из фраз Дуняши.
В нескольких местах в речи персонажей Чехов заменил полную и более литературную форму отчества на кратко-разговорную (вместо «Ермолай Алексеевич» — «Ермолай Алексеич», вместо «Леонид Андреевич» — «Леонид Андреич»), вернувшись таким образом к прежней форме и исправив ошибки первопечатного текста пьесы. Сделанные в тексте отдельного издания замены разговорных форм произношения («калашный», «колодезь») на более новые и литературные («калачный», «колодец»), по всей вероятности, явились следствием корректорской правки в издательстве Маркса.
В текст отдельного издания не вошли добавления, предложенные к роли Епиходова И. М. Москвиным, на включение которых в текст Чехов дал свое согласие. 16 марта 1904 г. Книппер сообщила Чехову о просьбе Москвина: «Когда он давит картонку, Яша говорит: „Двадцать два несчастия“, и Москвину очень хочется сказать: „Что же, это со всяким может случиться“. Он ее как-то случайно сказал, и публика приняла. Разрешишь?» (Книппер-Чехова, т. 1, стр. 355). 20 марта Чехов ответил ей: «Скажи Москвину, что новые слова он может вставить, и я их сам вставлю, когда буду читать корректуру. Даю ему полнейшую carte blanche». Не вошедшие в печатную публикацию пьесы предложенные Москвиным слова были, однако, включены в текст сценической редакции Художественного театра2.
2
Замысел «Вишневого сада» обыкновенно относят к весне 1901 года, когда «Три сестры» шли с успехом в Художественном театре и в других театрах России. Делясь с О. Л. Книппер отзывами о постановках «Трех сестер», полученными от разных лиц, и размышляя о будущем репертуаре театра, Чехов писал ей из Ялты: «Следующая пьеса, какую я напишу, будет непременно смешная, очень смешная, по крайней мере по замыслу» (7 марта 1901 г.); «Минутами на меня находит сильнейшее желание написать для Худож. театра 4-актный водевиль или комедию. И я напишу, если ничто не помешает, только отдам в театр не раньше конца 1903 года» (22 апреля 1901 г.).
Осенью 1901 г. Чехов был в Москве на возобновившихся в Художественном театре репетициях «Трех сестер» и «Дикой утки» Ибсена, премьера которой состоялась 19 сентября. Как вспоминает К. С. Станиславский, Чехов в дни репетиций рассказывал актерам о своем новом замысле. В этом замысле были детали:
1) Лакей, удивший рыбу (в рассказах Чехова он затем превратился в управляющего). Роль эта предназначалась для А. Р. Артема, который играл старика Экдала в «Дикой утке».
2) Рядом с лакеем (или управляющим) купался и при этом громко разговаривал другой герой, ярый любитель бильярда, безрукий, веселый человек, «всегда громко кричащий». Роль эту Чехов хотел писать для А. Л. Вишневского, также участвовавшего в «Дикой утке».
3) Ветка цветущих вишен, влезавшая из сада прямо в комнату через раскрытое окно.
4) Хозяин имения (или хозяйка), постоянно обращавшийся за деньгами к лакею (или управляющему), который накопил большую сумму (альманах «Шиповник», кн. 23, СПб., 1914; Станиславский, т. 5, стр. 352—353).
Названные детали (особенно сцена: один ловит рыбу, а другой тут же громко разговаривает), как и признание Чехова в письме к О. Л. Книппер от 7 марта 1901 года, свидетельствуют о том, что он с самого начала хотел писать «Вишневый сад» как комедию (иронический смысл имела и ситуация: лакей или управляющий снабжает хозяина деньгами, заработанными у него же).
Из замысла, каким он сложился по рассказам Чехова 1901 г., в пьесу вошли: поэтический образ цветущей вишни; «ярый любитель бильярда» (Гаев); хозяйка, постоянно обращающаяся за деньгами к «управляющему», который накопил средства (последняя деталь существенно изменена: Лопахин — не «управляющий» Раневской, и источник его накоплений до III действия не связан с судьбой ее имения). Возможно также, что беспомощность Гаева, опекаемого Фирсом как нянькой, восходит к физической беспомощности безрукого помещика, который не мог обойтись без услуг лакея (см. Станиславский, т. 1, стр. 266).
В записной книжке Чехова, однако, есть следы и более ранних раздумий над этим первоначальным замыслом. В то время, когда Чехов работал над произведениями, опубликованными в 1896—1897 гг. («Моя жизнь», «Печенег» и др.), он сделал запись: «Действующее лицо: помещик, которому молотилкой оторвало руку» (Зап. кн. I, стр. 66). Неиспользованную эту запись Чехов перенес в IV Записную книжку — для будущих замыслов.
Приблизительно тогда же, когда возникло это неосуществленное «действующее лицо» будущей пьесы, в записной книжке появились фразы, которые Чехов впоследствии отнес к Симеонову-Пищику (III действие), — о Калигуле, посадившем в сенате лошадь (там же, стр. 67), и о голодной собаке, которая верует только в мясо (стр. 71), а также пословица: «Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй» (стр. 72). Фразы эти не отмечены как реплики для пьесы, и из них нельзя делать вывода о том, что в это время уже был задуман образ Симеонова-Пищика.
Безотносительно к замыслу «Вишневого сада» в конце 1890-х гг. Чеховым был сделан ряд записей, в которых упоминаются, помещичьи имения, большей частью заложенные, продающиеся, разоряющиеся и т. д. (см.: Зап. кн. I, стр. 94, 111, 113, 114, 123, 125, 126, 129, 136, 138; Зап. кн. III, стр. 74. См.: З. С. Паперный. Записные книжки Чехова. М., 1976, стр. 316).
Среди названных записей одна косвенно имеет отношение к «Вишневому саду»: «Господин владеет виллой, близ Ментоны, которую он купил на деньги, вырученные им от продажи имения в Тульской губ. Я видел, как он в Харькове, куда приехал по делу, проиграл в карты эту виллу, потом служил на железной дороге, потом умер» (Зап. кн. III, стр. 74 — датируется 1901 годом; перенесена в Зап. кн. I, стр. 114 и в IV, стр. 18). В пьесе Раневская рассказывает во II действии о том, что она купила для любовника дачу в Ментоне, потом эту дачу продали за долги и он «обобрал» ее; психологически этот внесценический персонаж сродни «господину», проигравшему виллу близ Ментоны (однако ему чужд мотив «службы», отнесенный в пьесе к Гаеву).
Некоторые записи, сделанные специально для драматургического произведения, отражены непосредственно в пьесе, большей частью в измененном виде. Самой ранней является запись, к которой восходят реплики Гаева, обращенные к Лопахину и Яше: «Все действующие лица спрашивают про N.: что это от него псиной пахнет?» (Зап. кн. I, стр. 109). В пьесе — не псиной, а пачулями, курицей — I действие, селедкой — IV действие. Ср. Зап. кн. III, стр. 73; перенесено в I, стр. 114: «от действ. лица пахнет рыбой, все говорят ему об этом» — датируется 1901 годом.
К центральному образу пьесы относится запись: «Для пьесы: либеральная старуха, одевается, как молодая, курит, не может без общества, симпатична» (Зап. кн. I, стр. 110). Этот предварительный эскиз образа Раневской (измененный в пьесе: о либеральности Раневской нет речи, она не курит, зато много пьет кофе и не столь уж стара, ее дочери Ане 17 лет) — единственная характеристика персонажа будущей пьесы в записной книжке. Все остальные записи посвящены отдельным мотивам пьесы, чаще других — мотиву безденежья: «В первом акте X., порядочный человек, берет у N. сто рублей взаймы и не отдает в течение всех четырех актов» (Зап. кн. I, стр. 112; в пьесе Симеонов-Пищик в I действии берет 240 рублей у Раневской, чтобы заплатить проценты по закладной, в IV действии возвращает долги ей и частично Лопахину, которому был должен давно). «У русского единств. надежда — это выиграть 200 тыс.» (Зап. кн. III, стр. 79 — перенесено в I, стр. 123) — в пьесе Симеонов-Пищик мечтает, что его дочь выиграет именно эту сумму — двести тысяч (I д.). «Денежному» мотиву, очевидно, обязана своим появлением запись: «тетушка из Новозыбкова» (Зап. кн. III, стр. 76 — перенесено в I, стр. 120; в пьесе ярославская тетка Раневской присылает 15 тысяч рублей для покупки имения).
Из записной книжки в пьесу перешли также мысли о смерти («умирает в человеке лишь то, что поддается нашим пяти чувствам...» и т. д. — I, стр. 121, отнесены к Трофимову) и «идея» отпраздновать юбилей книжного шкафа (I, стр. 131, отнесено к Гаеву).
В пьесе использованы характерные имена, слова, выражения, которые Чехов по своему обыкновению вносил в записную книжку: «Варвара Недотепина» (I, стр. 119 — в пьесе разделено: Варя и «недотепа»); Guter Mensch, aber schlechter Musikant (I, стр. 120 — в пьесе Шарлотта обращается с этими словами к Симеонову-Пищику); «Недотепа <...> на кресте кто-то написал: „Здесь лежит недотепа“» (I, стр. 130; в пьесе — только слово «недотепа»). Из подобных фамилий использованы: Епиходов (III, стр. 81), Гаев (III, стр. 82). Сюда же относятся слова парадоксальной реплики Фирса, записанной специально для «Вишневого сада»: «Фирс: перед несчастьем так гудело... Перед каким несчастьем? — Перед волей» (III, стр. 82 — ср. II действие).
Несколько характерных штрихов, припасенных для пьесы, Чехов не использовал. К Лопахину относились детали: «купил себе именьишко, хотел устроить покрасивее и ничего не придумал, кроме дощечки: вход посторонним строжайше запрещается» (III, стр. 83) и слова, обращенные к Ришу (будущему Трофимову): «в арестантские бы тебя роты» (III, стр. 83). В пьесе Лопахину не свойственны агрессивные нотки, которыми отмечены обе эти детали. Облик купца с нежной, артистической душой (характеристика, данная в пьесе ему Трофимовым же!) сложился не сразу, о чем свидетельствуют эти отброшенные в ходе работы над пьесой записи. Осталась в стороне и реплика Лопахина — ответ на слова, очевидно, Фирса, также не вошедшие в пьесу: «Мужики стали пить шибко... Л<опахин>. Это верно» (III, стр. 82).
К замыслу «Вишневого сада» безусловно относятся и некоторые записи, до сих пор не связывавшиеся с этой пьесой:
1) «II: мать: где это играет музыка? — не слышу» (III, стр. 83).
В пьесе, во II действии — слова Раневской: «Словно где-то музыка. (Прислушивается.)» Первоначальное «не слышу» было более естественно в устах предполагаемой «старухи».
2) «Он мечтал о том, чтобы выиграть 200 тысяч 2 раза подряд, так как 200 тысяч для него было бы мало» (I, стр. 138 — ср. с приведенной выше записью о финансовых «мечтах» Симеонова-Пищика).
3) «— говори умные слова, вот и все... философия... экватор... (для пьесы)» (I, стр. 134; ср. с репликой Симеонова-Пищика о совете великого философа — прыгать с крыши: «„Прыгай!“ — говорит, и в этом вся задача» (IV д.).
4) «в усадьбе везде надписи: „посторонним вход воспрещается“, „цветов не топтать“ и проч.» (I, стр. 129 — ср. с подобной же деталью, предназначавшейся для раннего варианта образа Лопахина).
Можно также предполагать, что к второстепенным персонажам пьесы относилась запись: «Для пьесы: лицо, постоянно врущее, ни с того ни с сего» (I, стр. 117 — следует за записью: «Тетка из Новозыбкова»); страсть к вранью была заменена рассказыванием всяких небылиц — черта, характерная для Симеонова-Пищика (происхождение рода Пищиков от лошади Калигулы, «разрешение» Ницше делать фальшивые деньги, совет другого философа — «прыгать с крыш», и т. д.).
Записные книжки, таким образом, позволяют отметить несколько существенных моментов в изменении первоначального замысла «Вишневого сада». Главные из них: отказ от образа «безрукого помещика»; освобождение Раневской от подчеркнутой старости и «либерализма», а Лопахина — от агрессивности и откровенной грубости.
Вместе с тем композиционные детали, продуманные на стадии записной книжки, остались незыблемыми, что характерно для чеховского творческого процесса вообще (денежный заем Симеонова-Пищика в I и IV действиях, музыка вдали во II действии).
На форзаце III Записной книжки (1897—1904 гг.) — карандашная запись: Вишневый сад. Заглавие пьесы Чехов сообщил О. Л. Книппер летом 1902 г. во время ее болезни («Театральная газета», 1916, 28 февраля, № 9, стр. 16). В письмах Чехова оно впервые упомянуто 14 декабря 1902 г. (к О. Л. Книппер); в конце того же года название пьесы «по секрету» Чехов сообщил сестре (М. П. Чехова датирует этот факт ошибочно концом 1903 г. — см. «Русские ведомости», 1914, 2 июля, № 151). Ударение в слове вишневый (вместо вишневый — вишнёвый), как сохранилось в памяти К. С. Станиславского, было изменено в дни репетиций — в декабре 1903 г.
Хронологическая протяженность записей, имеющих отношение к творческой истории «Вишневого сада», если начало их отнести приблизительно к 1895 году (соседство с записями к произведениям 1896—1897 гг.), — около 8 лет: последние по времени записи (слова «матери» о музыке для II действия и реплика Лопахина об «арестантских ротах») относятся к лету 1903 года (соседство с упоминанием в записной книжке юбилея В. Г. Короленко в июле 1903 г.).
Итак, подспудная, исподволь, работа над пьесой началась раньше, чем об этом узнали современники, и была, следовательно, более длительной, чем принято считать.
В пьесе есть образы, ситуации, мотивы, восходящие к разным годам жизни Чехова и часто уже отраженные в прежних произведениях. Самое раннее свидетельство об истоках будущей пьесы содержится в воспоминаниях М. Д. Дросси-Стейгер, сестры товарища Чехова по таганрогской гимназии — Андрея Дросси (ЛН, т. 68, стр. 539). В этих воспоминаниях речь идет о Чехове-гимназисте 4—5 классов. Мать семейства Дросси Ольга Михайловна до освобождения крестьян была помещицей в Миргородском уезде Полтавской губернии, богатом вишневыми садами, и рассказывала юному Чехову об этих садах. Когда впоследствии мемуаристка прочла пьесу, ей все казалось, что «первые образы» этого имения с вишневым садом были заронены в Чехове рассказами ее матери. «Да и крепостные Ольги Михайловны в самом деле казались прототипами Фирса, — вспоминала она. — Так, например, был у нее дворецкий Герасим, — он стариков называл молодыми людьми». Но Чехов в детстве и сам имел возможность наблюдать дворянские усадьбы, когда совершал поездки по южно-русской степи и, в частности, гостил в донецком хуторе Кравцовых Рагозина Балка. Зрительный образ белой цветущей вишни с детства запечатлелся в сознании Чехова, и уже в «Степи» эта деталь приковывает взгляд 9-летнего героя, остро чувствующего ее красоту (глава I). К этому источнику ведет позднее язвительное замечание И. А. Бунина о том, что «„вишневый садок“ был только при хохлацких хатах» (И. А. Бунин. Собр. соч. в пяти томах, т. 5. М., 1956, стр. 273).
Весной 1887 г. Чехов вновь посетил Кравцовых и, по воспоминаниям родных, рассказывал по возвращении о прекрасных цветущих вишневых садах (сообщено С. М. Чеховым).
Таким образом, южно-русское происхождение образа вишневого сада несомненно. Звук сорвавшейся в шахте бадьи Чехов также слышал на донецком хуторе Кравцовых (Вокруг Чехова, стр. 71); уже в 1887 г. он использовал этот звук в рассказе «Счастье», а в «Вишневом саде» придал ему особый, символический смысл (II и IV действия).
Летние месяцы 1885—1887 гг. Чехов провел в имении Киселевых — Бабкино, близ Воскресенска. Во второй половине 1890-х гг. имение Киселевых было обречено на продажу за долги, и бывший хозяин имения перешел на службу в Калугу в качестве члена правления банка. Письма А. С. Киселева Чехову (ГБЛ) содержат детали, впоследствии отразившиеся в пьесе. 24 сентября 1886 г. он упоминает богатую пензенскую тетушку, которая могла бы помочь материально (в записной книжке — тетка из Новозыбкова, в «Вишневом саде» — ярославская тетушка Раневской и Гаева). 28 февраля 1893 г. он делится с Чеховым своей мечтой — продать «свое достоинство» какому-либо кулаку, 8 января 1898 г. высказывает мысль о продаже всего имения или половины его под дачи. 4 февраля 1900 г., уже членом правления Калужского банка, Киселев сообщает Чехову о решении семьи продать Бабкино (замечено впервые Е. Э. Лейтнеккером; см.: Архив А. П. Чехова. Аннотированное описание писем к А. П. Чехову. Вып. I. М., 1939, стр. 95; ср. ЛН, т. 68, стр. 574).
Современники замечали некоторое сходство А. С. Киселева с Гаевым (см., например: В. А. Маклаков. Из воспоминаний. Нью-Йорк, изд. им. Чехова, 1954, стр. 174—175). В письме М. В. Киселевой Чехову от 1 декабря 1897 г. есть строки, подтверждающие это сходство: «В Бабкине многое разрушается, начиная от хозяев и кончая строениями <...> хозяин стал старым младенцем, добродушным и немного пришибленным» (ГБЛ).
Лето 1888 и часть лета 1889 г. Чехов провел в усадьбе Линтваревых Лука, близ Сум Харьковской губернии. Барский дом со старинной мебелью, по тогдашнему впечатлению Чехова, представлял собой устаревший шаблон дворянского гнезда, и он перечислял его приметы в письме А. С. Суворину 30 мая 1888 г.: соловьи, «которые поют день и ночь»; лай собак, «который слышится издали»; старые запущенные сады по соседству с имением Линтваревых — забитые наглухо, очень поэтичные и грустные усадьбы, «в которых живут души красивых женщин», дышащие на ладан лакеи-крепостники, девицы, «жаждущие самой шаблонной любви...» Большинство этих деталей, вплоть до душ умерших женщин («тень» матери Раневской в I действии), напоминает обстановку и героев «Вишневого сада», впоследствии родные Чехова узнали в старике Фирсе черты лакея Линтваревых — Григория Алексеевича, служившего у них еще с крепостных времен (см.: М. П. Чехов. Антон Чехов на каникулах. — Чехов в воспоминаниях, стр. 91).
Наконец, живя в Мелихове (1892—1898), Чехов имел возможность подробно наблюдать быт разорявшихся помещиков, привыкших к расточительству, но обреченных на постепенное вытеснение из своих поместий новой и более мощной социальной силой — буржуазией.
Типы русских помещиков, легко проживавших свои состояния, наподобие будущих Раневской и Гаева, Чехов наблюдал и в России и за границей, о чем свидетельствуют его заметки в записных книжках (см. выше). Социально-историческая тема пьесы имела реальный фундамент.
В 1880—1890 гг. российская пресса была полна объявлениями о заложенных дворянских имениях, об аукционах, назначенных за неуплату долгов, и т. д. Несостоятельной должницей была объявлена княгиня Е. П. Оболенская («Новости дня», 1892, 17 апреля, № 3166); после смерти князя В. А. Долгорукова состоялось около 20 аукционов, на которых продавалось его имущество, вплоть до мелких личных вещей, пускавшихся в оборот по полтиннику (там же, апрель — май). Имение князя М. С. Голицына, с роскошным парком и купальней, сдавалось под дачи ценою от 200 до 1300 рублей (там же, 5 мая, № 3184) — факт, подтверждающий материальную выгодность лопахинского проекта, словно выхваченного из жизни.
Свидетелем ситуаций, подобных той, которая изображена Чеховым в III действии (богатый купец, считающийся другом разоряющихся хозяев, неожиданно для них покупает на аукционе их дом), Чехов был еще в детстве. Отец Чехова, признавший себя несостоятельным должником, бежал из Таганрога, а друг семьи Г. П. Селиванов, служивший в коммерческом суде, обещал оплатить долг П. Е. Чехова, чтобы не допустить продажи дома с публичных торгов. Как вспоминает М. П. Чехов, вопреки своим заверениям спасти их семью, Г. П. Селиванов сам же и купил дом Чеховых по дешевой цене (Вокруг Чехова, стр. 70).
Купец по происхождению, Н. А. Лейкин купил в 1885 г. бывшее имение графа Строганова под Петербургом. Поздравляя Лейкина с этой покупкой, Чехов писал ему: «Ужасно я люблю все то, что в России назыв<ается> имением. Это слово еще не потеряло своего поэтического оттенка» (12 или 13 октября 1885 г., т. I Писем, стр. 167). Однако, как вспоминает М. П. Чехов, оказавшись впервые в имении Лейкина, при виде роскошного дворца с богатой обстановкой Чехов выразил недоумение: «— Зачем вам, одинокому человеку, вся эта чепуха?» и получил ответ: «Прежде здесь хозяевами были графы, а теперь — я, Лейкин, хам» (Вокруг Чехова, стр. 207—208).
Разоряющееся дворянство, часто в противопоставлении поднимавшимся «вверх» представителям «третьего сословия», было предметом изображения Чехова и в прежних произведениях («Цветы запоздалые», 1882, «Ненужная победа», 1882, «Драма на охоте», 1884, «В усадьбе», 1894, «Три года», 1895, «Моя жизнь», 1896, «У знакомых», 1898).
В «Ненужной победе» есть диалог, который хранит еще, очевидно, воспоминание об эпизоде продажи таганрогского дома и который впоследствии получил новую жизнь в «Вишневом саде». Богатый купец Пельцер, ратовавший за интересы обедневшего дворянского семейства, сообщает о продаже уникальной библиотеки, принадлежавшей этому семейству, за бесценок: «— Несмотря на все мое желание, я не мог продать ее дороже.
— Кто ее купил?
— Я, Борис Пельцер...» (см. Сочинения, т. I, стр. 301). Ср. III действие «Вишневого сада».
В журнальной редакции повести «Три года» есть мотив, относящийся к образу обедневшего дворянина Панаурова: он «прожил свое и женино состояние и был много должен. Про него говорили, что свое состояние он проел и пропил на лимонаде» («Русская мысль», 1895, № 1, стр. 10; ср.: Зап. кн. I, стр. 19). Этот мотив вновь зазвучал во II действии в реплике Гаева, который, кладя в рот леденец и смеясь, признается: «Говорят, что я все свое состояние проел на леденцах...»
В рассказе «У знакомых» эскизно намечен сюжет будущего «Вишневого сада»: недворянин Подгорин приезжает к помещикам Лосевым, чтобы в качестве адвоката дать им совет, как избежать разорения (имение уже назначено на торги, которые должны состояться 7 августа). В речах хозяев имения — много сходного с репликами Раневской и Гаева. Лосев, как и Гаев, на случай разорения, уже хлопочет о службе; как и хозяева вишневого сада, он — при угрожающем положении — живет, не скупясь, проедая последние остатки состояния. Семья Лосевых озабочена, кроме того, судьбой сестры Лосевой — Надежды, которую давно уже называют невестой Подгорина, а он все не делает ей предложения (см. З. Паперный, указ. соч., стр. 327—329).
Не менее богата социально-историческая основа образа Трофимова. Сведений о хронологически отдаленных связях Чехова с радикальным студенчеством нет — за исключением его знакомства с П. М. Линтваревым, исключенным из университета за участие в студенческом движении 1880-х годов. Зато Чехову пришлось много общаться с студентами в годы его жизни в Ялте, куда часто приезжали лечиться больные студенты.
Студенческие «беспорядки» начались в феврале 1899 г. в Петербурге, откуда перекинулись в Москву и другие города. Кульминацией этого движения была в марте 1902 г. демонстрация студентов у Казанского собора в Петербурге, закончившаяся массовыми репрессиями в Петербурге и Москве. Обо всех этих событиях Чехов был осведомлен благодаря своим многочисленным корреспондентам (см.: А. Н. Дубовиков. Письма к Чехову о студенческом движении 1899—1902 годов. — ЛН, т. 68). И не только был осведомлен, но и участвовал в помощи пострадавшим студентам (там же).
В Уфимской губернии, где Чехов был вместе с О. Л. Книппер летом 1901 г., он охотно беседовал со студентом Киевского университета В. И. Киселевым, сидевшим в тюрьме за политическую деятельность (В. И. Киселев. В Андреевском санатории. Из воспоминаний о Чехове. — «Орджоникидзевская правда», Ворошиловск, 1940, 14 июля, № 162).
Судьба студента Трофимова, также причастного, по словам самого Чехова, к политическим событиям (к О. Л. Книппер, 19 октября 1903 г.), отразила все эти впечатления лишь в самой общей форме. О конкретной близости этого героя к реальному лицу сведений нет, за исключением одного указания К. С. Станиславского — о том, что Чехов «внес» в образ некоторые черты юноши из Любимовки (лето 1902 г.), которого он уговорил поступить в университет — и тот действительно стал студентом; эти черты — «угловатость», «пасмурная внешность облезлого барина» («Речь», 1914, 2 июля, № 177).
Больше конкретных реальных связей имеет образ Епиходова. Его речь, полуграмотная, но претенциозная, тяготеющая к «афоризмам» и выспренним выражениям, восходит к мещанскому стилю речи, знакомому Чехову с детства. Такая манера выражаться была уже использована Чеховым не раз, начиная с «Письма к ученому соседу» (1880) и «Свадьбы» (1887).
Тип неудачника, неловкого человека («22 несчастья») в среде Чехова и его друзей в 1880-е годы имел названия: филинюга, вика (см. том I Писем). 13 августа 1893 г. в письме к Л. С. Мизиновой Чехов впервые (в письменной форме) употребляет новое слово, которое становится определяющим для образа Епиходова: «Недотепа Иваненко продолжает быть недотепой и наступать на розы, грибы, собачьи хвосты и проч.» А. И. Иваненко, не имевший своего дома и живший у Чеховых в Мелихове до самого их переезда в Ялту, был в жизни действительно неудачником; с него, по воспоминаниям М. П. Чехова, и «списан» в некоторых чертах Епиходов (Вокруг Чехова, стр. 171). В воспоминаниях А. Н. Сереброва (Тихонова) приводится фраза Чехова о студенческом поколении 80-х годов, сказанная летом 1902 г., т. е. во время работы над замыслом «Вишневого сада»: «Вот и вышли такими... недотепами». «Он весело рассмеялся, смакуя меткое слово, ставшее впоследствии таким знаменитым» (Чехов в воспоминаниях, стр. 652).
В самом конце 1890-х годов, среди записей к «Архиерею» и «В овраге», появляется в записной книжке фраза о человеке, который «ничего не умеет...» (Зап. кн. I, стр. 108).
В тексте «Вишневого сада» к Епиходову непосредственно обращено лишь выражение «22 несчастья» (слова Вари в III д.). «Недотепа» — словечко Фирса, который так называет то Дуняшу (I д.), то Яшу (III д.), то себя (IV д., последняя реплика пьесы); Любовь Андреевна в III д. относит это слово, ссылаясь на Фирса («как вот говорит наш Фирс»), к Трофимову. С пьесой «Вишневый сад», как первым литературным произведением, в котором использовано это слово, связывают его все современные словари, начиная с Толкового словаря русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова (1938); в словаре В. И. Даля этого слова не было.
Если неловкость в быту Епиходова восходит к Иваненко, то другие его черты угадываются в нелепых письмах бывшего монаха Давыдовой пустыни А. М. Ермолаева к Чехову (замечено В. Б. Катаевым во вступит. статье к тому VII Писем). Как писал Чехов сестре из Ниццы в 1898 г., «злосчастный Ермолаев» бомбардировал его письмами и телеграммами, просил денег, угрожал застрелиться и т. д. (3 марта 1898 г.). Ср. угрозы Епиходова застрелиться во II действии пьесы.
Несколько позже, по воспоминаниям К. С. Станиславского, Чехов воспользовался чертами одного жонглера, которого Чехов видел в «Аквариуме» (начало лета 1902 г.): «Это был большой мужчина, во фраке, толстый, немного сонный, отлично, с большим комизмом разыгрывавший, среди своих жонглерских упражнений, неудачника. С ним приключалось „двадцать два несчастья“». Так, например, жонглируя с кинжалами, «фокусник шатался, чтобы не упасть, хватался за шкаф с посудою — и шкаф, конечно, валился на него, прикрывал его под грохот разбивавшейся посуды. „Двадцать два несчастья“ завершили свой полный круг. Антон Павлович хохотал неистово...» («Речь», 1914, 2 июля, № 177). В то же лето, вспоминал Станиславский, Чехов обратил внимание на двух обитателей Любимовки, в которых также можно угадать черты Епиходова. Один из них — служащий: «Чехов часто беседовал с ним, убеждал его, что надо учиться, надо быть грамотным и образованным человеком. Чтобы стать таковым, прототип Епиходова прежде всего купил себе красный галстук и захотел учиться по-французски» (Станиславский, т. 1, с. 267). Другой — лакей Егор. Как лакей он был нерадив, и Станиславский, приглашая Чехова в гости, предупреждал: «У него плохая школа и много пафоса. Если он задекламирует, гоните его и позовите Дуняшу — горничную, она поосновательнее» (июнь 1902 г. — Ежегодник МХТ, стр. 218). В результате знакомства Чехова с Егором тот, к удивлению возвратившегося в имение Станиславского, заявил, что учится счетоводству и лакеем больше быть не желает. Имя горничной — Дуняша, возможно, также навеяно любимовской Дуняшей.
К реальным источникам, по предположению В. Я. Лакшина («Чеховские чтения в Ялте». М., 1973, стр. 87—88), восходят некоторые заметки Чехова в Записной книжке III: «„Конец мечтам“ — Витте Епиходов» (стр. 81) — возможно, эта запись как-то связана с разговорами Чехова с земским врачом Серпуховского уезда И. Г. Витте, приезжавшим в конце августа 1901 г. в Ялту (иное предположение см. в кн.: А. И. Ревякин. «Вишневый сад» А. П. Чехова. М., 1960, стр. 51); «Гаев-Тербецкий» (III, стр. 82) и «Отец Лоп<ахина> был крепостным у Т<ербецкого?>» — если Тербецкий, как полагает В. Я. Лакшин, действительное лицо («Гаев-Тербецкий» — это могла быть и придуманная Чеховым двойная дворянская фамилия), то, возможно, к этому человеку и относится цитируемый в названной статье рассказ Чехова о старом барине, пролежавшем целый день в постели, потому что его лакей уехал в город, не достав из шкафа брюк для него. Этот рассказ, записанный Станиславским, по воспоминаниям последнего, Чехов предварил словами: «Ведь это же действительность, это же было. Я же не сочинил этого...» («Речь», 1914, 2 июля, № 177).
Из второстепенных персонажей некоторое сходство с действительным лицом имеет также Шарлотта. В семье Смирновых, соседей владельцев Любимовки, жила гувернантка-англичанка Елена Романовна Глассби. По словам Станиславского, это было «маленькое худенькое существо, с двумя длинными девичьими косами, в мужском костюме. Благодаря такому соединению не сразу разберешь ее пол, происхождение и возраст. Она обращалась с Антоном Павловичем запанибрата, что очень нравилось писателю. Встречаясь ежедневно, они говорили друг другу ужасную чепуху <...> ловкая гимнастка-англичанка прыгала к нему на плечи и, усевшись на них, здоровалась за Антона Павловича со всеми проходившими мимо них, т. е. снимала шляпу с его головы и кланялась ею, приговаривая на ломаном русском языке, по-клоунски комичном: „Здласьте! Здласьте! Здласьте!“
При этом она наклоняла голову Чехова в знак приветствия» (Станиславский, т. 1, стр. 60).
«За Антоном здесь ухаживает молодая англичанка, которая прекурьезно говорит по-русски, всем говорит „ты“ и называет его брат Антон...», — писала О. Л. Книппер 6 августа 1902 г. из Любимовки Е. Я. Чеховой (ГБЛ).
Чеховский персонаж и реальное лицо в этом случае, как и во всех других, имеют лишь отдаленную связь между собой, и ни в одном из случаев о прототипе чеховского героя в собственном смысле слова говорить нельзя. Характерно, что Чехов обычно изменял яркие, бросающиеся в глаза внешние данные наблюдаемых им лиц (Глассби была англичанкой и «маленьким существом», Шарлотта — немкой и вряд ли миниатюрной женщиной; А. И. Иваненко был музыкант-флейтист, по национальности украинец, Епиходов — конторщик, русский, и т. д.).
Несколько деталей, как полагает Н. Брыгин («Сюжет для небольшого романа. Одесские визиты А. Чехова». — «Вечерняя Одесса», 1974, 22 ноября), перешло к Ане от О. Р. Васильевой, с которой Чехов познакомился в 1898 г. в Ницце; в их числе — сообщение О. Р. Васильевой в письмах к Чехову о том, что она в Париже летала на воздушном шаре («...было очень хорошо, м. б. удастся еще один раз полететь» — 4 марта 1903 г., ГБЛ). Ср. слова Ани: «А в Париже я на воздушном шаре летала!» См. также: Н. Брыгин. Времен стремительная связь. Одесса, 1977, стр. 99.
На последних стадиях работы, уже при переписывании пьесы, у Чехова явилась необходимость уточнить бильярдные термины для роли Гаева, и он обратился к брату О. Л. Книппер, Константину Леонардовичу, который жил в это время в Ялте, с просьбой — посидеть в бильярдной, понаблюдать за игрой. К. Л. Книппер 9 октября 1903 г. прислал Чехову свои записи — всего 22 бильярдных выражения, в том числе и те, что упоминаются в пьесе («режу в угол», «дуплет в середину» и т. д. — ГБЛ).
3
Тема оскудения дворянства в «Вишневом саде» имеет своих литературных предшественников, далеких по времени, как «Мертвые души», «Месяц в деревне», «Село Степанчиково», «Лес», и значительно более близких, как романы С. Н. Терпигорева (Атавы) («Оскудение», 1881—1882 гг.) и А. И. Эртеля («Смена», 1890—1891 гг.), как повесть И. А. Бунина «Антоновские яблоки» (1900), пьеса А. М. Федорова «Старый дом» (1900) и т. д.
Критики, изучавшие литературную генеалогию пьесы, искали в ней сходство в первую очередь с произведениями А. Н. Островского: «Лес» (Вл. Боцяновский. «Лес» и «Вишневый сад». — «Театр и искусство», 1911, № 22, стр. 442—443), «Светит, да не греет», пьеса Островского и Н. Я. Соловьева (С. Ф. Елеонский. К истории драматического творчества Островского. Предвосхищенный замысел «Вишневого сада». — В кн.: Александр Николаевич Островский. 1823—1923. Иваново-Вознесенск, 1923, стр. 105—114), «Бешеные деньги», «Дикарка» (В. Б. Катаев. Литературные предшественники «Вишневого сада». — В кн.: Чеховские чтения в Ялте. Чехов и театр. М., 1976, стр. 133).
Назывались в этой связи также: «Ликвидация» Н. Я. Соловьева, «Убежище Монрепо» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Выгодное предприятие» А. А. Потехина, «Новое дело» Вл. И. Немировича-Данченко, «Закат» А. И. Сумбатова-Южина, «Дело жизни» Н. И. Тимковского, «Искупление» И. Н. Потапенко (см.: А. И. Ревякин. «Вишневый сад». М., 1960, стр. 89).
В этот ряд легко вписываются «Оскудение» и «Потревоженные тени» С. Н. Терпигорева (Атавы), «Захудалый род» Н. С. Лескова, «Поздняя любовь» А. Н. Островского, «Женитьба Белугина» А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева и многие другие произведения. При таком широком охвате литературных явлений, предвосхитивших сюжет «Вишневого сада», оказалось возможным связать рождение чеховского шедевра с непосредственным впечатлением автора от рассказа И. П. Белоконского «На развалинах», частично опубликованного в 1897 г. в «Русских ведомостях» (29 октября, № 97) и вошедшего полностью в книгу И. П. Белоконского «Деревенские впечатления. Из записок земского статистика» (СПб., 1900). В рассказе «На развалинах» речь идет о последнем дне дворянской усадьбы; в нем есть парк, который должны рубить «завтра»; героиня — «старуха» (какой думал сначала изобразить и Чехов Раневскую); есть кулак-купец; есть пара молодых людей — Володя, стремящийся посвятить себя полезной земской работе, и Лида, которая переживает гибель усадьбы как несчастье матери, а не свое; слуга Никанор в этом рассказе, как и Фирс, остается в доме, чтобы ждать смерти. См.: Г. Леман-Абрикосов. Вероятный источник «Вишневого сада» А. П. Чехова. — «Русская литература», 1966, № 1.
На наш взгляд, эти совпадения, которые можно было умножить примерами из произведений других писателей той эпохи, свидетельствуют о типичности ситуаций и образов «Вишневого сада» — произведения, в котором эти ситуации воплотились в наиболее обобщенной форме; Чехов подвел итоги старой теме русской литературы (вымирание дворянских усадеб) и поставил вопрос о смене социальных поколений. Всему этому подчинена фабула пьесы, отражающая типические судьбы дворянских имений.
В. Б. Катаев в указ. статье (стр. 143—145) устанавливает несколько литературных аналогий в характерах Лопахина и Трофимова (в «Анне Карениной» Л. Н. Толстого, «Джентльмене» А. И. Сумбатова-Южина, «Богатом человеке» С. А. Найденова, «Нови» И. С. Тургенева, «Саше» Н. А. Некрасова). Слишком широкий литературный фон в истории создания пьесы — верный знак, что автор опирался преимущественно, как и его предшественники, на закономерности развития реальной действительности и ситуации, которые он наблюдал в жизни. Даже к психологическому открытию образа «нетипического капиталиста» протягиваются нити из современной Чехову жизни (С. Морозов, П. Третьяков и др.).
4
Хотя общий план пьесы и даже срок ее написания были продуманы еще в 1901 году и получили отражение в названном выше письме к О. Л. Книппер от 22 апреля этого года (4-х актный водевиль или комедия — «не раньше конца 1903 года»), реализация плана оказалась чрезвычайно трудной. Резкое отличие первоначального замысла от осуществления, уже отмечавшееся выше, и особенно несоответствие последних по времени записей (лето 1903 года) характеру героев будущей пьесы свидетельствуют о том, что у Чехова были существенные колебания в решении центральных образов даже на последних этапах работы (пьеса была окончена 14 октября 1903 г.).
Процесс создания последней пьесы был одним из самых трудных и мучительных в творческой биографии Чехова.
С конца октября 1901 г., после возвращения Чехова в Ялту из Москвы, где он впервые рассказывал актерам МХТ о своем замысле, в письмах О. Л. Книппер к нему появляется новый мотив — ожидание обещанной пьесы.
30 октября 1901 г. она пишет, что все в театре кланяются Чехову, «а главное ждут пьесы» (Переписка с Книппер, т. 2, стр. 20).
На одну из просьб о пьесе — от А. Л. Вишневского — Чехов ответил через О. Л. Книппер: «...скажи ему, что пьесу напишу, но не раньше весны» (17 ноября 1901 г.).
«Я пишу вяло, без всякой охоты <...> — писал Чехов 3 декабря ей самой. — Как бы ни было, комедию напишу...»
Узнав от О. Л. Книппер об этом твердом обещании Чехова, Вл. И. Немирович-Данченко писал ему: «Ольга Леонардовна шепнула мне, что ты решительно принимаешься за комедию. А я все это время собирался написать тебе: не забывай о нас! И чем скорее будет твоя пьеса, тем лучше. Больше времени будет для переговоров и устранения разных ошибок» (середина декабря 1901 г. — Ежегодник МХТ, стр. 141). Вскоре Чехов подтвердил свое обещание: «А я все мечтаю написать смешную пьесу, где бы черт ходил коромыслом» (к О. Л. Книппер, 18 декабря 1901 г.).
21 декабря 1901 г. состоялась премьера пьесы Вл. И. Немировича-Данченко «В мечтах» («трескучая», по словам Чехова, пьеса мало удовлетворяла актеров, привыкших к иному репертуару, — о ней см.: ЛН, т. 68, стр. 427—428), и, отражая настроение труппы, О. Л. Книппер подхватила чеховские слова: «А ты надумывай комедию, да хорошую, чтобы черт коромыслом ходил. Я в труппе сказала, и все подхватили, галдят и ждут» (23 декабря 1901 г. — Переписка с Книппер, т. 2, стр. 174). И в следующих письмах — напоминания, довольно активные («А о комедии думаешь?» — 27 декабря 1901 г., там же, стр. 185; «...а ты примешься за работу? Ну, сделай маленькое усилие...» — 29 декабря 1901 г., там же, стр. 191; «А если бы я была с тобой — ты бы работал?» — 8 января 1902 г., там же, стр. 225).
С напоминаниями и просьбами обращались к Чехову неоднократно и другие актеры: «...На будущий сезон нам необходима Ваша новая пьеса, иначе интерес к нашему театру опять ослабеет, а Вы только один пока сила нашего театра» (А. Л. Вишневский, 2 января 1902 г. — ГБЛ).
От М. П. Чеховой, приехавшей из Ялты в январе 1902 года, О. Л. Книппер узнала, что Чехов рассказывал сестре о пьесе, и обиделась: «Мне ты даже вскользь не намекнул <...> Ну, да бог с тобой, у тебя нет веры в меня» (15 января 1902 г. — Переписка с Книппер, т. 2, стр. 245).
Ответ Чехова передает точное состояние работы над пьесой: «Я не писал тебе о будущей пьесе не потому, что у меня нет веры в тебя, как ты пишешь, а потому, что нет еще веры в пьесу. Она чуть-чуть забрезжила в мозгу, как самый ранний рассвет, и я еще сам не понимаю, какая она, что из нее выйдет, и меняется она каждый день. Если бы мы увиделись, то я рассказал бы тебе, а писать нельзя, потому что ничего не напишешь, а только наболтаешь разного вздора и потом охладеешь к сюжету» (20 января 1902 г.).
Сомнение Чехова в том, что из пьесы выйдет, — это первое указание на то, что он уже отошел от идеи веселой «комедии», где ходил бы «черт коромыслом». Два года, прошедшие со дня первого конкретного обещания Чехова написать пьесу (осень 1901 г.) до ее окончания (осень 1903 г.), насыщены непосредственной работой над пьесой, но насыщены крайне неравномерно. Многие месяцы Чехов вовсе не притрагивался к бумаге, и тогда творческий процесс состоял в размышлениях о пьесе. Но были и времена, когда о пьесе даже думать не хотелось.
Этому способствовал целый ряд обстоятельств, усложнявших творческий труд Чехова в последние годы его жизни. Уже начальный этап работы ознаменовался очередным обострением легочного процесса, выбившим Чехова из колеи в декабре 1901 г. И если помнить, что пьеса писалась тяжело больным человеком, физические силы которого убывали с каждым месяцем, то станет понятно, что бытовые неурядицы могли преодолеваться лишь при большом напряжении воли.
Будь Чехов здоров, многих преград просто не было бы. Разве прежде не приходилось ему писать в некомфортабельной обстановке, при неубывающем потоке гостей, беспорядочной еде и т. д.? Теперь, работая над «Вишневым садом», он то и дело жалуется на холод в кабинете (+12 градусов — и для здорового-то неуютно сидеть за письменным столом), на плохой обед, на назойливых гостей (способных порой по три-четыре часа вести пустые разговоры, выбивавшие его не только из рабочего состояния, но и вообще из сил). У больного Чехова хватило энергии выстроить дачу и обставить ее со вкусом, но, судя по его письмам, он не был в состоянии обеспечить себя даже самым необходимым режимом питания. Все это сыграло определенную роль в быстром приближении его смерти. Прозаические, но и весьма ощутительные мелочи быта обволакивали его словно паутиной.
Новая семейная жизнь, трудно налаживавшаяся из-за постоянных разлук с женой, из-за некоторой нервозности в отношениях между О. Л. Книппер и М. П. Чеховой; частые поездки в Москву (при противоречивых советах врачей относительно благоприятности ялтинского и московского климата для его здоровья); серьезная болезнь Книппер весной 1902 года, когда Чехов, по его же словам, не отходил от нее «ни на шаг»; пребывание на Урале (где, по свидетельству А. Н. Тихонова-Сереброва, Чехова преследовали мучительные приступы болезни); новое обострение ее в конце отдыха в Любимовке и т. д. — весь этот беспокойный curriculum vitae был не по силам художнику, работающему над большим замыслом.
Когда, наконец, пьеса была завершена в черновике, Чехов писал — без попытки разжалобить корреспондента, но и без преувеличения; «Пьесу я почти кончил, надо бы переписывать, мешает недуг, а диктовать не могу» (М. А. Членову, 13 сентября 1903 г.). (Заметим, что пьесу пришлось начисто переписывать два раза — см. письмо К. С. Станиславскому от 10 октября 1903 г.). Отослав пьесу в Художественный театр, Чехов признавался, что создавал ее «томительно долго, с большими антрактами, с расстройством желудка, с кашлем» (О. Л. Книппер, 17 октября 1903 г.). Процесс создания пьесы, таким образом, был актом героических усилий художника, сумевшего преодолеть и болезнь, и обстановку, мало располагавшую к творческому настроению.
Преодоление было и долгим, и нелегким. Так, под впечатлением одного из неприятных семейных эпизодов, Чехов вышел из равновесия и заявил О. Л. Книппер: «Пьесы писать не буду» (17 августа 1902 г.). Потом, немного успокоившись и прося «не сердиться», смягчил свое решение: «Пьесу писать в этом году не буду, душа не лежит, а если и напишу что-нибудь пьесоподобное, то это будет водевиль в одном акте» (27 августа 1902 г.). Эта фраза, казалось бы, неожиданная для момента, наводит на мысль о собственно литературных трудностях, вставших перед Чеховым в процессе работы над «Вишневым садом». Новизна и сложность взятой на себя задачи — создать подлинно веселую большую комедию — временами смущала Чехова. «Веселые комедии» он писал и прежде — одноактные. «Комедии» типа «Иванова» (первоначальная рукопись) и «Чайки» не были «веселыми». Очевидно, работая над замыслом новой большой «веселой» пьесы, Чехов долго не мог найти нужного тона; складывавшийся «великолепный» сюжет (см. ниже) — о продаже имения с прекрасным вишневым садом — не был «весел» сам по себе, а откровенной сатирически-фарсовой трактовки этого сюжета Чехов тоже не достиг. Между тем желание «комического» в привычной форме то и дело брало верх. Как полагал А. Б. Дерман, «свое намерение написать водевиль Чехов частично выполнил в скором времени, переработав в сентябре 1902 г. свою давнюю вещь — „О вреде табака“» (Переписка с Книппер, т. 2, стр. 466).
В то же время необычно долгая для Чехова работа над пьесой иногда вызывала у него чувство неприязни к драматургической форме вообще: «Пьесы не могу писать, меня теперь тянет к самой обыкновенной прозе» (О. Л. Книппер, 14 сентября 1902 г.).
Приблизительно в это же время Александринский театр готовил новую постановку «Чайки», и для Чехова, который не мог забыть провала пьесы в 1896 году, это был опять повод для размышлений о том, как будет принята его пьеса, каковы требования современной публики к драматургии и т. д. Расхолаживало иногда, по собственному признанию Чехова, и обилие «драмописцев»: «Пьесу не пишу и писать ее не хочется, так как очень уж много теперь драмописцев, и занятие это становится скучноватым, обыденным» (к О. Л. Книппер, 16 марта 1902 г.). После одного из напоминаний Немировича-Данченко Чехов вновь пишет: «Немирович требует пьесы, но я писать ее не стану в этом году, хотя сюжет великолепный, кстати сказать» (к О. Л. Книппер, 29 августа 1902 г.).
К 1902 г. относится одно из свидетельств современников, подтверждающее, что этот год в работе над пьесой — над ее общим тоном — был для Чехова критическим. Это свидетельство Е. П. Карпова обнаруживает трудности, которые испытывал Чехов, пытаясь отразить в пьесе общественное настроение начала 1900-х годов: «Нудно выходит... Совсем не то теперь надо...» И говоря о сильном брожении в народе, о том, что Россия «гудит, как улей» («Вот вы посмотрите, что будет года через два-три...» — срок для первой русской революции указан безошибочно!), Чехов заключил беседу с Е. П. Карповым словами: «Вот мне хотелось бы поймать это бодрое настроение... Написать пьесу... Бодрую пьесу... Может быть, и напишу... Очень интересно... Сколько силы, энергии, веры в народе...» (Чехов в воспоминаниях, 1954, стр. 571—572).
Истомившиеся по чеховской пьесе режиссеры и актеры осенью 1902 г., переезжая в новое здание в Камергерском переулке, надеялись, что «Вишневый сад» будет гвоздем первого сезона в этом здании (см. письмо О. Л. Книппер от 1 сентября 1902 г. — Переписка с Книппер, т. 2, стр. 480).
Нужда Художественного театра в новом репертуаре была действительно острой, Чехов как автор чувствовал ответственность и мучился тем, что подводит театр.
Самый конец 1902 г. ознаменовался, после очередной вспышки болезни, новым подъемом творческих сил: «Я работал, был в ударе...» (к О. Л. Книппер, 19 декабря 1902 г. — речь идет, очевидно, о «Невесте»). 1903 год начался с обещания К. С. Станиславскому: «Пьесу начну в феврале, так рассчитываю по крайней мере. Приеду в Москву уже с готовой пьесой» (1 января 1903 г.).
К концу 1902 — началу 1903 г. в письмах Чехова появляются уже конкретные высказывания о содержании пьесы; они продолжаются и после того, как рукопись была отправлена в Художественный театр (14 октября 1903 г.). В этих автокомментариях к пьесе, часто вызванных откликами на нее из театра, затронуты общие вопросы.
О жанре пьесы и ее общем тоне: «Пьесу назову комедией» — Вл. И. Немировичу-Данченко, 2 сентября 1903 г.; «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс...» — М. П. Лилиной, 15 сентября 1903 г.; «...вся пьеса веселая, легкомысленная» — О. Л. Книппер, 21 сентября 1903 г.; опасение, что у актрис будет плачущий тон — Немировичу-Данченко, 23 октября 1903 г.
О композиции: в трех или четырех актах — к О. Л. Книппер, 24 декабря 1902 г., 3 января 1903 г.; «Последний акт будет веселый...» — к ней же, 21 сентября 1903 г.; «Во всей пьесе ни одного выстрела...» — к ней же, 25 сентября 1903 г.
О декорациях и костюмах: «...обстановочную часть в пьесе я свел до минимума, декораций никаких особенно не потребуется <...> Во втором акте своей пьесы реку я заменил старой часовней и колодцем. Этак покойнее. Только во втором акте вы дадите мне настоящее зеленое поле и дорогу, и необычайную для сцены даль» — Немировичу-Данченко, 22 августа 1903 г.; «Дом старый, барский <...> Богато и уютно» — к О. Л. Книппер, 14 октября 1903 г. Очень важное пояснение к смыслу лопахинского предложения Раневской и Гаеву содержится в письме Станиславскому 5 ноября 1903 г.: «Дом должен быть большой, солидный; деревянный (вроде Аксаковского, который, кажется, известен С. Т. Морозову), или каменный, это все равно. Он очень стар и велик, дачники таких домов не нанимают; такие дома обыкновенно ломают и материал пускают на постройку дач. Мебель старинная, стильная, солидная; разорение и задолженность не коснулись обстановки.
Когда покупают такой дом, то рассуждают так: дешевле и легче построить новый поменьше, чем починить этот старый».
Общее настроение II акта пояснено в словах: «Кладбища нет, оно было очень давно. Две-три плиты, лежащие беспорядочно, — вот и все, что осталось. Мост — это очень хорошо. Если поезд можно показать без шума, без единого звука, то — валяйте» (Станиславскому, 23 ноября 1903 г.). О костюмах см. письмо Немировичу-Данченко, 2 ноября 1903 г.
Большинство замечаний, всегда лаконичных, относится к героям пьесы.
К Раневской («старуха» — к О. Л. Книппер, 28 декабря 1902 г., В. Ф. Комиссаржевской, 27 января 1903 г.; «пожилая дама» — к О. Л. Книппер, 11 апреля 1903 г.; «Умна, очень добра, рассеянна; ко всем ласкается, всегда улыбка на лице» — к ней же, 14 октября 1903 г.; «Угомонить такую женщину может только одна смерть...» — к ней же, 25 октября 1903 г.).
К Гаеву («аристократ» — к О. Л. Книппер, 12 октября 1903 г.; советы А. Л. Вишневскому, для которого Чехов писал эту роль, похудеть и выучить бильярдные термины — к М. П. Лилиной, 15 сентября 1903 г. и к О. Л. Книппер, 14 октября 1903 г.).
К Лопахину («роль комическая» — к О. Л. Книппер, 5 и 6 марта 1903 г.; «большая роль» — к М. П. Лилиной, 15 сентября 1903 г.; «роль Лопахина центральная <...> Лопахина надо играть не крикуну, не надо, чтобы это непременно был купец. Это мягкий человек» — к О. Л. Книппер, 30 октября 1903 г.; возмущение тем, что в изложении Н. Е. Эфроса («Новости дня», 1903, 19 октября, № 7315) Лопахин получился просто «кулак», «сукин сын» и проч. — к Немировичу-Данченко, 23 октября 1903 г.; «Ведь это не купец в пошлом смысле этого слова...» — к О. Л. Книппер, 28 октября 1903 г.; «Лопахин, правда, купец, но порядочный человек во всех смыслах, держаться он должен вполне благопристойно, интеллигентно, не мелко, без фокусов...» — К. С. Станиславскому, 30 октября 1903 г.; «Лопахин ведь держится свободно, барином...» — ему же, 10 ноября 1903 г.).
К Трофимову (недовольство некоторой «недоделанностью» образа этого политически неблагонадежного студента — к О. Л. Книппер, 19 октября 1903 г., при общей оценке: «Роль Качалова хороша» — к ней же, 25 сентября 1903 г.).
К Ане (девочка 17—18 лет, «молодая и тоненькая» — к Вл. И. Немировичу-Данченко, 2 сентября 1903 г.; «Аня прежде всего ребенок, веселый до конца, не знающий жизни и ни разу не плачущий, кроме II акта, где у нее только слезы на глазах» — к О. Л. Книппер, 21 октября 1903 г.; «...куцая роль, неинтересная» — к ней же, 1 ноября 1903 г.; «Аню может играть кто угодно, хотя бы совсем неизвестная актриса, лишь бы была молода, и походила на девочку, и говорила бы молодым, звонким голосом. Эта роль не из важных» — Немировичу-Данченко, 2 ноября 1903 г.).
К Варе («роль комическая», «приемыш, 22 лет» — к О. Л. Книппер, 5 и 6 марта 1903 г.; «ты будешь играть глупенькую», «монашка, глупенькая» — ей же, 11 февраля и 1 ноября 1903 г.; «сериозная, религиозная девица» — К. С. Станиславскому, 30 октября 1903 г.).
К Симеонову-Пищику (радость по поводу того, что образ понравился актерам — к О. Л. Книппер, 23 октября 1903 г.).
К Епиходову (разрешение И. М. Москвину, игравшему роль, произнести слова в IV акте: «Что же, это со всяким может случиться» — к О. Л. Книппер, 20 марта 1904 г.).
К Шарлотте («роль важная» — Немировичу-Данченко, 2 ноября 1903 г.; «Тут должна быть актриса с юмором» — к О. Л. Книппер, 14 октября 1903 г.; пожелание актрисе К. П. Муратовой, которая получила эту роль, быть смешной на сцене, какой она иногда бывает и в жизни — к ней же, 8 ноября 1903 г.).
Заканчивая пьесу, Чехов оценил ее в целом как новый этап своего драматургического творчества: «Мне кажется, что в моей пьесе, как она ни скучна, есть что-то новое. Во всей пьесе ни одного выстрела, кстати сказать»; «Люди у меня вышли живые...» — к О. Л. Книппер, 25 и 27 сентября 1903 г. Приведенные выше замечания о скупости декораций, о «необычайной для сцены» дали, а также желание дать возможно меньше действующих лиц («этак интимнее» — к О. Л. Книппер, 21 марта 1903 г.; впрочем, это намерение не было осуществлено: действующих лиц в «Вишневом саде» приблизительно столько же, сколько в «Трех сестрах», и больше, чем в «Дяде Ване») — все это свидетельствует о стремлении к особой строгости и обобщенности драматургического рисунка.
К тому же поэтическому ряду, что и «даль» во II действии, относятся и образ цветущей вишни в I действии и вообще всего вишневого сада как главного объекта заботы действующих лиц, и звук лопнувшей струны во II и IV действиях. Этим элементам реалистической символики Чехов придавал большое значение. Хотя, как известно, он опасался некоторых излишеств в звуковом оформлении спектакля (и деликатно писал Станиславскому по поводу II акта: «...сенокос бывает обыкновенно 20—25 июня, в это время коростель, кажется, уже не кричит, лягушки тоже уже умолкают к этому времени. Кричит только иволга» — 23 ноября 1903 г.), звучание «лопнувшей струны» казалось ему очень важным, о чем вспоминает, в частности, Ф. Д. Батюшков («У меня там <...> должен быть слышен за сценой звук, сложный, коротко не расскажешь, а очень важно, чтобы было то именно, что мне слышалось. И ведь Константин Сергеевич нашел как раз то самое, что нужно...» («Две встречи с А. П. Чеховым». — «Солнце России», 1914, июнь, № 228/25; «Литературная Россия», 1974, 1 ноября, № 44, стр. 14).
Многочисленные указания Чехова на необычность фигуры купца и ее центральное положение в пьесе, посвященной разорению помещичьего имения, были косвенным признанием новизны этого образа. Наконец, замысел «веселой комедии», которого Чехов старался держаться до конца, — при драматической ее фабуле — был также сознательной попыткой ввести новизну в решение драматургического конфликта. Чехов признавал, уже в разгаре работы, и «трудность сюжета» вообще (Станиславскому, 28 июля 1903 г.), и трудность работы особенно над вторым актом (Немировичу-Данченко, 2 сентября 1903 г.).
Торопясь отослать дважды переписанную рукопись, Чехов все же не был вполне доволен итогами своей работы. Он считал, что ему надо еще доделать IV акт, кое-что «пошевелить» во II акте и изменить три фразы в окончании III акта, «а то, пожалуй, похоже на конец „Дяди Вани“» (к О. Л. Книппер, 17 октября 1903 г.).
И когда пришли первые восторженные телеграммы (от О. Л. Книппер и Немировича-Данченко), он признался жене: «Я все трусил, боялся. Меня главным образом пугала малоподвижность второго акта и недоделанность некоторая студента Трофимова. Ведь Трофимов то и дело в ссылке, его то и дело выгоняют из университета, а как ты изобразишь сии штуки?» (19 октября 1903 г.).
Первое опасение оправдалось во время репетиций, вопрос о Трофимове возник во время прохождения рукописи через цензуру. Чехов еще долго продолжал вносить исправления в текст.
14 октября 1903 г., таким образом, завершился лишь первый этап создания пьесы.
5
В драматическую цензуру пьеса поступила в ноябре 1903 г. Цензор потребовал замены двух обличительных реплик Трофимова во II действии, и Чехову пришлось пойти на уступку (см. выше исправления двух реплик). Социальный смысл реплики — о положении рабочих — был тем самым заменен нравственным, а во второй реплике пришлось завуалировать мотив социального контекста варьированием уже высказанной выше мысли о «голосах», которые слышны «с каждой вишни в саду...»
Цензура продолжала следить за пьесой и после ее постановки в Художественном театре (см. донесение П. М. Пчельникова, фактического цензора частных театров Москвы, в Главное управление по делам печати от 28 мая 1904 г. — Ежегодник МХАТ 1948 года, т. I. М., 1950, стр. 689).
В декабре 1903 г. Чехов приехал на репетиции и здесь продолжал работу над пьесой. Встреча с театром, однако, была далеко не идиллической. Продолжались трудности, возникшие еще в октябре на стадии распределения ролей.
Как и в процессе создания «Трех сестер», Чехов писал «Вишневый сад» в значительной степени в расчете на определенных актеров.
А. Л. Вишневский с самого начала — еще с замысла «безрукого помещика» — казался ему будущим исполнителем роли Гаева; А. Р. Артем — роли старого лакея, т. е. Фирса; работая над Раневской, которую он называл поначалу «старухой», Чехов надеялся, что театр позаботится о новой актрисе для этой роли; Лопахина создавал специально для Станиславского, Трофимова — для Качалова, Симеонова-Пищика — для Грибунина; Епиходова, он рассчитывал, сыграет хорошо Лужский, Яшу — Москвин, Варю — Книппер, прохожего — Громов. Для Ани он просил найти любую молоденькую актрису (см. выше), для Шарлотты он не видел в труппе подходящей актрисы, кроме той же Книппер (см. письмо Немировичу-Данченко, 2 ноября 1903 г.).
В спектакле роли были распределены иначе: Лопахин — Леонидов, Раневская — Книппер, Гаев — Станиславский, Аня — Лилина, Варя — Андреева, Шарлотта — Муратова, Епиходов — Москвин, Яша — Александров. Роли Трофимова, Пищика, Фирса, Дуняши и прохожего исполнялись актерами, которых предлагал Чехов. Разногласия с руководителями театра по поводу распределения ролей волновали Чехова особенно в связи с Лопахиным («Леонидов сделает кулачка», — писал он Станиславскому 30 октября 1903 г. и впоследствии был недоволен исполнением этой «центральной» роли), Шарлоттой (комическое начало в пьесе, которым Чехов так дорожил, делало роль гувернантки-фокусницы «важной») и Раневской (см. упрек Немировичу-Данченко в письме от 2 ноября 1903 г.). Правда, некоторыми переменами в ролях Чехов остался доволен (особенно Москвиным: «выйдет великолепный Епиходов» — Немировичу-Данченко, 2 ноября 1903 г.). На репетициях Москвин очень понравился Чехову: «Я же именно такого и хотел написать. Это чудесно, послушайте!...» — записал его слова Станиславский, добавив от себя: «Помнится, что Чехов дописал роль в тех контурах, которые создавались у Москвина».
Недовольство Чехова многими исполнителями — не только Леонидовым, но и теми, кого он сам предлагал: Халютиной, Александровым, Артемом — омрачало его настроение на репетициях. И на премьере, как писал Чехов Ф. Д. Батюшкову 19 января 1904 г., актеры играли «растерянно и не ярко».
Второе расхождение с театром тоже началось до репетиций — в связи с откликами театра на посланную рукопись. В откликах были моменты, насторожившие Чехова. Первой прочитала пьесу Книппер, получив ее 18 октября 1903 г., и в телеграмме писала: «Дивная пьеса. Читала упоением, слезами». На следующий день — в письме: «Я с жадностью глотала ее. В 4-м акте зарыдала <...> Очень драматичен 4-й акт <...> Вся драма какая-то для тебя непривычно крепкая, сильная, ясная <...> А вообще ты такой писатель, что сразу никогда всего не охватишь, так все глубоко и сильно» (Книппер-Чехова, ч. 1, стр. 304—305). 18-го же состоялось чтение пьесы перед частью труппы Немировичем-Данченко, после чего он отправил Чехову большую телеграмму; в ней говорилось: «Мое личное первое впечатление — как сценическое произведение, может быть, больше пьеса, чем все предыдущие. Сюжет ясен и прочен. В целом пьеса гармонична. Гармонию немного нарушает тягучесть второго акта. Лица новы, чрезвычайно интересны и дают артистам трудное для выполнения, но богатое содержание». Далее, похвалив всех героев и лишь отметив, что «слабее» Трофимов, Немирович-Данченко писал о композиционно-жанровых особенностях пьесы: «Самый замечательный акт по настроению, по драматичности и жестокой смелости последний, по грации и легкости превосходен первый. Новь в твоем творчестве — яркий, сочный и простой драматизм. Прежде был преимущественно лирик, теперь истинная драма <...> не нравятся некоторые грубости деталей, есть излишества в слезах. С общественной точки зрения основная тема не нова, но взята ново, поэтично и оригинально» (Ежегодник МХТ, стр. 161—162). О впечатлении Станиславского, прочитавшего пьесу 19 октября, Книппер сообщала: «Конст. Серг., можно сказать, обезумел от пьесы. Первый акт, говорит, читал, как комедию, второй сильно захватил, в третьем я потел, а в четвертом ревел сплошь» (Книппер-Чехова, ч. 1, стр. 307). В телеграмме от 20 октября 1903 г. Станиславский пьесу также назвал лучшей из всех написанных Чеховым, а автора — гениальным; в телеграмме от 21 октября он сообщил о единодушном успехе пьесы при чтении всей труппе, с деталью: «Плакали в последнем акте». В подробном письме от 22 октября он писал Чехову: «Это не комедия, не фарс, как Вы писали <имелось в виду письмо Чехова М. П. Лилиной от 15 сентября 1903 г. — см. выше>, — это трагедия, какой бы исход к лучшей жизни Вы ни открывали в последнем акте <...> При первом чтении меня смутило одно обстоятельство: я сразу был захвачен и зажил пьесой. Этого не было ни с „Чайкой“, ни с „Тремя сестрами“. Я привык к смутным впечатлениям от первого чтения Ваших пьес. Вот почему я боялся, что при вторичном чтении пьеса не захватит меня. Куда тут!! Я плакал, как женщина, хотел, но не мог сдержать<ся>. Слышу, как Вы говорите: „Позвольте, да ведь это же фарс...“ Нет, для простого человека это трагедия» (Станиславский, т. 7, стр. 265—266). Когда немного стихло возбуждение после чтений, М. П. Лилина писала Чехову: «Когда читали пьесу, многие плакали, даже мужчины; мне она показалась жизнерадостной <...>, а сегодня, гуляя, я услыхала осенний шум деревьев, вспомнила „Чайку“, потом „Вишневый сад“, и почему-то мне представилось, что „Вишневый сад“ не пьеса, а музыкальное произведение, симфония. И играть эту пьесу надо особенно правдиво, но без реальных грубостей...» (11 ноября 1903 г. — Ежегодник МХТ, стр. 238). В ноябре писал и А. Л. Вишневский: «Это не пьеса, а самые дорогие кружева, название которых я забыл. Но по исполнению, по-моему, это самая трудная из всех Ваших пьес. Так по крайней мере мне кажется» (ГБЛ).
Все эти отзывы, исходившие из театра, с одной стороны, отражали понимание обобщающей силы новой пьесы (точнее всего высказанное М. П. Лилиной), с другой же стороны, свидетельствовали о неожиданном для Чехова впечатлении, которое произвела его пьеса — как тяжелая драма (даже трагедия!) русской жизни. Свое удивление он выразил впервые уже в письме Немировичу-Данченко от 23 октября, подчеркивая, что ремарки «сквозь слезы» — показывают лишь настроение лиц, а не слезы в буквальном смысле.
Репетиции, на которые Чехов приехал в декабре 1903 г., таким образом, не удовлетворяли его ни основным актерским составом, ни общей трактовкой, он стал нервничать и перестал на них ходить (см. Из прошлого, стр. 177; «„Вишневый сад“ в Московском Художественном театре», 1929 г. — в кн.: Вл. И. Немирович-Данченко. Статьи. Речи. Беседы. Письма. М., 1952, стр. 105).
О состоянии Чехова перед премьерой вспоминал в письме к нему через несколько месяцев А. И. Куприн, бывший 15—16 января в Москве (он собирался писать рецензию на спектакль, но накануне уехал по неотложным делам): «Видел Вас расстроенным, взволнованным, скучным — измученным постановкой „Вишневого сада“. Ольга Леонардовна, которой, по ее словам, приходилось в это время быть буфером между автором и режиссером, тоже находилась не в очень приятном расположении» (май 1904 г. — ЛН, т. 68, стр. 394).
26 декабря 1903 г. Станиславский откровенно писал В. В. Котляревской о репетициях «Вишневого сада»: «Он пока не цветет. Только что появились было цветы, приехал автор и спутал нас всех. Цветы опали, а теперь появляются только новые почки <...> Только когда сбуду эту постановку, почувствую себя человеком» (Станиславский, т. 7, стр. 277).
Спектакль на первых порах не удовлетворял ни автора, ни театр. Чехов резко отозвался о спектакле в письме к Книппер 10 апреля 1904 г.: «Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно моей пьесы. Прости, но я уверяю тебя. Имею тут в виду не одну только декорацию второго акта, такую ужасную, и не одну Халютину, которая сменилась Адурской, делающей то же самое и не делающей решительно ничего из того, что у меня написано».
Тем не менее Чехов шел навстречу требованиям режиссеров, связанным с чисто сценическими условиями, и внес в текст пьесы ряд изменений после репетиций и премьеры. Особенно это коснулось II действия: он отбросил конец действия с разговором Шарлотты и Фирса (перенеся часть рассказа Шарлотты о своем детстве в начало), вставил романс Епиходова и т. д.
Впоследствии Немирович-Данченко признал правоту Чехова: «... было просто недопонимание Чехова, недопонимание его тонкого письма, недопонимание его необычайно нежных очертаний... Чехов оттачивал свой реализм до символа, а уловить эту нежную ткань произведения Чехова театру долго не удавалось; может быть театр брал его слишком грубыми руками...» (Вл. И. Немирович-Данченко. Указ. соч., стр. 107).
6
17 января на премьере «Вишневого сада», в антракте после 3-го акта, состоялось чествование Чехова в связи с 25-летием его литературной деятельности. «В зале была налицо вся литературная, артистическая Москва», — сообщалось в «Русском листке» 18 января (№ 17). Чехова приветствовали: Вл. И. Немирович-Данченко от имени Художественного театра; Г. Н. Федотова, Е. Н. Никулина, О. А. Правдин и А. Н. Кондратьев — от Малого театра; А. Н. Веселовский, В. А. Гольцев и В. В. Каллаш — от Общества любителей российской словесности; С. А. Иванцов — от Литературно-Художественного кружка; В. А. Гольцев — от «Русской мысли»; Д. И. Тихомиров — от «Детского чтения» и «Педагогического листка»; А. П. Лукин — от «Новостей дня»; И. Д. Новик — от «Курьера»» (см. Записки ГБЛ, вып. VIII, стр. 86—87; «Русский листок», 1904, 18 января, № 17).
В театре в этот вечер были С. В. Рахманинов (С. В. Рахманинов. Письма. М., 1955, стр. 231), В. Я. Брюсов, Андрей Белый вместе с Н. И. Петровской («Литературное наследство», т. 85. М., 1976, стр. 780), Д. В. Философов (Д. В. Философов. Старое и новое. М., 1912, стр. 229), А. М. Горький, В. С. Миролюбов, Ф. И. Шаляпин (Летопись, стр. 789) и др.
Не только общая трактовка и исполнение многих ролей, но и юбилейные речи, которые Чехов так не любил, и волнение актеров, знавших о тяжелом состоянии его здоровья, — все это наложило на спектакль невеселый отпечаток.
Тем не менее уже первые зрители сумели оценить и поэтический дух чеховского произведения, и его светлые, утверждающие интонации. Художник М. В. Нестеров назвал в эти дни «Вишневый сад» пьесой «трогательной», «благоухающей» (М. В. Нестеров — А. А. Турыгину, 22 января 1904 г. — в кн.: М. В. Нестеров. Из писем. М., 1968, стр. 170). 7 февраля писательница и переводчица С. Н. Шиль писала Чехову, что сквозь «досадно-неудовлетворительную» игру публика видела жизнь, которую он «сотворил» — «глубокую, с такими необозримыми далями, такую благоуханную, тонкую, музыкально-прекрасную» (ГБЛ).
На гастролях в Петербурге (29 марта — 29 апреля 1904 г.), где «Вишневый сад» шел 14 раз, начиная с 1 апреля, спектакль продолжал совершенствоваться, и 2 апреля Немирович-Данченко телеграфировал Чехову: «С тех пор как занимаюсь театром, не помню, чтобы публика так реагировала на малейшую подробность драмы, жанра, психологии, как сегодня. Общий тон исполнения великолепен по спокойствию, отчетливости, талантливости. Успех в смысле всеобщего восхищения огромный и больше, чем на какой-нибудь из твоих пьес. Что в этом успехе отнесут автору, что театру — не разберу еще. Очень звали автора. Общее настроение за кулисами покойное, счастливое и было бы полным, если бы не волнующие всех события на Востоке. Обнимаю тебя. Немирович-Данченко» (Ежегодник МХТ, стр. 168). «Успех в зале, в публике огромный, куда больше московского. Играли хорошо, легко, концертно», — писала в тот же день О. Л. Книппер. — <...> И несмотря на ужаснейшее настроение общества, все же „Вишневый сад“ имел огромный успех» (в эти дни пришла весть о гибели адмирала Макарова и больших потерях русского флота в ходе русско-японской войны); 3 апреля: «...Кругом все говорят об успехе „Вишневого сада“, о тебе, все полно тобой. Сегодня Конст. Серг. посылает тебе все рецензии, я очень рада, что он взял это на себя. Влад. Ив. ходит довольный, говорит, что такого успеха ни одна наша пьеса не имела в Петербурге» (Книппер-Чехова, ч. 1, стр. 363—364). «Отклик в обществе громкий: заставили думать многих», — подтверждал эти впечатления А. В. Амфитеатров в письме Чехову от 5 апреля 1904 г. (ГБД).
Еще когда пьеса не была написана, В. Ф. Комиссаржевская, собравшаяся открыть свой театр в 1903 г., писала Чехову: «Обещайте мне дать Вашу новую пьесу в мой театр в Петербурге» (январь 1903 г. — «Вера Федоровна Комиссаржевская. Письма актрисы. Воспоминания о ней. Материалы». М. — Л., 1964, стр. 129). Отвечая ей 27 января 1903 г., Чехов в числе причин, по которым он был вынужден ей отказать, назвал главную: «...если я отдаю пьесу в Художественный театр, то, по существующим в этом театре условиям или правилам, пьеса поступает в исключительное распоряжение Художественного тетра как для Москвы, так и для Петербурга — и ничего тут поделать нельзя. Если в 1904 году Художественный театр не поедет в Петербург <...>, то и разговоров быть не может, если пьеса подойдет для Вашего театра, то я отдаю Вам ее с удовольствием». На запрос Чехова в театр О. Л. Книппер отвечала: «Немирович говорит, что никоим образом не давать раньше того, что будет поставлено у нас...» (31 января 1903 г. — Книппер-Чехова, ч. 1, стр. 202). Осенью 1903 г. у Комиссаржевской вновь появилась надежда на получение пьесы (см. ее письмо к Н. Е. Эфросу от 20 октября 1903 г. в кн. «Вера Федоровна Комиссаржевская...». М. — Л., 1964, стр. 143), а в конце года, с появлением слухов о постановке «Вишневого сада» в Александринском театре, она просила Чехова: «Антон Павлович, дорогой, я открываю театр в Петербурге. Я хочу, чтобы открытие его было связано с Вашим именем и потому прошу Вас, дайте мне Ваш „Вишневый сад“, я им открою» (25—27 декабря 1903 г. — там же, стр. 146). Однако петербургские гастроли МХТ в апреле 1904 г. сделали невозможной постановку «Вишневого сада» в театре В. Ф. Комиссаржевской.
Не состоялась в 1904 г. постановка «Вишневого сада» и в Александринском театре, задуманная еще в конце 1903 г.; она была намечена на осень 1904 г., о чем сообщала печать (см. «Театр и искусство», 1904, 15 февраля, № 7) и о чем писал Чехову в марте 1904 г. Н. Е. Эфрос (письмо без даты — ГБЛ). Эта постановка осуществлена была только после смерти Чехова.
От имени группы петербургских актеров 20 мая 1904 г. к Чехову обратился с письмом И. Аржанников (ГБЛ). Он просил разрешения поставить «Вишневый сад» на летних сценах Петербурга, но, очевидно, ответа на просьбу не получил.
В 1904 г. «Вишневый сад» шел, кроме Художественного театра, только на провинциальной сцене. 17 января было днем премьеры «Вишневого сада» также в Харьковском драматическом театре, о чем свидетельствуют заметка в журнале «Театр и искусство» (1904, № 3, стр. 60) и телеграмма, сохранившаяся в архиве Чехова: «Харьковский театр гордится честью Вами ему оказанной, счастлив успехом „Вишневого сада“, благодарит за украшение своего репертуара новым истинно художественным произведением. Слава автору. Александра Дюкова» (опубл.: «Театральная жизнь», 1959, № 23, стр. 21). Спектакль состоялся в бенефис артистки В. Н. Ильнарской, получившей на это разрешение Чехова (там же). Фотографии сцен из спектакля см.: «Театр и искусство», 1904, 15 февраля, № 7; отзыв И. Тавридова — там же, 4 апреля, № 14.
16 ноября 1903 г. к Чехову обратился с просьбой дать ему «Вишневый сад» В. Э. Мейерхольд, возглавлявший тогда «Товарищество Новой драмы» в Херсоне (ЛН, т. 68, стр. 446). Просьба Мейерхольда, повторенная им в двух следующих телеграммах (от 1 и 17 января — там же, стр. 447), была удовлетворена. Чехов выслал ему цензурованный экземпляр пьесы — и спектакль в Херсоне состоялся 8 февраля 1904 г. Мейерхольд играл роль Трофимова. «Вашу пьесу „Вишневый сад“ играем хорошо», — писал он Чехову 8 мая 1904 г. Несмотря на то, что в этом же письме Мейерхольд объявил пьесу Чехова произведением мистическим и абстрактным, сам он поставил «Вишневый сад» в духе чеховских спектаклей МХТ, т. е. как реалистическую пьесу. О спектакле см.: «Театр и искусство», 1904, № 8, стр. 178; Н. Д. Волков. Мейерхольд. Т. I. М., 1929, стр. 174 (отрывки из рецензий); «Илларион Николаевич Певцов. 1879—1934». Л., 1935, стр. 35 (воспоминания И. Н. Певцова, игравшего роль Фирса).
В январе 1904 г. к Чехову с просьбой дать ему «Вишневый сад» обратился П. П. Струйский, актер и антрепренер из Вильны (телеграмма от 23-го и письмо от 27-го). Спектакль состоялся (по отзыву рецензента, пьеса была превращена в «бессмысленное собрание случайных мелочей, не связанных между собой эпизодов» — см. «Театр и искусство», 1904, № 11, 14 марта, стр. 238. Подпись: Авремий).
27 февраля 1904 г. Чехов писал О. Л. Книппер: «А „Вишневый сад“ дается во всех городах по три, по четыре раза, имеет успех, можешь себе представить. Сейчас читал про Ростов-на-Дону, где идет в третий раз». В Ростовском театре «Вишневый сад» в эти дни шел 21, 22 и 24 февраля («Приазовский край», 1904, 24 февраля, № 51). В марте Ростовский театр привез «Вишневый сад» в Таганрог; 4 марта Чехова известил об этом спектакле П. Ф. Иорданов (ГБЛ), а 25 марта В. М. Чехов, двоюродный брат Чехова, писал подробно: «„Вишневый сад“ привлек такую массу публики, какую едва ли когда-либо приходилось вмещать Таганрогскому театру. Были приставные ложи на сцене, в оркестре; в ложах было набито битком, в некоторых помещалось до 15 человек. Вызовам не было конца, — потушили огни, а крик все еще раздавался. Многие ездили в Ростов вторично смотреть» (ГБЛ).
Труппа А. А. Линтварева поставила пьесу в Воронеже («Петербургский дневник театрала», 1904, № 8, стр. 5).
Весной 1904 г. в газетах сообщалось, что труппа московских и харьковских артистов под управлением Э. Ф. Днепровой и В. Н. Ильнарской успешно гастролирует с «Вишневым садом» по городам (Ростов, Екатеринослав и др.) — см. «Биржевые ведомости», 1904, № 129. О постановке пьесы в Ярославском городском театре труппой И. Е. Савинова писала газета «Северный край» (1904, 9 апреля, № 92 и 10 апреля, № 93).
Труппа Дарьяловой из Севастопольского городского театра в апреле приехала с «Вишневым садом» в Ялту, где ставила его по мизансценам Художественного театра (см. письма Чехова к О. Л. Книппер 10, 13 и 15 апреля).
Одна из провинциальных постановок «Вишневого сада» (в Казанском драматическом театре, март 1904 г.) оставила в архиве Чехова документальное свидетельство, характерное для настроения широких демократических масс накануне первой русской революции. Это свидетельство — три письма к Чехову студента 3-го курса естественного отделения Казанского университета Виктора Барановского. В Казани, городе, где еще были свежи воспоминания о студенческих демонстрациях 1899 и 1901 гг., пьеса, судя по этим письмам, звучала не элегически, как в первых спектаклях Художественного театра, а более энергично и воспринималась частью зрителей почти как призыв к уничтожению дворянства. В центре внимания автора писем оказался Петя Трофимов. «Знаете, как только я увидел этого „вечного“ студента, — писал в своем первом письме (19 марта) В. Барановский, — услышал его первые речи, его страстный, смелый, бодрый и уверенный призыв к жизни, к этой живой, новой жизни, не к мертвой, все разлагающей и уничтожающей, призыв к деятельной, энергичной и кипучей работе, к отважной, неустрашимой борьбе, — и дальше до самого конца пьесы, — я не могу передать Вам этого на словах, но я испытал такое наслаждение, такое счастие, такое неизъяснимое, неисчерпаемое блаженство!» (ГБЛ; «Москва», 1960, № 11, стр. 179). И это не было только личной реакцией Барановского на чеховскую пьесу: «подъем духа был громадный, чрезвычайный!», — рассказывал он далее о сияющих, радостных лицах в антрактах, о веселых улыбках зрителей. В конце письма В. Барановский говорил, что намерен написать статью о пьесе. Но в следующем письме, от 20 марта, он отказался от этой мысли, решив, что никакой журнал ее не решится поместить. «А главное, — продолжал он, — я не имею никакого права посягать на Вашу благороднейшую и дорогую для меня личность». Считая, что цензура «дурака сваляла», допустив «Вишневый сад» на сцену, В. Барановский писал: «Вся соль в Лопахине и студенте Трофимове. Вы ставите вопрос, что называется, ребром, прямо, решительно и категорически предлагаете ультиматум в лице этого Лопахина, поднявшегося и сознавшего себя и все окружающие условия жизни, прозревшего и понявшего свою роль во всей этой обстановке. Вопрос этот — тот самый, который ясно сознавал Александр II, когда он в своей речи в Москве накануне освобождения крестьян сказал между прочим: „Лучше освобождение сверху, чем революция снизу“. Вы задаете именно этот вопрос: „Сверху или снизу?“ И решаете его в смысле „снизу“. „Вечный“ студент — это собирательное лицо, это все студенчество. Лопахин и студент — это друзья, они идут рука об руку „к той яркой звезде, которая горит там... вдали...“» (там же). Барановский пытался рассматривать всех действующих лиц как аллегории. Так, об Ане он писал, что «это олицетворение свободы, истины, добра, счастия и благоденствия родины, совесть, нравственная поддержка и оплот, благо России, та самая яркая звезда, к которой неудержимо идет человечество». Возможно, испугавшись перлюстрации, казанский студент во втором письме снизил радостный тон в общей оценке пьесы и в связи с темой конца дворянского класса вставил интонации сожаления и страха перед этим концом: «Вашу пьесу можно назвать страшной, кровавой драмой, которая, не дай бог, если разразится. Как жутко, страшно становится, когда раздаются за сценой глухие удары топора!!. Это ужасно, ужасно! Волос становится дыбом, мороз по коже!..» В конце письма — приписка из перефразированных слов Трофимова, поданных как собственное открытие: «Вишневый сад — это вся Россия». То радуясь, то страшась, автор этих писем высказывал уверенность в близости политического переворота. Предположение, что студент опасался последствий от своей переписки с Чеховым (не только для Чехова, но и для себя), подтверждается тем, что в третьем письме (без даты) он просил «уничтожить» предыдущее письмо (ГБЛ).
С просьбой о разрешении поставить «Вишневый сад» к Чехову обращались также актеры и антрепренеры: Н. Д. Красов (Некрасов) (Тифлисское артистическое общество), 14 октября 1903 г. (опубл.: «Театральная жизнь», 1959, № 23, стр. 21); Д. И. Басманов (Нижний Новгород), 19 ноября 1903 г. (ГБЛ); А. А. Иванов (Иркутск), 25 ноября и 22 декабря 1903 г. (ГБЛ); Сибиряков (Кишинев), 25 января 1904 г. (ГБЛ); М. М. Бородай (Киев), 19 февраля 1904 г. (опубл.: «Театральная жизнь», 1959, № 23, стр. 21; в театре Киевского общества грамотности, для которого просил М. М. Бородай пьесу, спектакль состоялся после смерти Чехова); Соколова (Баку и Воронеж), 27 июня 1904 г. (ГБЛ).
Просили прислать пьесу и устроители любительских спектаклей в благотворительных целях (см., например, письмо Н. А. Ивановой из Вильны от 24 октября 1903 г.). Эти письма хранятся также в архиве Чехова (ГБЛ).
Обращавшихся к нему лиц Чехов либо отсылал к дирекции Художественного театра, располагающей текстом пьесы, либо просил подождать выхода в свет 2-го сборника «Знание», намеченного на конец января 1904 года. В связи с задержкой сборника Чехов просил О. Л. Книппер, которая была в апреле 1904 г. вместе с театром в Петербурге, передать руководителям «Знания», что в провинции «не по чем играть» и что у него пропал сезон «только благодаря отсутствию пьесы» (4 апреля 1904 г.). Опубликованный текст «Вишневого сада» в провинцию попал уже после закрытия сезона 1903—1904 года.
7
С октября 1903 г. начались переговоры М. Горького и К. П. Пятницкого о публикации пьесы во втором сборнике товарищества «Знание». Так как по первому пункту договора с А. Ф. Марксом Чехов до публикации в марксовских изданиях имел право печатать свои новые произведения лишь в «повременных изданиях» или сборниках, имеющих благотворительные цели (о чем Чехов писал 17 октября Горькому, ссылаясь на неустойку в 5.000 рублей за печатный лист, которой Маркс угрожал ему в случае нарушения этого правила), то «Знание», предложив Чехову высокий гонорар — в 1500 р. за лист, — вместе с тем согласилось и на отчисления из прибыли целому ряду обществ, нуждающихся в помощи (Обществу взаимопомощи учителей и учительниц Нижегородской губернии на устройство общежития для детей, Обществу для доставления средств Высшим женским курсам и т. д.), а также Литературному фонду.
Для публикации в «Знании» Горький снял копию с рукописи, посланной Чеховым в Художественный театр; пьесу он слушал в чтении Немировича-Данченко труппе еще 20 октября и, хотя она ему в чтении не понравилась (см.: М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 28. М., 1954, стр. 291), от мысли издавать ее он не отказался.
22 января 1904 г. К. П. Пятницкий сообщал Чехову в коротком письме: «Набор „Вишневого сада“ кончен. Отправляю Вам корректуры заказною бандеролью» (ГБЛ). 9 февраля, уже получив чеховские поправки и успев реализовать их, К. П. Пятницкий послал ему для просмотра исправленную корректуру (а также, по просьбе Чехова, четыре оттиска всех гранок). Когда листы второй книги сборника «Знание» поступили уже частично в брошюровочную и книга должна была выйти в свет, цензура наложила арест на нее из-за повестей Чирикова и Юшкевича; сообщая об этом Чехову в письме от 20 апреля 1904 г., К. П. Пятницкий писал о своих переговорах с цензурой и выражал надежду, что они скоро закончатся (19 апреля он отправил Чехову уже все чистые листы сборника, готовые к выпуску в свет).
Тем не менее переговоры затянулись, и только 29 мая сборник поступил в продажу. Отсылая гонорар Чехову, Пятницкий писал: «Я так благодарен Вам и так рад, что Вы согласились отдать „Вишневый сад“ в сборник „Знания“ <...> Все ждут от Вас новой пьесы» (26 мая — ГБЛ). Радость эта для Пятницкого как издателя «Знания» была связана и с тем, что, кроме Чехова, в сборнике участвовали лишь Чириков, Скиталец, Юшкевич и Куприн с рассказом «Мирное житие», так что «Вишневый сад» был действительно «главным украшением сборника», который должен был привлечь внимание к нему широких читательских кругов (29 мая — ГБЛ). Зная, что А. Ф. Маркс готовит отдельное издание пьесы, Пятницкий просил Чехова задержать это издание до конца года, так как иначе продажа сборника затормозилась бы. При этом он ссылался, посоветовавшись с юристом, на восьмой пункт договора Чехова с А. Ф. Марксом, из которого следовало, что Маркс не должен выпускать в свет произведений, появившихся в других издательствах, без «особого договора» с Чеховым.
Между тем то обстоятельство, что сборник вышел в свет позже, чем предполагалось, никак не повлияло на ход издания пьесы отдельной книжкой. А. Ф. Маркс не посчитался с просьбой Чехова, и 5 июня на обложке журнала «Нива» (1904, № 23) появилось сообщение о «только что» вышедшем отдельном издании «Вишневого сада» ценою в 40 копеек.
Последние дни, проведенные в Москве уже тяжело больным Чеховым, были полны волнений по поводу того, что выход в свет отдельного дешевого издания пьесы повредит издательским интересам «Знания». Телеграммы и письма К. П. Пятницкого, откровенно писавшего Чехову о трудном положении, в котором издательство оказалось по вине Маркса, Чехов продолжал получать и в Баденвейлере, куда он выехал 3 июня. 19 июня, за две недели до смерти, он отвечал Пятницкому, предлагая «Знанию» возместить материальные убытки, связанные с выходом отдельного издания пьесы: «Все, что бы я теперь ни написал Марксу, бесполезно. Я прекращаю с ним всякие сношения, так как считаю себя обманутым довольно мелко и глупо...» (отзыв Горького об этом письме и о решении Чехова порвать с Марксом см. в его письме к Е. П. Пешковой, написанном 7 июля 1904 г., накануне похорон Чехова — Собр. соч. в 30 томах, т. 28, стр. 309).
В прессе, с нетерпением ожидавшей новую пьесу Чехова, заметки о ее содержании появились еще до того, как рукопись была получена в Москве. Ал. Вознесенский заметкой «В Москве» («Одесские новости», 1903, 15 октября, № 6111) открыл серию информационных статей о «Вишневом саде», написанных по слухам. По поводу этой заметки Чехов писал в тот же день Книппер: «В одесских газетах передают содержание моей пьесы. Ничего похожего».
В день первого чтения пьесы труппе Художественного театра, 19 октября 1903 г., в газете «Новости дня» (№ 7315) была помещена заметка о содержании «Вишневого сада», написанная Н. Е. Эфросом (без подписи). Составленная наспех, заметка грешила неточностями, которые возмутили Чехова, тем более, что она стала широко известна благодаря перепечатке в других газетах («Русском курьере», «Одесских новостях», «Крымском курьере» и др.). О своем намерении выступить в «Новостях дня» с самыми первыми сведениями о новой пьесе Чехова Эфрос писал ему еще в июне 1903 года («Я знаю, Вы окончили новую пьесу...», — начинал он, опираясь на слухи, свою просьбу — дать ему краткие сведения о пьесе — см. письмо без даты, ГБЛ). Чехов ответил ему 17 июня, что «даже не начинал пьесы», а отослав рукопись в Москву, сразу же стал опасаться появления заметки Эфроса («Не люблю я ненужных разговоров» — к Книппер, 14 октября 1903 г.). Когда же он прочитал в «Новостях дня», что III действие происходит в гостинице (а не в гостиной, как в пьесе), что Раневская за границей живет с французом, что Лопахин — «сукин сын и проч. и проч.» (Немировичу-Данченко, 23 октября 1903 г.), то возмутился и дал телеграмму Немировичу-Данченко, в которой в резкой форме выражал свое недовольство (не сохранилась).
Не получив поддержки со стороны театра, Чехов попросил М. К. Первухина, редактора «Крымского курьера» (где заметка Эфроса была перепечатана 25 октября), выступить с опровержением пересказа содержания «Вишневого сада» в «Новостях дня» (см. письмо М. К. Первухина Чехову б. д.: «Глубокоуважаемый Антон Павлович! Моя заметка...» — ГБЛ, а также его воспоминания: «Одесский листок», 1904, 6 июля, № 174). Опровержение появилось в «Крымском курьере» 26 октября (№ 273) и было перепечатано в «Южном крае». Тем не менее Немирович-Данченко, недавно уже имевший конфликт с Н. Е. Эфросом по поводу его рецензии на спектакль «Юлий Цезарь» (премьера — 2 октября 1903 г.), посчитал несущественными ошибки Эфроса и подтвердил в печати верность «в общих чертах» передачи им сюжета «Вишневого сада» («Русский курьер», 1903, ноябрь).
В связи с этими спорами А. П. Иващенко, читатель из Киева, писал Чехову, что газеты «донельзя путают» содержание «Вишневого сада», и просил «хоть вкратце» сообщить ему, о чем идет речь в пьесе (7 декабря 1903 г. — ГБЛ). (Недоразумения и путаница в передаче сюжета пьесы продолжались и после того, как она была поставлена в театре; см. письма Чехова к Книппер от 13 и от 18 апреля 1904 г. в связи с рецензиями: К. И. Арабажина — в «Новостях и Биржевой газете», 3 апреля, № 91, и его же письмом Чехову от 6 апреля — ГБЛ; Н. Б. — в «Крымском курьере», 18 апреля, № 87).
«Вишневый сад» до публикации читали не только участники спектакля и издатели пьесы. Близкие к Художественному театру читатели, торопившиеся познакомиться с текстом новой чеховской пьесы, могли получить копию с автографа, изготовленную в театре. Позднее стало возможно чтение корректурных листов, полученных Чеховым из «Знания» и от А. Ф. Маркса. По письму Чехова к Е. А. Телешовой от 23 января 1904 г. и ее ответу (б. д. — ГБЛ) видно, что она собиралась прочитать пьесу по копии из театра, а потом послать ее в Петербург А. А. Стаховичу. Заболевшему в Ялте Л. В. Средину Чехов сам дал одну из корректур; «...получил огромное наслаждение от чтения Вашей прекрасной, тонкой, изящной и глубокой пьесы», — писал Л. В. Средин, выражая свою благодарность (письмо без даты, написано перед отъездом Чехова из Ялты в Москву, состоявшимся 3 мая 1904 г. — ГБЛ).
Знали текст пьесы до ее публикации и некоторые рецензенты (А. Р. Кугель, А. С. Глинка-Волжский, А. В. Амфитеатров и др.). Сохранилась записка В. А. Гольцева от 10 февраля 1904 г.: «Прошу Антона Павловича Чехова вручить посланному рукопись „Вишневого сада“» (ГБЛ).
В провинции пьеса ставилась также по не опубликованному еще тексту.
Основная масса зрителей, не имевшая доступа к тексту пьесы, воспринимала ее как создание коллективного автора — драматурга и театра, преимущественно Московского Художественного, отчасти провинциальных. У тех, кто пьесы не видел и на сцене, мнение о ней складывалось только по рецензиям. Между чеховским творением и читателем, таким образом, стояли не только театральные ее интерпретации, но и десятки критических трактовок этих театральных интерпретаций. При таких посредниках естественно, что понимание пьесы современниками было не только разнообразно, но и противоречиво, даже общее эмоциональное настроение одного и того же спектакля оценивалось иногда неодинаково.
Этому способствовала и сама тема «Вишневого сада», ее социальная и историческая масштабность, раскрывавшаяся по-разному перед зрителями и читателями газет, отличавшимися разными социальными взглядами, психологией восприятия, художественным вкусом и т. д.
На судьбе вишневого сада в пьесе скрещивались интересы уже отживающих свой век дворян, еще крепнущего капиталиста, массы «приживал» и юной Ани. В критике нашло широкое отражение это общее впечатление о пьесе как о произведении, посвященном исторической судьбе России — ее прошлому, настоящему, будущему. Главное внимание критиков было направлено на характер изображения «прошлого» — дворянского уклада жизни.
С впечатлениями, почерпнутыми из газет, — о том, что «Вишневый сад» констатирует действительный процесс разложения русской усадьбы, — с Чеховым делились читатели разных губерний. Врач В. А. Тихонов, безвыездно живший в Рязани, писал ему 24 января 1904 г.: «Пьеса Ваша „Вишневый сад“ для меня вдвойне интересна, так как мне, много вращавшемуся и вращающемуся в этой среде, приходится видеть падение помещичьей жизни, идущее crescendo к худу или добру „деревни“ — еще большой вопрос» (ГБЛ). Но очень грамотный работник ярославской типографии М. Хосидов, тоже на основе газетных рецензий, писал Чехову о том, что в пьесе изображено то «будущее», которое расцветает «на старых обломках» (13 июня 1904 г. — ГБЛ). «Был я недавно на Волхове в одном запущенном старом дворянском гнезде, — сообщал А. И. Куприн в мае 1904 г., еще не видев спектакля, но зная содержание пьесы. — Хозяева разоряются и сами над собой подтрунивают: „у нас „Вишневый сад“!» (ЛН, т. 68, стр. 394). В этом духе рассуждал и читатель И. Кривенко: «Мне жаль своего „Вишневого сада“, жаль прошлое, которое подернуто воспоминаниями детства» (17 апреля 1904 г. — ГБЛ). Аромат подлинности изображаемой в пьесе жизни чувствовали все рецензенты мхатовского спектакля, это был единственный пункт, на котором они сходились полностью, хотя целесообразность самого «подражания жизни» и ставилась некоторыми под сомнение (см. ниже отзывы символистской критики). П. Безобразов («Русь», 20 января, № 19) признавался, что во время спектакля он чувствовал себя в старинной помещичьей усадьбе: в 3-м действии — другая комната, чем в 1-м действии, но чувствуется, что это тот же дом. «Этого нельзя сыграть, это можно только создать», — писал рецензент «Петербургского дневника театрала» (1 февраля, № 5 — подпись: К—в) о своем впечатлении от 2-го действия, декорация которого получила больше всего одобрительных отзывов.
Консервативная печать, встретившая в целом спектакль недружелюбно, выражала особое недовольство изображением в пьесе дворянства как сословия «пассивного, безвольного, не умеющего побеждать обстоятельства и уступающего место предприимчивому кулаку-торговцу» (Homunculus. — «Гражданин», 1904, 22 января, № 7, стр. 11—12). Со сходной оценкой пьесы выступил в «Гражданине» И. И. Колышко (№ 55 — псевдоним Серенький).
Отсутствие в пьесе «указаний на положительные, зиждительные начала жизни» в виде какой-то определенной социальной силы, должным образом противостоящей главным героям, вызвало возмущение автора рецензии на премьеру пьесы, напечатанной под псевдонимом Exter в «Московских ведомостях» (7 февраля, № 38). «Неужели в нашей жизни все так нудно и тоскливо?» — писал рецензент «Русского листка» (21 января, № 20 — псевдоним Энпе), инстинктивно чувствуя в пьесе опасные для существующего строя идейные тенденции. Бывало, однако, что как раз за «решительное отсутствие тенденции» пьеса удостаивалась со стороны той же консервативной критики похвалы, но такой, при которой выхолащивалось ее подлинное историческое содержание, а Чехов провозглашался художником, одинаково равнодушным ко всем своим героям (А. Басаргин. — «Московские ведомости», 24 января, № 24). Или вопреки сложности чеховского отношения к главным героям категорически утверждалось, что «побежденные» жизнью дворяне вызывают больше сочувствия, чем их «победитель» — Лопахин.
Возмущенная подобными отзывами «позорных критиков», поспешивших обвинить Чехова в мрачном изображении жизни, писательница и критик С. Шиль (псевдоним Сергей Орловский) в письме к нему от 7 февраля утверждала, что в пьесе, наоборот, есть «оправдание настоящего и прошедшего и светлое пророчество о будущем...» (ГБЛ).
С оценкой «Вишневого сада», в целом отрицательной, выступили также критики «Нового времени» во время петербургских гастролей (см. ниже отзывы В. П. Буренина, Юр. Беляева, В. В. Розанова).
Радушнее встретила «Вишневый сад» либеральная критика, на долю которой падает наибольшее количество рецензий и статей. Однако оценки ее отличались односторонностью.
Среди критиков, увидевших в пьесе элегическое прощанье с прошлым и идеализацию этого прошлого, рассматривающих ее как поэтическую «отходную» помещичьему землевладению, «драму оскудения дворянства» и т. д., были: П. Безобразов («Русь», 20 января, № 19), В. М. Дорошевич («Русское слово», 1904, 19 января, № 19), Ю. И. Айхенвальд («Русская мысль», № 2. Подпись Ю. А.), Н. Николаев («Театр и искусство», № 9 от 29 февраля), А. Р. Кугель (так и озаглавивший свою рецензию: «Грусть „Вишневого сада“» — «Театр и искусство», 1904, №№ 12 и 13, 21 и 28 марта); М. О. Гершензон («Научное слово», № 3); А. В. Амфитеатров («Русь», 31 марта и 1 апреля, №№ 110 и 111); А. С. Глинка («Журнал для всех», № 5 — псевдоним Волжский) и другие.
При таком понимании пьесы рецензенты и критики обращали особое внимание на глубокое проникновение Чехова в психологию вырождающегося дворянства, пассивного, беспомощного, нежизнеспособного (И. Н. Игнатов в «Русских ведомостях», 19 января, № 19. Подпись И.; В. М. Дорошевич в «Русском слове», 19 января, № 19, и др.).
При обсуждении в печати характеров пьесы возник вопрос, поднятый в печати еще при появлении первой большой пьесы Чехова — «Иванов» (1887—1889; см. том XII Сочинений), — о новых «лишних людях». В этом типе чеховского героя — неприспособленного к жизни, инертного, в целом «ненужного» — критики «Вишневого сада» заметили новую черту — неприспособленность к жизни, граничащую с инфантильностью. «Перед вами гибнут, беспомощно гибнут старые дети <...> Все в жизни застает их врасплох» (В. Дорошевич). При этом мнения критиков разошлись относительно некоторых героев. Одни считали «лишними людьми» не только Раневскую и Гаева, но и Лопахина (А. Кугель, отнесшийся к такому объединению отрицательно; М. О. Гершензон, считавший Лопахина самым неправдоподобным персонажем пьесы; Ю. Айхенвальд, напротив, одобривший тип необычного купца в пьесе; А. С. Глинка (Волжский), прямо назвавший Лопахина, вышедшего «из мужиков» и владеющего «миллионом», «тоже лишним»), но и Трофимова (А. Кугель) и даже простых служащих в имении («Русские ведомости», 19 января, № 19). «Только Чехов мог показать в Ермолае Лопахине не простого кулака, как это показывали в нем другие авторы, — писал Ю. Айхенвальд, — только Чехов мог придать ему все те же облагораживающие черты раздумья и нравственной тревоги...»; однако, отталкиваясь от этого в целом верного рисунка чеховского образа, далее Ю. И. Айхенвальд в своих рассуждениях о Лопахине отождествлял его поведение с поведением всех нерешительных, «недействующих» чеховских героев, чересчур заостряя, таким образом, чеховский замысел.
Другие критики противопоставляли Раневской и Гаеву «деятельного» Лопахина (А. В. Амфитеатров) и «бодрого» Трофимова (А. С. Глинка-Волжский).
Некоторая завуалированность пропагандистской деятельности студента Трофимова, увлекающего своими идеями девушку из дворян (Аню), дала повод нареканиям: «представители молодого поколения» были объявлены многими рецензентами недостаточно энергичными и «бодрыми» («Русские ведомости», № 19 — И.; «Театр и искусство», № 13 от 28 марта — А. Р. Кугель, и др.). Крайне редко деятельность Трофимова, с его «бодрой верой» в светлое будущее, связывалась в рецензиях на спектакль Художественного театра с идеей самой пьесы, утверждающей торжество этого будущего. С такой оценкой Трофимова выступил анонимный рецензент «Русского курьера» (20 января), рассматривающий жизненную позицию Трофимова как пропаганду «знания» и «живого дела» и в этом видевший залог того, что старая, умирающая жизнь сменится новой, только еще рождающейся.
Отдельные второстепенные образы, с их четко выраженной характерностью, как это обычно было и до «Вишневого сада», критика встретила с восторгом. Например, Симеонов-Пищик как исчезающий тип «беспечального российского дворянина» понравился Н. Николаеву («Театр и искусство», № 9 от 29 февраля). Шарлотта была одобрена А. Кугелем (там же, № 12 от 21 марта). Большинство рецензентов спектакля, отмечая великолепную игру Москвина, обращало внимание на необыкновенного конторщика Епиходова — выразительный тип «недотепы».
Среди выступавших в печати лишь немногие не заметили новизны в способе решения конфликта между дворянами и купцом. Как правило, это были критики консервативного толка, писавшие так, словно опасались за судьбу дворянских имений. Лопахин — «предприимчивый кулак-торговец», вытесняющий хозяев из их имения, — таково было мнение Homunculus’a («Гражданин», № 7); как обычный, «избитый сюжет», была рассказана история Раневской и Гаева в рецензии Н. Россовского («Петербургский листок», 1904, 2 апреля, № 90) — история о том, «как и чем доводятся до разорения наши помещики, что доводит их до залога имений, до аукциона их, и кто теперь хозяйничает в них, вандальски разрушив былые сады».
Большинство критиков сразу же заметило в пьесе нетрадиционность столкновения владельцев вишневого сада с купцом. Было бы наивно увидеть смысл пьесы в том. что вот пришел «чумазый» в образе Лопахина и проглотил барское имение непрактичных хозяев — такова была главная мысль автора заметки в «Русском листке» (21 января, № 20 — Энпе). О необычности драматической коллизии в пьесе, в центре которой стоит фигура владелицы погибающего имения — Раневской, писал и Н. Николаев в «Театре и искусстве» (№ 9 от 29 февраля); замечая, что на смену Раневской приходят Лопахин и Трофимов, как олицетворение новых сил (один покупает ее имение, другой завладевает сердцем ее дочери), он подчеркивал, что оба они — не враги Раневской. Поэтому и идея МХТ — «рассмотреть пьесу как неделимое целое, в котором все одинаково достойно внимания», — сама по себе получила одобрение Н. Николаева, но с оговоркой — о том, что в спектакле эта идея «не совсем сформировалась».
Опытные театральные критики, воспитанные на канонах дочеховской драматургии, особенно остро почувствовали в пьесе принципиально новый тип драматургического действия. Часто отмечалось слабое развитие интриги — то как констатация факта, то как указание на недостаток пьесы, и лишь иногда — как понимание ее новаторства. Ю. Айхенвальд, рецензент «Русской мысли» (№ 2 — Ю. А.), был одним из немногих серьезных критиков, принявших в пьесе и спектакле именно нетрадиционное решение драматургического конфликта. В пьесе нет действия, признавал он, но есть в ней высокий талант. Он с сочувствием отметил изображение «неделающих» людей в чеховских пьесах, с которыми и связал «отсутствие действия» в них. Анализируя спектакль «Вишневый сад», он писал, что между всеми героями пьесы «есть какое-то беспроволочное соединение, и во время пауз по сцене точно проносятся на легких крыльях неслышимые слова. Эти люди связаны между собой общим настроением». Поэтому в образе Лопахина Ю. Айхенвальд видел сознательное отступление от типа «обычного» купца — во имя «общего настроения».
С точки зрения развития драматургического действия особенное внимание рецензентов привлекал самый «малоподвижный», по словам Чехова, акт — второй. Рассматривая спектакль как единое гармоническое создание Чехова и МХТ, рецензент «Петербургского дневника театрала» (№ 5 от 1 февраля — К—в) особо остановился на этом акте, «революционно противоречащем элементарным требованиям драматургической архитектоники»; II акт, как он писал, представляет собой «кусочек» самой природы — полчаса, проведенные героями «летом при закате солнца, вдали от усадьбы...»
Критически оценил отход автора «Вишневого сада» от традиционной драматургии А. Р. Кугель. Он считал, что с каждой следующей пьесой Чехов все более «удаляется от истинной драмы как столкновения противоположных душевных складов и социальных интересов» и что в «Вишневом саде» эта «суть» Чехова выражена с определенностью: у него «исчезает, так сказать, окраска групп; стирается, словно при взгляде издалека, различие душевных складов; стушевывается социальный тип». Поэтому и образ Лопахина, в котором чувствовался отход от привычных представлений о социальном типе купца, казался Кугелю «совсем безжизненной и непонятной фигурой». Задуманное Чеховым сочетание в Лопахине чисто купеческого начала с душевной мягкостью и нервностью, некое раздвоение его личности было воспринято им как элементарный промах художника — непоследовательность в поступках героя (переходы от «хамского монолога» к словам «О, скорее бы...», от деловой энергии к нерешительности в отношениях с Варей и т. д.). С своеобразием драматургического действия пьесы, которое сводилось — вместо четкого движения событий — к долгому «ожиданию конца», А. Кугель связывал «ненужные разговоры» в пьесе, близкие к монологам типа «бесед» героев Метерлинка с судьбой («О, сад мой...», «О, природа, дивная...»). Единственной замечательной фигурой в пьесе он считал подлинно комический образ Шарлотты, фокусы которой, по его мнению, оживляли тягостное ожидание торгов, т. е. «конца». Это одобрение одной лишь Шарлотты в рецензии восходило к привычному представлению о внешней динамике как основе драматургического действия.
Статья Кугеля публиковалась в «Театре и искусстве» 21 и 28 марта (она была написана после знакомства с корректурой пьесы, которую Чехов по просьбе Кугеля распорядился ему передать), а 1 апреля он присутствовал на первом спектакле «Вишневого сада» в Петербурге. 2 апреля 1904 г. О. Л. Книппер писала Чехову: «Кугель говорил вчера, что чудесная пьеса, чудесно все играют, но не то, что надо»; и 5 апреля: «Он находит, что мы играем водевиль, а должны играть трагедию, и не поняли Чехова. Вот-с» (Книппер-Чехова, ч. 1, стр. 363 и 365). Таким образом, на петербургских гастролях (во время которых театр ставил только две пьесы: «Юлий Цезарь» Шекспира и «Вишневый сад») поднялся вопрос, волновавший Чехова и прежде: соответствует ли режиссерская трактовка пьесы его замыслу. Но если Чехов считал, что МХТ утяжелил его пьесу и сыграл вместо комедии серьезную драму, то упрек Кугеля, обращенный к театру, имел обратный смысл (поэтому и заключила О. Л. Книппер свои слова Чехову так: «Вот-с»). «Значит, Кугель похвалил пьесу? — откликнулся шуткой Чехов. — Надо бы послать ему ¼ фунта чаю и фунт сахару — это на всякий случай, чтобы задобрить».
Во время петербургских гастролей на «Вишневом саде» скрестились шпаги разных политических группировок. В день приезда театра в Петербург, 26 марта, в «Критических очерках» В. Буренина в «Новом времени» (№ 10079) была высказана мысль, что успех чеховских пьес в Художественном театре — это лишь результат умелой рекламы и эффектных театральных «фокусов». В «рекламировании» «Вишневого сада» Буренин обвинил В. Гольцева как редактора «Русской мысли», в которой пьесе была дана высокая оценка (см. выше — Ю. И. Айхенвальд). Вывод Буренина: Чехов «при всем его беллетристическом таланте является драматургом не только слабым, но почти курьезным, в достаточной мере пустым, вялым, однообразным...»
О петербургских спектаклях МХТ в «Новом времени» писал также Юр. Беляев (3 апреля, № 10087). Сквозь колкие замечания по адресу режиссуры («хваленый ансамбль», большая «одушевленность» у неодушевленных предметов, чем у действующих лиц, и т. д.) и иронические — по поводу отдельных поэтических особенностей пьесы (злоупотребление «излюбленными словечками героев») просвечивала главная мысль рецензии об усталости автора пьесы, повторяющего свои старые приемы. Социальный смысл ее расценивался как мешанина разных сторон русской жизни: «Рухнувший дворянский строй, и какое-то еще не вполне выразившееся маклачество Ермолаев Лопатиных (характерная ошибка рецензента, писавшего отзыв „по слуху“), пришедшее ему на смену, и беспардонное шествие обнаглевшего босяка, и зазнавшееся лакейство, от которого пахнет пачулями и селедкой, — все это значительное и ничтожное, ясное и недосказанное, с ярлыками и без ярлыков наскоро подобрано в жизни, и наскоро снесено и сложено в пьесу, как в аукционный зал» (перепечатано в том же 1904 г. в кн.: Юр.Беляев. Мельпомена. Изд. А. С. Суворина, стр. 213—214).
В последний день петербургских гастролей, 29 апреля, в «Новом времени» (№ 10113) в своих «Маленьких письмах» выступил А. С. Суворин. Он разошелся в оценке пьесы с своими сотрудниками и признал «Вишневый сад» лучшей пьесой Чехова. Упрек в «бездействии» он отводил признанием соответствия его характерам действующих лиц пьесы. «Всё изо дня в день одно и то же, нынче, как вчера. Говорят, наслаждаются природой, изливаются в чувствах, повторяют свои излюбленные словечки, пьют, едят, танцуют — танцуют, так сказать, на вулкане, накачивают себя коньяком, когда гроза разразилась...» Не видя разницы между речами Гаева и Трофимова, он иронически писал о последнем: «Интеллигенция <...> говорит хорошие речи, приглашает на новую жизнь, а у самой нет хороших калош». Подчеркнув, что Чехов «не дворянин по рождению», Суворин писал, что несмотря на это автор «Вишневого сада» «не плюет на дворянскую жизнь», а сознает, что «разрушается нечто важное, разрушается, может быть, по исторической необходимости, но все-таки это трагедия русской жизни, а не комедия и не забава». Противник Художественного театра, Суворин отозвался пренебрежительно о постановке, заметив, что по литературным достоинствам пьеса выше исполнения, и осудив некоторые приемы режиссуры.
Нововременская критика «Вишневого сада» при жизни Чехова завершалась большой статьей В. В. Розанова, написанной в связи с выходом в свет сборника «Знание» («Новое время», 16 июня, № 10161). Обращаясь к истории русского общества и русской литературы, Розанов вводил пьесу в контекст «прекрасной, но бессильной живописи»: «Грустное произведение; но сколько уже их есть в русской литературе, безмерной яркости, силы и красоты. Ударяли они (начиная от „Горя“ Грибоедовского) по русской впечатлительности: и рванется русская душа от стыда за себя (вечный мотив), но рвануться-то ей некуда, солнца нет». В свете этой пессимистической концепции русской жизни и литературы рассматривал Розанов и систему действующих лиц пьесы. Каждый из героев представлялся ему существом, живущим «словно не при своей роли» — и «превосходная фигура Епиходова», и остальные лица: Лопахин (неизвестно, зачем ему богатство), Трофимов (бездействующее лицо, которому Чехов едва ли оправданно поручил монолог замечательной силы об интеллигенции), дворянские персонажи.
В связи с трактовкой пьесы как поэтического воплощения «грусти» Чехова по «поэзии» уходящей дворянской жизни в критике возникла проблема ее жанра. Высказанная К. С. Станиславским еще в период работы театра над пьесой мысль, что это тяжелая драма, а не фарс, нашла продолжение еще в ранних критических высказываниях. «Это комедия по названию, драма по содержанию. Это — поэма», — писал В. М. Дорошевич в «Русском слове». Самым большим достижением художника он считал поэтому 4-й акт, «страшный», «жестокий», и из всей пьесы особенно отметил ее финал — с забытым в заколоченном доме Фирсом. Некоторые прямо называли «Вишневый сад» «пьесой-элегией» (М. О. Гершензон и др.).
Что касается комических эпизодов в пьесе, то они были замечены лишь как тенденция Чехова оживить впечатление тягостности описываемой жизни, лишь как отдельные элементы в поэтике пьесы, а не органическое ее свойство. Кроме А. Кугеля, писавшего о Шарлотте, кроме всех, кто упоминал Епиходова и Симеонова-Пищика, о юморе в пьесе писали: К—в (отметивший, что в «Вишневом саде» «блестки юмора» занимают количественно большее место, чем в других пьесах, — «Петербургский дневник театрала», № 5 от 1 февраля); Юр. Беляев (считавший, что пьеса написана Чеховым «с незначительной примесью чего-то прежнего, беззаботного и смешного, чем он грешил в водевилях», — «Новое время», 3 апреля, № 10087).
9
«Вишневый сад» дал возможность критике снова поставить вопрос о Чехове как классике русской литературы, в первую очередь как о преемнике Тургенева и Толстого. Но речь велась в основном по отдельным частностям, а не по магистральным линиям. К «Обломову» возводился эпизод сватовства Лопахина к Варе (А. Кугель), к «Рудину» — тип Гаева (Ю. Айхенвальд) и т. д.
Впоследствии названная «лебединой песнью» Чехова, пьеса «Вишневый сад» еще при его жизни была воспринята как итог его творчества. В этом отношении характерны неоднократные указания критики на продолжение в ней тем, мотивов и образов предыдущей драматургии Чехова.
А. С. Глинка (Волжский) нашел в пьесе перекличку с «Дядей Ваней» (утешительные слова Ани в конце III действия — финальный монолог Сони), с «Крыжовником», «Невестой», «Тремя сестрами» (речи Трофимова — «человек с молоточком», Саша, финальный монолог Ольги) — «Журнал для всех», № 5. По словам М. О. Гершензона, Чехов в «Вишневом саде» «дал тот же материал, что и раньше, но только еще тоньше, еще изящнее обработанный...» («Научное слово», № 3). В наиболее общей форме эта мысль была высказана Юр. Беляевым, рассматривавшим «Вишневый сад» как «заключительный аккорд всей серии чеховских драм» и делавшим вывод: «Дальше идти в этом направлении некуда» («Новое время», 3 апреля, № 10087).
Преемственная связь «Вишневого сада» с прежним его творчеством вызвала резко отрицательную оценку революционно настроенных кругов. Горький, уже хлопотавший о публикации пьесы в «Знании», писал К. П. Пятницкому 21 или 22 октября 1903 г., побывав на ее чтении в Художественном театре: «... в чтении она не производит впечатления крупной вещи. Нового — ни слова. Всё — настроения, идеи — если можно говорить о них — лица, — все это уже было в его пьесах. Конечно — красиво и — разумеется — со сцены повеет на публику зеленой тоской. А о чем тоска — не знаю» (Собр. соч. в тридцати томах, т. 28. М., 1954, с. 291).
С этой оценкой с первого взгляда не вяжется фраза, сказанная Горьким самому Чехову в присутствии журналиста В. Тройнова в дни репетиций «Вишневого сада»: «Теперь, я уверен, ваша следующая пьеса будет революционная» (В. Тройнов. Московские встречи. — «Литературная газета», 1938, 30 марта, № 18; его же. Встречи в Москве. Из воспоминаний. — «Литература и искусство», 1944, 15 июля, № 29). Однако это было желание видеть Чехова иным, чем он был как автор «Вишневого сада» (ср. горьковскую характеристику действующих лиц пьесы, не исключая и «дрянненького студента Трофимова», как героев пассивных, много говорящих, но ничего не делающих и ненужных. — «А. П. Чехов. Отрывки из воспоминаний». — «Нижегородский сборник». Изд. т-ва «Знание», СПб., 1905, стр. 15).
Символисты, обращавшиеся неоднократно к Чехову с просьбой сотрудничать в их изданиях (см., например, письма Д. С. Мережковского и С. П. Дягилева в кн.: Из архива А. П. Чехова. М., 1960, с. 206—220), были огорчены тем, что Чехов дал «Вишневый сад» в сборник «Знание». 22 ноября 1903 г. С. П. Дягилев писал Чехову: «Зачем не отдали нам Ваш „Вишневый сад“, а вместо того „огоркили“ себя? Мы бы постарались издать его, как следует быть напечатанным такому произведению. Ведь в наше время разучились „любить книгу“, а мы относимся со сладострастием к каждой запятой» (там же, стр. 216). Но это не было, как известно, просто желание заполучить в авторы крупного художника России: предполагалось, что Чехов возьмет на себя руководство беллетристическим отделом «Мира искусства». Знакомство с уже поставленной на сцене пьесой подтвердило возможность связать ее с требованиями символистского искусства. Однако уже со дня премьеры «Вишневого сада» наметилось резкое расхождение в понимании пьесы Чехова символистами старшего и младшего поколений. 17 января в Художественном театре был и «старший» символист Брюсов, и А. Белый, принадлежавший к символистам младшего поколения.
У Брюсова, давшего уже издателям петербургского органа символистов «Новый путь» обещание написать рецензию на спектакль, сложилось резко отрицательное мнение и о чеховской пьесе, и о ее постановке в МХТ. Свое мнение он высказал в рецензии, работу над которой, однако, не довел до конца (см. ЛН, т. 85, стр. 195—199).
На брюсовской оценке «Вишневого сада» сказалось, кроме его непосредственного впечатления от пьесы, общее неприятие символистами искусства Художественного театра, во-первых, и, во-вторых, их враждебное отношение к деятельности товарищества «Знание», где печаталась пьеса. Брюсов увидел в «Вишневом саде» адекватное выражение той формы реализма, которую он в Художественном театре и в творчестве «знаньевцев» тогда отождествлял с натурализмом.
Непримиримость позиции Брюсова, в то время бывшего лидером символизма, ко всему, что было «похоже» на действительную жизнь, привела к тому, что он не признал за пьесой ни одного существенного достоинства, за исключением чисто формального — совершенства языка, композиции (но и в последнем случае ядовито отмечал «банальность» драматургических приемов Чехова, восходящих, по его мнению, к мелодраматическим эффектам французской драматургии: вынесение за сцену острых событий, контраст между внешним весельем и трагическим внутренним настроением героев). При всем этом единственной драматургически сильной сценой в пьесе он признавал появление Лопахина в III действии, к которому относилось обвинение в устарелости приемов — одно из противоречий в рецензии, свидетельствующее о том, как трудно давался Брюсову заданный отзыв о Чехове — «без улыбок» автору пьесы (З. Гиппиус — В. Брюсову, 23 января 1904 г. — ГБЛ, ф. 386, 82. 37).
По мнению Брюсова, пьеса Чехова была чужда не только символизму, она не имела ничего общего с искусством и классиков-реалистов, так как была слишком рационалистической, слишком «искусной», «сделанной».
Прямой противоположностью этому пониманию последней пьесы Чехова была трактовка ее А. Белым, которому Брюсов предоставил возможность высказаться на страницах своих «Весов» (1904, № 2). А. Белый выступил с новой характеристикой символизма — как широкого художественного направления, которое не отрицает достижений реализма. «Чехов — художник-реалист. Из этого не вытекает отсутствие у него символов», — писал он, сразу же признавая Чехова «своим» среди символистов. При этом Белый опирался на третий акт пьесы, иронически оцененный Брюсовым: «В третьем действии „Вишневого сада“ как бы кристаллизованы приемы Чехова: в передней комнате происходит семейная драма, а в задней, освещенной свечами, исступленно пляшут маски ужаса <...> Вот пляшут они, манерничая, когда свершилось семейное несчастие». Называя Чехова реалистом, Белый видел в нем символиста: по его утверждению, Чехов раздвигал в своих произведениях «складки жизни, и то, что издали кажется теневыми складками, оказывается пролетом в Вечность». В целом А. Белый считал пьесу Чехова мистическим произведением, не понятым театром — в отличие от Брюсова, отождествлявшего искусство театра с искусством автора «Вишневого сада» (стр. 46, 48).
«Новый путь», оставшийся без обещанной Брюсовым рецензии на премьеру «Вишневого сада», выступил с целой подборкой материалов о Чехове (№№ 2—5). Главой «Вишневые сады» начинались очерки З. Н. Гиппиус, под общим заглавием «Что и как» в майской книжке журнала. В ее оценке спектакля было много сходного с мыслями, высказанными в недописанной статье Брюсова: то же неприятие искусства Художественного театра, будто бы только копирующего жизнь, то же признание художественного совершенства чеховской пьесы под знаком «искусности», с которой Чехов стал «делать» свои пьесы и которая отличает его от великих мастеров русской литературы. Но творчество Чехова Гиппиус ставила выше искусства МХТ — и этим ее позиция отличалась от брюсовской и сближалась с тем противопоставлением «Вишневого сада» как литературного произведения спектаклю МХТ, которое было характерно для А. Белого (названная выше статья) и молодого Мейерхольда, смотревшего мхатовский спектакль уже после того, как он поставил пьесу на сцене «Товарищества Новой драмы» в Херсоне. Он писал Чехову 8 мая 1904 г.: «Мне не совсем нравится исполнение этой пьесы в Москве. В общем». Считая, что МХТ как театр, вызванный к жизни гением Чехова, в «Вишневом саде» потерял к нему ключ, найденный когда-то, Мейерхольд далее писал: «Ваша пьеса абстрактна, как симфония Чайковского. И режиссер должен уловить ее слухом прежде всего. В третьем акте на фоне глупого „топотанья“ — вот это „топотанье“ нужно услышать — незаметно для людей входит Ужас.
Вишневый сад продан. Танцуют. „Продан“. Танцуют. И так до конца. Когда читаешь пьесу, третий акт производит такое же впечатление, как тот звон в ушах больного в Вашем рассказе „Тиф“. Зуд какой-то. Веселье, в котором слышны звуки смерти. В этом акте что-то метерлинковское, страшное. Сравнил только потому, что бессилен сказать точнее. Вы несравнимы в Вашем великом творчестве. Когда читаешь пьесы иностранных авторов, Вы стоите оригинальностью своей особняком. И в драме Западу придется учиться у Вас.
В Художественном театре от третьего акта не остается такого впечатления. Фон мало сгущен и мало отдален вместе с тем. Впереди: история с кием, фокусы. И отдельно. Все это не составляет цепи „топотанья“. А между тем ведь все это „танцы“: люди беспечны и не чувствуют беды. В Художественном театре замедлен слишком темп этого акта. Хотели изобразить скуку. Ошибка. Надо изобразить беспечность. Разница. Беспечность активнее. Тогда трагизм акта сконцентрируется» (ЛН, т. 68, стр. 448). В отличие от большинства символистов и в соответствии с своим прежним пониманием Чехова (запись беседы с Чеховым о «Чайке» в 1898 г. впоследствии опубликована под заглавием «Чехов и натурализм на сцене» — «В мире искусств», 1907, №№ 11—12). Мейерхольд в этом своем письме ставил пьесу Чехова значительно выше ее трактовки в театре.
Особое место при жизни Чехова занял среди критиков-символистов Д. В. Философов, выступивший на страницах «Петербургской газеты» (1904, 19 января, № 19) под псевдонимом Чацкий. Рассматривая пьесу как поэтизацию «отходящего в историю дворянского уклада», он не удостоил ее особого внимания и сделал вывод о том, что она «не вплела нового лавра в венок писателя» (известная его статья «Липовый чай» появилась после смерти Чехова).
Мнение литературной критики и широкого круга читателей об окончательном, опубликованном тексте «Вишневого сада» сложилось в июне — июле 1904 г., когда оба его издания поступили в продажу. При жизни Чехова оно отразилось в небольшом количестве рецензий на второй сборник товарищества «Знание» или специально на пьесу в этих изданиях («Новое время», 1904, 16 июня, № 10161. — В. В. Розанов; «Русское слово», 1904, 8 июня, № 158. — Старый, псевдоним Г. С. Петрова).
Сохранились свидетельства первых читателей сборника «Знание». Л. Н. Андреев писал 19 июня К. Пятницкому: «...порадовался выходу второго сборника и с наслаждением прочитал „Вишневый сад“» («Вопросы литературы», 1960, № 1, стр. 108). А. В. Амфитеатров в письме Чехову 21 июня писал, что, перечитав пьесу в „Знании“, он опять захотел писать о ней. «При всем ее большом успехе, ни публицистика, ни критика еще не добрались до всей ее прелести и будут открывать в ней одну глубину за другою долго-долго, все более и более в нее впиваясь, любя ее и к ней привыкая. У меня о „Вишневом саде“, кажется, выйдет целая „Записная книжка“...» (ГБЛ).
При жизни Чехова пьеса была переведена на болгарский язык.
13 апреля 1903 г. А. Шольц писал Чехову из Берлина, что хотел бы перевести его «новую пьесу», которая, как он слышал, скоро будет «готова» (ГБЛ). Из Вены с такой же просьбой обращалась К. Браунер (8 марта 1904 г. — ГБЛ), из Парижа — И. Д. Гальперин-Каминский (10 февраля 1904 г. — ГБЛ; «Памятники культуры. Новые открытия». М., «Наука», 1977, стр. 90), из Праги — Б. Прусик (конец марта 1904 г. — ГБЛ; ЛН, т. 68, стр.258). Обращались за разрешением перевести пьесу певец Г. Г. Корсов — на французский язык (см. письмо О. Л. Книппер от 20 октября 1903 г. — Книппер-Чехова, ч. 1, стр. 307), актриса Н. А. Будкевич — на немецкий (письмо Чехова к Книппер от 4 марта 1904 г.). Чехов скептически относился к возможности довести до иностранных читателей содержание пьесы (см. его письма к О. Л. Книппер от 24 октября 1903 г. и 4 марта 1904 г.). И когда в одной из немецких рецензий на «Вишневый сад» появились слова о том, что Лопахин купил вишневый сад за «90 тысяч» и что «Мария идет в монастырь», он увидел в этом оправдание своих опасений (см. письмо к К. С. Станиславскому от 14 апреля 1904 г.).
Иностранная печать следила и за публикацией пьесы. В «Berliner Tageblatt» (1904, № 133, 13. 3, 2 Beilage) сообщалось, что Горький приобрел пьесу для публикации в «альманахе современной русской литературы».
Особый интерес к объявленной в печати пьесе проявили русские, жившие за границей. Женевская община русских студентов и курсисток изъявила желание поставить пьесу на родном языке (об этом Чехову писала москвичка Янина Берсон 2 ноября 1903 г. — ГБЛ). Из Женевы писала также О. Р. Васильева: «Я сейчас немного окунулась в Ваш „Вишневый сад“ и меня так захватило <...> Когда это будет возможно, не забудьте, прошу Вас, прислать мне его» (28 октября 1903 г. — ГБЛ).
Еще до постановки «Вишневого сада» некоторые слова и выражения из него вошли в разговорный язык актеров Художественного театра. О. Л. Книппер писала Чехову в дни распределения ролей, что среди актеров уже вошло в привычку говорить словами Симеонова-Пищика: «Вы подумайте!» и цитировать Епиходова (Книппер-Чехова, ч. 1, стр. 312; ср. стр. 324). В мае 1904 г. А. И. Куприн писал Чехову о пьесе: «Многое из нее входит уже в разговорный язык» (ЛН, т. 68, стр. 394).
Сноски из примечаний
1 В автографе после: томят их. — ремарка: Пауза.
2 Об исправлениях и дополнениях, внесенных Чеховым в текст пьесы, и различиях между печатным текстом и театральной редакцией — см. также в работе: А. И. Ревякин. «Вишневый сад» А. П. Чехова. М., 1960, стр. 43—87.