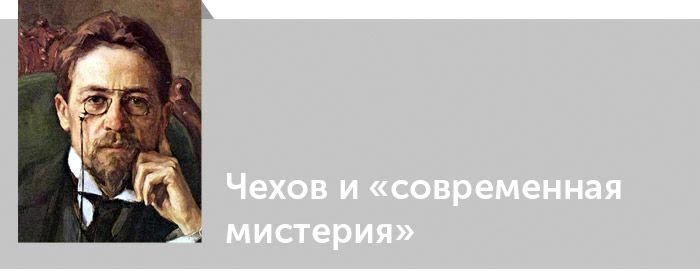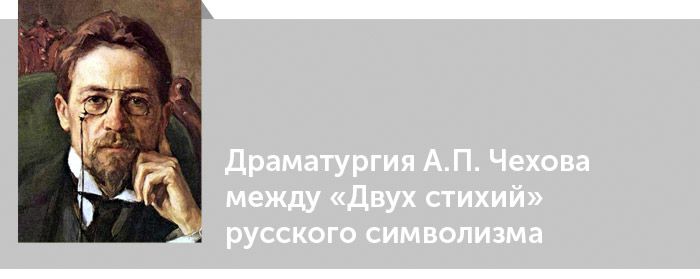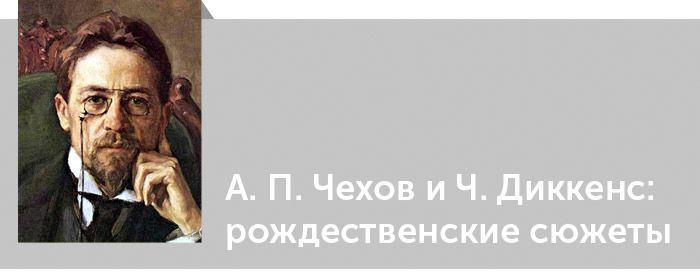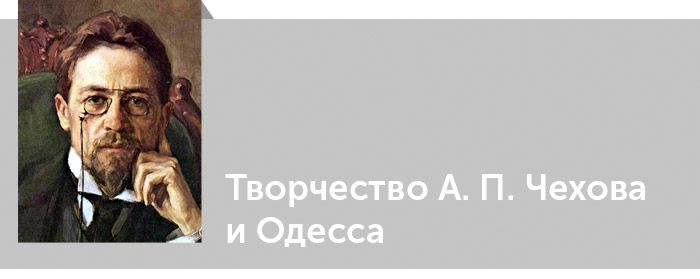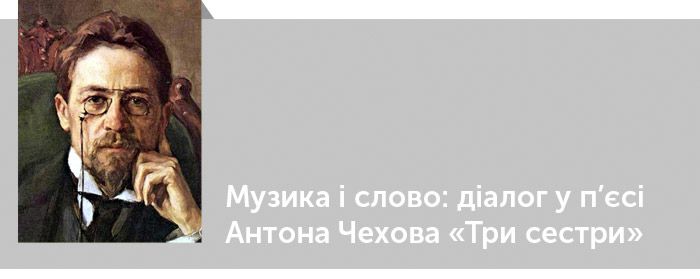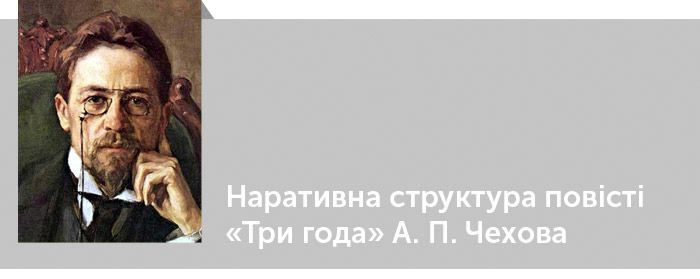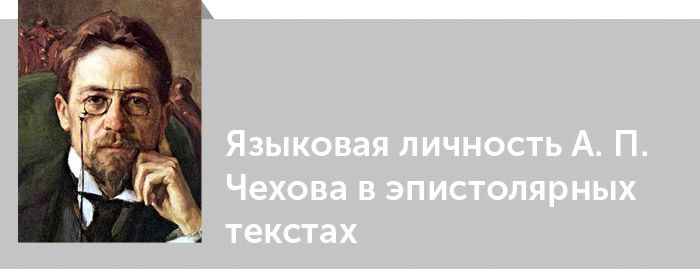«Рассказ неизвестного человека» А. П. Чехова и Петербургский текст русской литературы: проблема интертекстуальности
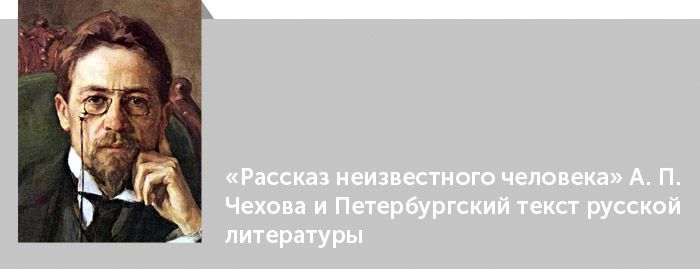
УДК 821.161.1
Т.В. Филат,
доктор филологических наук, профессор,
заведующая кафедрой языковой подготовки
Днепропетровской государственной медицинской академии
Рассматривается проблема итертекстуальных связей между повестью «Рассказ неизвестного человека» Чехова и Петербургским текстом русской литературы. В «Рассказе неизвестного человека» прослеживаются различные литературные ассоциации, трудноразличаемые, восходящие к Пушкину, Достоевскому и Толстому. Они создают атмосферу Петербургского пространства в его общем географическом виде, знакомого читателю благодаря знанию города и его литературной репутации.
Ключевые слова: интертекстуальность, Петербургская тема русской литературы, топос, преемственность, литературные ассоциации, поэтические знаки, культурные архетипы, субъективность, пространственно-темпоральная структура.
Розглядається проблема інтертекстуальних зв’язків між повістю А.П. Чехова «Рассказ неизвестного человека» та Петербурзьким текстом російської літератури. У повісті Чехова простежуються різноманітні літературні асоціації, які важко виокремити, і які походять від Пушкіна, Достоєвського та Толстого. Вони створюють атмосферу Петербурзького простору у його загальному географічному вигляді, знайомому читачеві завдяки знанню міста та його літературної репутації.
Ключові слова: інтертекстуальність, Петербурзька тема російської літератури, топос, спадкоємність, літературні асоціації, поетичні знаки, культурні архетипи, суб’єктивність, просторово-темпоральна структура.
In article the problem of internextual communications between the Chekhov`s story «The Tale of Unknown Person» and the Petersburg text of the Russian literature is considered. In «The Tale of Unknown
Person» various literary associations, which are difficult to define, and which are going back to Pushkin, Dostoevsky and Tolstoy are traced. They create an atmosphere of the Petersburg space in its general geographical type, familiar to the reader owing to knowledge of city and its literary reputation.
Key words: intertextuality, the Petersburg subject matter of the Russian literature, the topos, continuity, literary associations, poetic simbols, cultural archetypes, subjectivity, spatially-temporal structure.
Проблема традиций, «литературных связей» А.П. Чехова отнюдь не нова. В ее решение большой вклад внесли Г.А. Белый [4], М.Л. Семанова [20], Л. Плоткин [17], Б.И. Бурсов [6], С.Е. Шаталов [34], М.П. Громов [8], особенно В.Б. Катаев [13], а также представители молодого поколения чеховедов [27]. Они были выполнены в методологии выявлення традиций, «влияний», пародий, полемики, реминисценций, типологических связей в русле сложившейся методики сравнительного анализа, ориентированного прежде всего на содержательный аспект литературы, устанавливали сходство и различие Чехова с Гоголем, Тургеневым, Л. Толстым, Салтыковым-Щедриным и другими писателями.
В решении проблемы взаимоотношений творчества Чехова с литературой и культурой большую роль сыграл Катаев, начавший в статье 1976 г. полемику с репутацией Чехова как одного из самых свободных от непосредственно книжных влияний писателя [13, с. 131]. Ученый прав, утверждая, что у Чехова нет вторичности, «отраженности» в разрабатываемых сюжетах, нет «литературы по поводу литературы» [13, с. 71]. Однако Катаев сузил проблему до вопроса о «сознательном использовании того или иного литературного материала» [13, с. 71], при этом верно полагая, что Чехову присущ особый «тип литературности» [13, с. 71]. Чеховед увидел ее в «ощущении исчерпанности прежней культуры», отметил «нередко отрицание этой культуры, отказ от выработанных ею эстетических решений, активное новаторство, пародийное отношение к прежней литературе, отсутствие “отраженности”, “литературности”» [13, с. 72]. Исходя из достаточно узкого подхода к категории преемственности как лишь сознательного следования или, наоборот, полемического, пародийного отказа от опыта предшественников, критиковал методологию выявления культурных архетипов в прозе Чехова, предложенную Т. Виннером [34], взяв себе в союзникиИ.К.Чуковского [13, с. 72], хотя сам весьма смело для того времени поставил проблему присутствия мифологем в чеховском творчестве, что вынес в заглавие статьи «Чехов и мифология нового времени». Такой подход нашел поддержку и дальнейшее развитие во многих работах, особенно у А.С. Собенникова [24], Н.Е. Разумовой [18], М. Быковой [7].
В более поздней и обстоятельной книге «Литературные связи Чехова» (1989) Катаев рассмотрел конкретику литературных связей Чехова с русскими и зарубежными писателями, но в основном остался верен теоретическому пониманию проблемы, намеченному в статье 1976 г. Его подход к многосоставной проблеме соотношения творчества Чехова с литературой и культурой прошлого во многом соответствовал методологической ситуации времени написання работ, был ориентирован на выявление «типологических связей» писателя с мировой и русской литературой на основе знания (разного уровня) Чеховым тех или иных авторов. По этому пути пойдет, например, К. Смола, которая, использовав, но не уточнив свое понимание введенного Ю. Кристевой в 1967 г. термина «интертекстуальность», пережившего определенную семантическую зволюцию[1], тоже будет исходить из сознательной ориентации Чехова на того или иного автора [23, с. 15–23]. Другими словами, если воспользоваться современным уровнем разработки проблемы интертекстуальности, Смола имеет в виду интенциональную интертекстуальность [15, с. 318][2], а не имманентную («классическую»), восходящую к теории Кристевой – Барта – Эко[3] С проблемой интертекстуальности (в их понимании) связаны многие статьи сборника «Чеховиана. Чехов и Пушкин» (М., 1998).
В несколько ином ракурсе, «феноменологическом», с использованием понятия коллективного, бессознательного Юнга предлагает решение проблемы С. Сендерович, который пишет о присутствии «символов русской популярной культуры и русского массового сознания» в прозе Чехова, в частности, «георгиевского культурного комплекса» [21, с. 7, 13] как отражения русского религиозного популярного сознания [21, с. 15]. Хотя исследователь претендует на «чтение писателя на его собственном языке», он все-таки предлагает свое глубоко субьективное прочтение прозы Чехова, не избежав опасности, какую таит в себе «рецептивная интертекстуальность», и о чем предупреждал Р. Барт, – насилия над автором: «...рождение читателя приходится оплачивать смертью автора» [2, с. 391]. Прав Собенников, который считает положительным выделение Сендеровичем у Чехова «устойчивых формул русского популярного сознания», глубинных символов русского православного и народного христианства, однако справедливо не соглашается с тем, что «георгиевский миф» – центральний в чеховской прозе, критикует автора за субъективность и «терминологически понятийный симбиоз», который трудно постичь [25, с. 12–13]. Думается, Сендерович решает проблемы не литературной интертекстуальности, а, скорее, глубин подсознания Чехова, но важна и постановка проблемы бессознательного в творчестве писателя.
Если проблема традиций, «литературных связей», осознанной, интенциональной интертекстуальности и поставлена, и постепенно решается в чеховедении, включая разнообразные имена и произведения. то проблема имманентной интертекстуальности прозы Чехова исследуется мало, главным образом, в связи с текстами Пушкина в упомянутом сборнике, но без теоретического заострения.
Повесть «Рассказ неизвестного человека» (1893), которую Сендерович считает «одной из самых загадочных у Чехова» [21, с. 232], представляет двойной интерес для анализа: она относится к числу менее изученных произведений прозы Чехова, и аспект ее литературных связей почти не привлекал внимания, ограничивались констатацией «переклички» с Тургеневым [20], а также с текстами Д. Мережковского и З. Гиппиус [28, с. 736–776]. Между тем в повести есть следы связей с «Петербургским текстом русской литературы» (в дальнейшем ПТРЛ) – понятие, введенное В.Н. Топоровым, хотя она и не попала в сферу его внимания [29, с. 259–399]. К сожалению, обстоятельная, новаторская работа Топорова, которого высоко ценит один из известных немецких специалистов в сфере новых исследовательских методологий Карл Аймермахер [1, с. 92], не получила в условиях господства традиционного литературоведения широкого отклика, влияния и продолжения.
Первым, кто обратил внимание на «Рассказ неизвестного человека» как «петербургскую повесть» был Н.Я. Берковский [5, с. 417], хотя и не исследовал ее пространственнотемпоральную структуру, связанную с тем, что позднее Топоров назовет ПТРЛ (Петербургский текст русской литературы), в возникновении которого, как убедительно показывает ученый, принимали участие и внелитературные, и литературные факторы.
Одним из чеховских вариантов названия повести было точное географическое определение места действия – «В Петербурге», что прямо соотносит произведение с ПТРЛ, куда входили произведения с жанроопределяющим эпитетом в подзаголовке: «Петербургская повесть» («Медный всадник»), «Петербургская поэма» («Двойники»), «рано закрепившееся название гоголевского цикла – “Петербургские повести”, “Петербургские углы” Некрасова, “Петербургские трущобы” Вс. Крестовского и др.» [29, с. 36]. Появление в сознании писателя этого названия свидетельствует о важности топоса Петербурга для семантики всего текста «Рассказа неизвестного человека», его исходной соотнесенности с ПТРЛ русской литературы.
Центральным в «петербургской» повести Чехова выступает четко топонимически, хотя и косвенно, названное уже в первой фразе – экспозиции повести пространство Петербурга: «По причинам, о которых не время теперь говорить подробно, я должен был поступить в лакеи к одному петербургскому чиновнику, по фамилии Орлову» [33, с. 139]. В повести, состоящей из 18 глав, местом действия первых 14 выступает Петербург: в 13 предстает замкнутое, «чужое» для повествователя пространство квартиры Георгия Ивановича Орлова, метонимически представляя Петербург как социальный топос начального и финального места действия повести, акцентируя самим соотношением глав семантический центр художественного пространства «Рассказа неизвестного человека» – топос Петербурга. Его присутствие выделяет эту повесть среди других чеховских повестей, в которых преобладает «образ провинциального городка или дворянской усадьбы» [26, с. 140]. Но не только центральное место действия «Рассказа неизвестного человека» «пространство», которое Сендеровичу кажется отмеченным «странностями» [21, с. 233], позволяет его причислять к «петербургским повестям» столь значимым для русской повести и романа, а и ряд других свойств, деталей, «знаков» сложившегося во взаимодействии реальности и литературы, как показал Топоров, ПТРЛ. Он представляет собой более высокий, обобщающий уровень интертекстуальности, возникшей в процессе формирования его ведущих схем, в ходе развития межтекстовых связей произведений, посвященных Петербургу. Топоров связывает начало этой транстекстуальности[4] с именем Пушкина [29, с. 275][5], заложившего начало как «высокому» («великая столица», «окно в Европу»), так и «низкому» гуманистическому варианту трактовки города (бедность, страдания, горести). Значительный вклад в ПТРЛ внес Гоголь, продолживший пушкинский «гуманистический ракурс», используя количественные гиперболы, подмеченные А. Белым [3, с. 224], создав «гофманиаду» «Невского проспекта» [29, с. 224]. Топоров выделяет в качестве нового этапа ПТРЛ романы Достоевского, «гениального оформителя», объединившего две линии трактовки Петербурга [29, с. 277], затем Григоровича, Крестовского, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Лескова и др. [29, с. 276]. Складывается амбивалентный образ Петербурга как «центра зла и преступления», как центра национального самосознания, но и как места «ненастоящей жизни» и «ненастоящих людей», по выражению Волошина в письме от 18 августа 1908 г. Вячеславу Иванову [29, с. 267]. Все эти схемы, знаки Петербурга своеобразно присутствуют в «Рассказе неизвестного человека» Чехова, который, однако, не является прямым продолжателем гоголевско-достоевской традиции изображения Петербурга. Как верно заметил Берковский, Чехов лишь «тронул» и «завершил» тему Петербурга, а поэтому может «действовать скупыми средствами»: Петербург достаточно обозначился и в русской жизни, и в русской литературе, поэтому можно лишь напомнить и метонимически изобразить в теме Орлова-младшего чиновничий Петербург [5, с. 117–118]. Чехов не столько продолжает традицию Гоголя–Достоевского, сколько опирается на интертекст, на ПТРЛ, рассчитывая на ассоциации читателя, которому, писатель доверяет, полагаясь на его активность. В «Рассказе неизвестного человека» отражается усиление «ассоциативной литературности», которой, по мысли Д.С. Лихачева, отмечена литература конца XIX – начала XX в. [16, с. 226].
Сухих, как представляется, не прав, когда утверждает, что у Чехова нет «петербургского хронотопа» русской литературы Пушкина – Гоголя –Достоевского [26, с. 134]. Он как раз связан с ним интертекстуально, сориентирован на него, но построен пунктирно на ассоциативно-аллюзивных принципах, хотя из-за отсутствия развернутых описаний у Чехова, присущих предшественникам, и может создаться впечатление, которое высказал такой глубокий исследователь, как Сухих. Конечно, у автора «Рассказа неизвестного человека» нет «больших цельных» картин Петербурга» [5, с. 117–118]. Добавим, нет и фантастической его интерпретации, но есть многие приметы ПТРЛ, правда, в чеховской манере лапидарного «называния», намека, «ссылок», разбросаных в повести, выстраивая пунктир ассоциаций, аллюзий, свидетельствующих о глубинных транстекстуальных связях этой повести не с отдельными писателями, а с ПТРЛ в целом. Но, как подчеркнул Лихачев, сопоставляя Петербург Гоголя и Ахматовой, мелкие и случайные детали «всегда наиболее показательны и доказательны» [16, с. 223], именно они и присутствуют в «Рассказе неизвестного человека». Литературный Петербург соотносится в сознании Чехова с реальным городом, в котором он бывал, создавая двойственность «иллюзии правды» в этом наложении на реальные наблюдения или перекличку с ним и неосознанных литературных ассоциаций – присутствие интерстекстуальности ПТРЛ. В «петербургской повести» Чехова художественное пространство, вкрапленное отдельными «точками» в общий повествовательный поток, рассчитано на узнавание, оно скорее некий “знак”, чем образ, но его «инаковость» соотнесена с семиотикой ПТРЛ. Чехов прямо не продолжил традиции Гоголя – Достоевского в изображении «бесчеловечного» [29, с. 260] Петербурга через урбанистический пейзаж, но их тему драматической отчужденности людей жестокой, холодной «северной» столицы он тоже рисует через пейзажные реалии и описание жизни в пространстве дома Орлова-младшего, но в своей манере. Мотив «большого города» у Чехова в большей мере способ, принцип художественного видения, город «не в пейзаже, а в структуре героя и мира» [26, с. 140]. «Рассказ неизвестного человека» ведется от первого лица. Петербург дан глазами, мироощущением и стилем жизни мнимого слуги. Его «кругозор» как широта физического обозрения географически-топонимического пространства Петербурга ограничен социально-профессиональными обязанностями лакея (неслучайно он мечтает попасть на Невский), конспиративностью задания, которое он выполняет. Рассказчик ограничен в перемещениях своим социально-профессиональным ролевым обликом. Отмечая отсутствие широких описаний города в духе Гоголя–Достоевского, исследователи не учитывают специф ики облика повествователя. Чехов, используя принцип показа «глазами героя», психологически мотивирует (в подтексте) отсутствие пространных описаний петербургского пространства Неизвестным тем, что ему, больному, переживающему духовный кризис, враждебно относящемуся к официальному Петербургу, важного представителя которого (старшего Орлова) по заданию он должен наблюдать или убить, не до живописного восприятия северной столицы. Иное мироощущение героя во время пребывания в Италии повлияет на иное – внимательное созерцание-любование внешним миром с его южной природой и культурными ценностями. Отсутствие подробного описання пространства, как и его наличие, служит важным способом психологической характеристики состояния внутренней жизни героя-нарратора.
Петербург хорошо знаком Неизвестному. Он точно называет те улицы, на которые по падает, выполняя поручения хозяина: Знаменская (с. 142), Сергиевская (с. 72), Офицерская (с. 150), магазин Елисеева (с. 148, с. 129), упомянуты (альтернативно) рестораны, где обедают Орлов с Зинаидой Федоровной – «Контана или Донона» (с. 155), ибо Неизвестный точно называет лишь то, чему он был свидетелем. Топонимы фиксируют «географическое» петербургское пространство не Неизвестного, для которого Петербург явно чужд и враждебен, а Орлова: на первой улице живет его возлюбленная, на второй – приятель Пекарский, где Орлов «отсиживается» во время мнимых служебных поездок, на третьей обитает некая Варвара Осиповна, куда высокопоставленный чиновник с приятелями ездит развлекаться. Все эти точки пространства репрезентируют «знаковую» атмосферу петербургского «обмана»: замужняя возлюбленная Орлова живет на Знаменской, на Сергиевской – приятель, соучастник обмана, на Офицерской – сводница или владелица «дома свиданий» (мнимая любовь). Все локусы содержат в подтексте мотив петербургского зла с его фальшью, обманом, разрывом между «быть» и «казаться», вошедших в «Петербургский транстекст». Даже герой-рассказчик в пространстве петербургского дома Орлова выдает себя за покорного лакея. Сендерович прав, увидев в «истории поступления дворянина лакеем из идейных соображений» нечто «достоевскианское» [21, с. 236], что тоже можно рассматривать как косвенную связь повести Чехова с ПТРЛ. Чехов несомненно отказывается от фантастических обобщений Гоголя, но сохраняет в бытовом проявлении «перевертати Невского проспекта», по выражению И.П. Смирнова [22, с. 229], реализуя тему «быть и казаться». «Петербургская чертовщина» Невского проспекта у автора «Рассказа неизвестного человека» бытовизируется, но сохраняет в себе важные «знаки», связи с литературной традицией художественной интерпретации петербургской темы в аспектах, намеченных предшественниками.
Перечисленные топонимы, как и упомянутая Неизвестным Нева во время бегства с Зинаидой Федоровной (с. 195), маркируют петербургское пространство места действия, где центральним выступает обличаемое пространство дома Орлова. Из-за того, что повествование ведется «мотивирующим сознанием», если воспользоваться термином Ж. Женетта [10, с. 131], пространство столицы предстает выборочно, фрагментарно, субьективно (из-за социального положення и умонастроения героя-нарратора), но в деталях и реалиях географической и социальной реальности, в их глубинном смысле, соотносимых с ПТРЛ, порою не магистральных, но входящих в эту транстекстуальность. Так, Чехов избирает в качестве центральной не гуманистическую тему сочувственного изображения жизни мелких чиновников, что Топоров называет «низким» вариантом ПТРЛ [29, с. 276], а метоннмически представляет в пространстве дома Орлова образ жизни высокопоставленных чиновников. Она была описана в «Смерти Ивана Ильича» Л. Толстого. Это – «высшая петербургская бюрократия» по выражению А.Ахматовой, внесшей большой вклад в «Петербургскую сагу», как выразился Лихачев [16, с. 226]. Автор «Рассказа неизвестного человека» включается в ПТРЛ обличения «высокой» его линии вельможно-бюрократического официального Петербурга, подчеркивая эгоизм, цинизм, нравственную пустоту и душевную опустошенность его представителей, постоянно играющих в карты, насмехающихся над любовью, легко обманывающих. В роли «униженного» предстает Неизвестный, но лишь в «ролевой» ситуации слуги, так же, как «униженные» Достоевского, нравственно возвышаясь над «сильными мира сего». Чехов и в этой повести ведет творческий диалог с традицией, сложившейся в ПТРЛ, своеобразно продолжая ее, преображая.
С ПТРЛ повесть Чехова связывает и указание на типичные климатические особенности города в ночном урбанистическом пейзаже XIV главы, где описано бегство из дома Орлова Неизвестного с Зинаидой Федоровной: «влажный ветер хлестал по лицу» (с. 194), «ветер, особенно на Неве, пронизывал до костей» (с. 195). Ветер встречается, по наблюдению Топорова, у многих представителей ПТРЛ, что у Ахматовой и Блока отмечает Смирнов [22, с. 229], Неизвестньїй фиксирует и «мокрый снег» (с. 194), «холодное небо» (с. 195) – приметы, которые выделяет в ПТРЛ и Топоров [29, с. 282, с. 339]. Всякий выход Неизвестного на улицы Петербурга отмечен неблагоприятными природными проявленнями его климата, где постоянно фиксируется снег и ветер: «Холодный ветер щипал мне лицо и руки, захватывало дух» (с. 172); «Было не холодно, но шел крупный снег и дул ветер» (с. 187); «...снег валил на нас хлопьями. и ветер, особенно на Неве, пронизывал до костей» (с. 195). Эти детали подчеркивают, что Петербург – чужое и враждебное герою пространство, отмеченное чертами транстекста: в нем «плохо», «страшно», в нем «страдают» [29, с. 283]. Чехов упоминает не романтическую «белую ночь», а неблагоприятную ветреную, с хлопьями снега петербургскую ночь начала марта (с. 195). Создан петербургский пейзаж как соответствие мироощущению героев, бегущих из дома Орлова в отчаянии и тревоге. Они одиноки в пустынной ночной столице (тоже перекличка с транстекстом), их незащищенность передана одной выразительной предметной деталью – отсутствием защищающего фартука: «В пролетке не было фартука, и снег валил на нас хлопьями, и ветер, особенно на Неве, пронизывал до костей» (с.195). Мысли и чувства Неизвестного перекликаются с бредовым состоянием героя «Невского проспекта»: «Я мельком, в каком-то полубреду, точно засыпая, оглянулся на свою странную, бестолковую жизнь...» (с. 195), хотя, как пишет Лихачев, «у Гоголя бредом в состоянии опьянений опиумом... подчеркивается... фантастичность Петербурга» [16, с. 225]. У Чехова эмоционально-психологическое состояние Неизвестного жизнеподобно мотивируется и психологическим стрессом, который он пережил, и воздействием «реального» ночного Петербурга. Писателю важно сосредоточиться на душевном состоянии героя, а не на живописной описательности внешнего мира, столь «опредмеченного» у Гоголя. В соотнесении враждебной петербургской ночи с жизненной ситуацией, в которой оказались герои, и в мысли об их обреченности скрыта их характеристика как жертв Петербурга – города не только социального, но и природного зла. Эта идея подчеркивается двухчастной структурой повествования, представляющей два «топоса»: Петербург – «северная Венеция» и итальянская Венеция, данных в резком контрасте мрачной, холодной петербургской ночи и прекрасных весенних дней в Венеции (XV глава). Природные особенности и реалии зимнего Петербурга кратко фиксируются точными деталями кульминационной, наиболее подробно соотнесенной с внешним, открытым петербургским пространством XIV главы: это ветер, который «щипал... лицо и руки, захватывало дух» героя, сильный мороз, дымящиеся костры на перекрестках, упомянутые в XVIII главе. Они отмечены Топоровым как типичный признак природы Петербурга [29, с. 288]. Возникает ненавязчивая перекличка январского мороза и мартовских холодов бегства героев; повторение петербургских погодных деталей передает общую «холодную» атмосферу петербургской жизни, «знаком» которой становятся прямые описання, формирующие лейтмотив отношения героев с топосом Петербурга в его природной и социальной семантике, перекликающихся с «Петербургским транстекстом».
Приметы ПТРЛ можно увидеть и в туберкулезе Неизвестного: Топоров приводит данные, показывающие, что северная столица заняла первое место по этому заболеванию [29, с. 264]. Транстекстуальность просвечивается и в ситуации несостоявшегося убийства Орлова-старшего как полемического диалога с «Преступлением и наказанием» Достоевского, который нельзя рассматривать ни как «традицию», ни как «пародию» [31, с. 3–12], а именно как «полемический диалог» с этим «петербургским романом», когда Неизвестный, оказавшись перед евангельской дилеммой – «убить или не убить» – выбирает второе, отказавшись от сопротивления злу насилием.
Можно усмотреть слегка проступающую аллюзионную связь мечтаний Неизвестного о личном счастье (с. 140) с мечтами Пискарева о тихом семейном счастье при всем различии героев и авторского отношения к ним, а в упоминании о девицах с Невского проспекта – аллюзия на «ночную бабочку» из «Невского проспекта». Ситуация самоубийства Зинаиды Федоровны, как полагают, имеет «осторожную перекличку» с «Анной Карениной», хотя нельзя, как это делает Т. Виннер, преувеличивать значение романа Толстого для чеховского творчества как источника «многократно применяемых литературных архетипов в чеховских произведениях» [35, с. 184].
В ПТРЛ сложилась традиция: «На одном полюсе признание Петербурга единственным настоящим (цивилизованным, культурным, европейским, образцовым, даже идеальным) городом России, на другом – свидетельство о том, что нигде человеку не бывает так тяжело, как в Петербурге...» [29, с. 261]. В повести следы первой традиции проступают в сопоставлении Петербурга с Европой – «...Петербург – не Испания, наружность мужчин здесь не имеет большого значення даже в любовных делах и нужна только представительным лакеям и кучерам» (с. 140), более подробно предстает в сопоставлении с Италией, особенно с Венецией, с которой часто сопоставляют Петербург [29, с. 288]. Но есть наблюдения и обобщения Неизвестного об особой породе людей в Петербурге, «которые специально за нимаются тем, что вышучивают каждое явление жизни: они не могут пройти даже мимо голодного или самоубийцы без того, чтобы не сказать пошлости» (с. 149). Это замечание прямо перекликается с традициями обличения в ПТРЛ петербургской элиты, которой присущи цинизм, равнодушие, антигуманность. Тут есть внутреннее совпадение с описанием петербургских нравов Л. Толстым. След второй тенденции в «Рассказе неизвестного человека» выявляется в очень важном для идейного содержания и сюжета повести мотиве бегства из Петербурга Неизвестного и Зинаиды Федоровны (гл. XV–XVII) как попытки вырваться из круга зла северной столицы.
Чехов создает не иллюзорный Петербург с фантастическими смещениями, «превращениями», хотя тема «петербургских тайн» проступает в непроясненности облика Неизвестного, который так и не раскрывает читателю ни своего полного подлинного имени, ни конкретного прошлого террориста, ни даже всех своих «тайн души». Чеховский Петербург обманчиво жизнеподобен, «бытовизирован» и «нравоописателен». Он неявно семиотизирован, насыщен «знаками» – эксплицитными сигналами, указывающими на его связь с «Петербургским текстом».
В «Рассказе неизвестного человека» перекрещиваются различные литературные ассоциации, часто едва различимые, связанные с ПТРЛ от Пушкина до Достоевского и Толстого. Они создают и общую атмосферу петербургского пространства в его географически общих приметах и реалиях, известных читателю и благодаря знанию реального города, и знанию его литературной репутации. Социальный облик, метонимически изображенный в стиле жизни закрытого враждебного и Неизвестному, и Зинаиде Федоровне «недомашнего» локуса дома Орлова-младшего, включаетея в обличительную тематику «Петербургского транстекста». Изображая пространство богатого жилища высокопоставленного чиновника, Чехов вводит тему «жалкой каморки» как признака петербургского жилища бедных [29, с. 294], упоминает о крохотной бедной «лакейской», где есть «окно с темыми портьерами, постель», стол (с. 188).
Чехов не изображает «идеи» Петербурга [26, с. 290] – Невского проспекта, хотя и упоминает ее в «знаковом» значений: герой говорит, что его «тянет на Невский», что в контексте означает стремление Неизвестного вкусить радости жизни: «Я готов был обнять и вместить в свою короткую жизнь все, доступное человеку... Меня тянуло и на Невский, и в поле, и в море – всюду, куда хватало мое воображение» [с. 183]. Названа важная географическая реалия Петербурга – Нева [с. 195]. Но писатель избегает прямых реминисценций, связанных с географическим аспектом ПТРЛ (например, «белых ночей» и т. д.).
«Рассказ неизвестного человека» относится к числу тех произведений, которыми можно дополнить ПТРЛ, очерченный Топоровым, писавшим о необходимости его расширения [29, с. 277]. В повести Петербург при всей краткости и разрозненности «знаковых» примет транстекстуальности предстал в своих «пространственном», «социальном», «жизненно-бытовом» [29, с. 182] аспектах. Эта повесть с ее скрытыми аллюзиями, подтекстом, «знаковостью» – своеобразное связующее звено между этапом Гоголя – Достоевского – Крестовского – Толстого и Андреем Белым[6]. Кажется, что Чехов рассчитывает на читательский опыт, на опору читательского восприятия в сложившейся традиции ПТРЛ, на восприятие явных и скрытых его следов, на «сигналы» его присутствия, бессознательно возникающие в чеховском творческом сознании. Создается впечатление, что Чехов ориентируется на возможность узнавания, на то, что у читателя возникнут ассоциации, подготовленные знанием как реального Петербурга, так и чтением литературных произведений, создавших ПТРЛ. В чеховской повести присутствуют устойчивые поэтические знаки Петербурга в его географических приметах (холод, ветер, мокрый снег), в характеристике высшей чиновничьей бюрократии с ее устойчивыми нравственными чертами. В «описании Петербурга» «автор или вообще не задумывается, совпадает ли он с кем-нибудь», или же вполне сознательно пользуется языком описання, уже сложившимся в Петербургском тексте» [29, с. 261]. Думается, что в «Рассказе неизвестного человека» присутствуют оба эти элемента, хотя первый преобладает. Р. Барт утверждает: «писатель ... может лишь вечно подражать тому, что написано прежде и само писалось не впервые; в его власти только смешивать разые виды письма, сталкивать их друг с другом, не опираясь всецело ни на один из них...» [2, с. 388]. Но интертекстуальность, как доказывается, отнюдь не означает потерю индивидуальности писателем, наоборот, она проявляется именно благодаря авторскому обращению к межтекстовым связям, которые на базе отдельных произведений, творчества отдельных писателей складываются в более крупные интертексты, каким является ПТРЛ.
[1] О ней пишет И. Ильин, отмечая широкое понимание термина у Кристевой как обьективной реализации преемственности в развитии литературы, возникшее под влиянием М. Бахтина («аналог») (добавим, и Ю. Тынянова – теория пародии), затем происходит отождествление текста с интертекстом (Ш.Гривель) и, наконец, сужение «интертекстуальности» до сознательного приема (Бройх, Афазер и др.) [12, с. 224–229], одного из главных в постмодернизме.
[2] Исследовательница выделяет три типа общення с текстами мировой литературы: 1) игровой (пародия, подражание); 2) дискуссия (спор): 3) сходство с претекстом, которые соответствуют трем этапам творчества Чехова, при этом она рассматривает лишь «эволюцию литературных связей Чехова с Гете» [23, с. 16]. Жаль, что Смола не воспользовалась (соглашаясь или полемизируя) с классификацией типов и форм интертекстуальности у Ж. Женетта в книге «Палимпсесты: литература во второй степени» (1982), в которой иредлагаются более многообразные типы и виды межтекстовых связей.
[3] «Интертекст, – полагает Ю. Кристева, – является условием понимания текста, тех кодов и конвенций, в рамках которых он может быть прочитан» [12, с. 225]. Р. Барт писал: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах... Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат» [12, с. 226]. «Я понимаю под интертекстуальным диалогом, – подчеркивал У. Эко, – феномен, при котором в данном тексте эхом отзываются предшествуюшие тексты» (Эко У. Инновация и повторение // Философия эпохи постмодерна. – Минск, 1966. С. 527–73, 60). На такое понимание опирается автор статьи.
[4] Ж. Женетт предложил этот термин для обозначения развития «сквозной» однотематической интертекспуальности [22, с. 338].
[5] Созвучность ситуации пушкинского «На углу маленькой площади» «Рассказу неизвестного человека» была отмечена Л. Цейтлиным [30, с. 340], более подробно раскрыта А.П. Кузичевой [14, с. 53–60], хотя нуждается в углубленном изучении.
[6] Вряд ли права Н.М. Зорская, категорически утверждая: «холодный чиновный Петербург в «Рассказе неизвестного человека» не предвещает того фантасмагонического призрачного городагротеска, который через двадцать лет явится из-под пера Андрея Белого» [11, с. 6]. В семантическом плане и в тенденции семиотизировать реальные приметы Петербурга чеховская повесть и предвещает «Петербург» А. Белого. См.: Генри Питер. Чехов и Андрей Белый (эмблематика, символы, языковое новаторство) // Чехов и «Серебряный век». М., 1996. С. 80–90.
Список использованных источников
1. Аймермахер Карл. Знак. Текст. Культура / Карл Аймермахер. – М.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1997. – 396 с.
2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Ролан Барт. – М.: Прогресс, 1989. – 616 с.
3. Белый А. Мастерство Гоголя: Исследования / Андрей Белый. – М.-Л.: ГИХЛ, 1934. – 294 с.
4. Бялый Г.А. Чехов и «Записки охотника» / Г.А. Бялый // Ученые записки ЛГПИ им. Герцена. – 1948. – Т. 67. – С. 184–186.
5. Берковский Н.Я. Чехов-повествователь и драматург // Берковский Н.Я. Статьи о литературе / Н.Я. Берковский. – М -Л.: Гослитиздат, 1962. – С. 426–451.
6. Бурсов Б.И. Чехов и русский роман / Б.И. Бурсов // Проблемы реализма русской литературы XIX века. – М.-Л.: Наука, 1961. – С. 281–306.
7. Быкова М. Парадоксы мифологического сознания («Культурный герой» в рассказе А.П. Чехова «Черный монах») / М. Быкова // Молодые исследователи Чехова. – Вып. 3. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – С. 80–84.
8. Громов М.П. Скрытые цитаты (Чехов и Достоевский) / М.П. Громов // Чехов и его время. – М.: Наука, 1977. – С. 39–52.
9. Женетт Ж. Введение в архитекст // Женетт Ж. Фигуры: В двух томах / Ж. Женетт. – М.: Издательство имени Сабашниковых, 1998. – Т. 2. – С. 282–340.
10. Женетт Ж. Пространство и язык // Женетт Ж. Работы по поэтике. Фигуры / Ж. Женетт. – М.: Издательство имени Сабашниковых, 1998. – Т. 1. – 470 с.
11. Зорская Н.М. Чехов и «Серебряный век» / Н.М. Зорская // Чеховиана. Чехов и «Серебряный век». – М.: Наука, 1996. – С. 5–14.
12. Ильин И. Интертекстуальность // Ильин И. Постструктурализм. Деконструктурализм. Постмодернизм / И. Ильин. – М.: Интрада, 1996. – С. 224–229.
13. Катаев В.Б. Чехов и мифология нового времени / В.Б. Катаев // Филологические науки. – № 5. – 1976. – С. 71–77; Катаев В.Б. Литературные связи Чехова / В.Б. Катаев. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 261 с.
14. Кузичева А.П. Пушкинские цитаты в произведениях Чехова / А.П. Кузичева // Чеховиана. Чехов и Пушкин. – М.: Наука, 1998. – С. 54–66.
15. Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. – К.: Академія, 1997. – 752 с.
16. Лихачев Д.С. Ахматова и Гоголь / Д.С. Лихачев // Традиция в истории культуры. – М.: Наука, 1978. – С. 223–227.
17. Плоткин Л. К вопросу о Чехове и Тургеневе // Плоткин Л. Литературные очерки и статьи / Л. Плоткин. – Л.: Советский писатель, 1958. – С. 395–412.
18. Разумова Н.Е. Творчество А.П. Чехова: смысл художественного пространства (1880-е гг) / Н.Е. Разумова. – Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 1997. – 522 с.
19. Роскин А. А.П.Чехов. Статьи и очерки / А. Роскин. – М.: ГИХЛ, 1959. – 432 с.
20. Семанова М.Л. Тургенев и Чехов / М.Л. Семанова // Ученые записки ЛГПИ. – 1957. – Т. 134. – С. 177–223; Семанова М.Л. «Рассказ неизвестного человека» Чехова (к вопросу о тургеневских традициях в творчестве Чехова) / М.Л. Семанова // Ученые записки ЛГПИ. – 1958. – Т. 170. – С. 125–134.
21. Сендерович С. Чехов – с глазу на глаз. История одной одержимости А.П. Чехова. Опыт феноменологии творчества / С. Сендерович. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. – 286 с.
22. Смирнов И.П. Поэтические ассоциативные связи «Поэмы без героя» / И.П. Смирнов // Традиция в истории культуры. – М.: Наука, 1978. – С. 228–230.
23. Смола К. Эволюция интертекстуальных связей в творчестве А.П. Чехова / К. Смола // Молодые исследователи Чехова. – Вып. З. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – С. 15–23.
24. Собенников А.С. «Мехеду “есть Бог” и “нет Бога”...» (О религиозно-философских традициях в творчестве А.П. Чехова) / А.С. Собенников. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1997. – 222 с.
25. Собенников А.С. Савелий Сендерович. Чехов – с глазу на глаз: История одной одержимости А.П. Чехова / А.С. Собенников // Чеховский вестник. – № 1. – М.: Наука, 1997. – 288 с.
26. Сухих И.Н. Проблемы пэтики А.П. Чехова / И.Н. Сухих. – Л.: Изд-во Ленингр. гос. унта, 1987. – 180 с.
27. См.: Молодые исследователи Чехова. Сборник научных трудов. – Вып. 3. –М.: Издво МГУ, 1998. – 512 с.
28. Тоlstaja-Sedal E. Венеция, музыкант, разговор о смерти: Чехов и Мережковский (к интерпретации «Рассказа неизвестного человека») / E. Тоlstaja-Sedal // Кlude R.-D. Anton P. Checov. Werk und Wirkung. – Wiesbaden, 1990. – S. 736–776.
29. Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст» русской литературы (Введение в тему). Петербургские тексты и петербургские мифы (Заметки из серии) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Избранное / В.Н. Топоров. – М.: Издательская группа «Прогресс» – «Культура», 1995. – С. 259–399.
30. Цейтлин А. Мастерство Пушкина / А. Цейтлин. – М.: Советский писатель, 1938. – 363 с.
31. Цилевич Л.М. Автор и повествователь в чеховских рассказах / Л.М. Цилевич // Чеховские чтения в Ялте. – Чехов: Взгляд из 1980-х. – М.: ИМЛИ, 1990. – С. 50–61.
32. Чехов А.П. Рассказ неизвестного человека / А.П. Чехов // Чехов А.П. Собрание сочинений и писем: В 30 т. – М.: АН СССР Ин-т мир. лит. им. А.М. Горького, 1982. – Т 8. – С. 139– 213. Дальнейшие ссылки на текст повести даются по этому изданию с указанием страницы.
33. Шаталов С.Е. Черты поэтики (Чехов и Тургенев) // В творческой лаборатории Чехова. – М.: Наука, 1974. – С. 296–309.
34. Winner Th. Chekhov and his Prose, Renehart and Winston / Th. Winner. – New York: Holt, 1961. – 263 р.
35. Winner Th. Chekhov and his Prose / Th. Winner. – New York: Holt, 1966. – 301 р.
Одержано 12.09.2013.