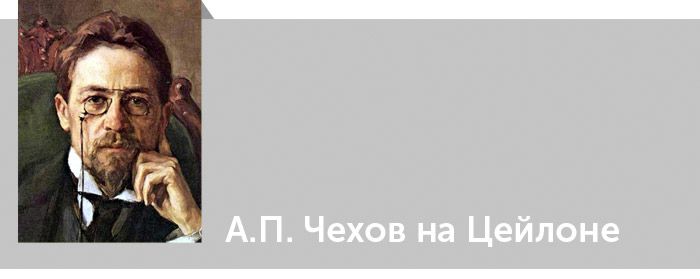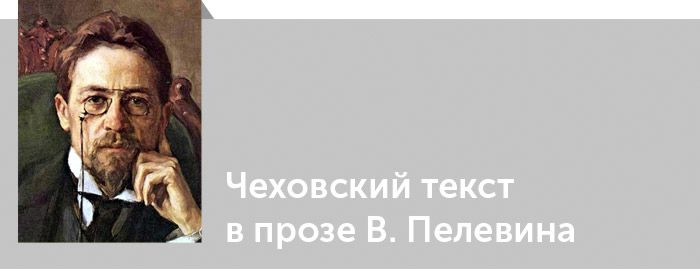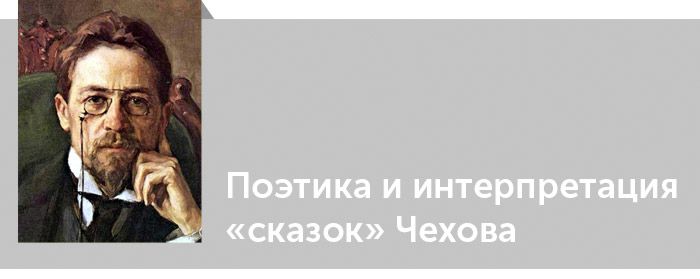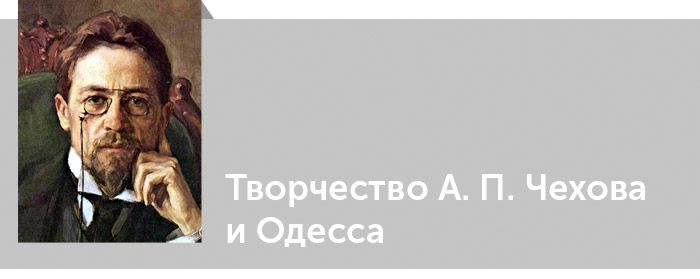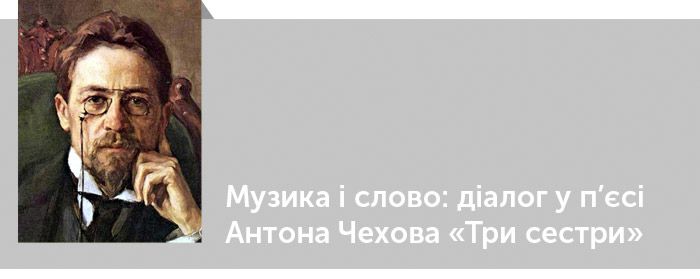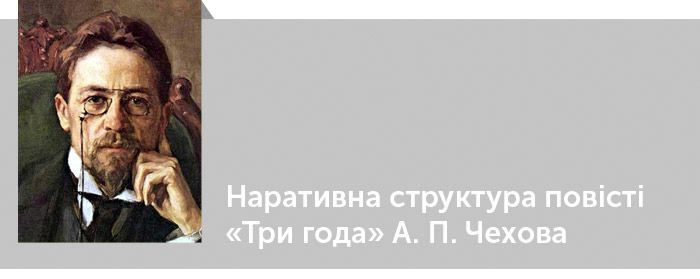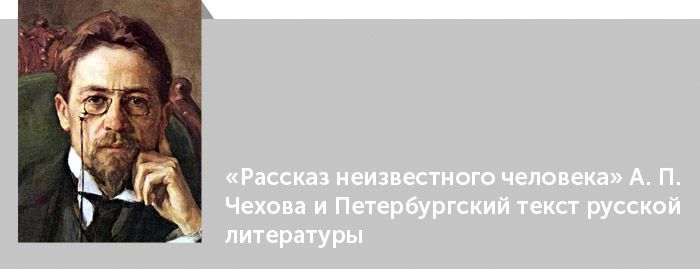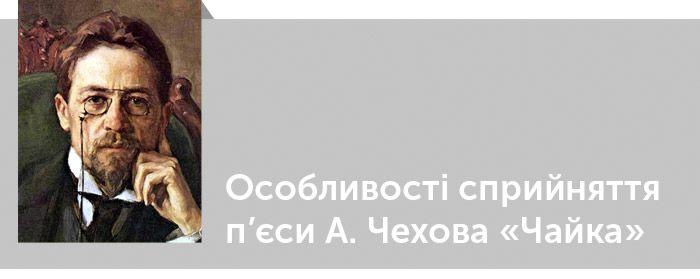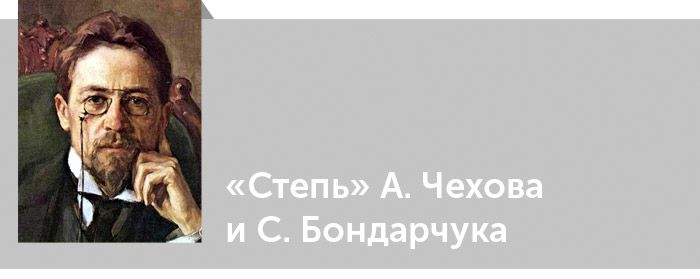А. П. Чехов и Ч. Диккенс: рождественские сюжеты
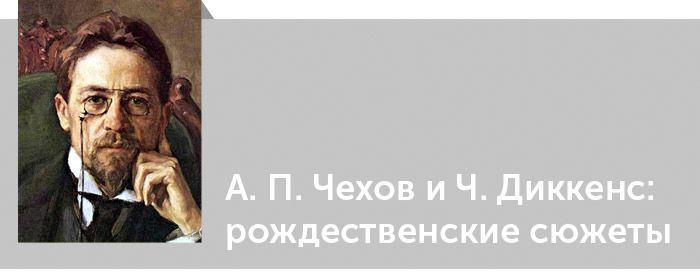
УДК: 82. 09
А. Головачева
кандидат филологических наук,
директор КРУ "Дом-музей А.П. Чехова в Ялте"
Статья представляет собой опыт типологического сопоставления сюжетов в цикле рождественских повестей Диккенса и единственном в творчестве Чехова цикле "маленькая трилогия". Акцентируется внимание на жанровом своеобразии рождественского рассказа. Основные примеры, иллюстрирующие сходство и отличия в разработке темы, взяты из "Рождественской песни в прозе" Диккенса и "Человека в футляре" Чехова. Соотнесены образы "чудесного молотка" из истории Скруджа и "человека с молоточком" из рассказа "Крыжовник". Рассмотрены черты сходства и различия в творчестве Чехова и Диккенса при постановке и решении близких идейно-художественных задач.
Ключевые слова: рождественский сюжет, литературный цикл, художественная деталь, портрет героя, гротеск.
А. ГОЛОВАЧОВА. А.П. ЧЕХОВ І Ч. ДІККЕНС: РІЗДВЯНІ СЮЖЕТИ
Стаття є спробою типологічного зіставлення сюжетів у циклі різдвяних повістей Діккенса та єдиному в творчості Чехова циклі "маленька трилогія". Акцентується увага на жанровій своєрідності різдвяної оповідання. Основні приклади, що ілюструють схожість і відмінності в розробці теми, запозичені у "Різдвяної пісні в прозі" Діккенса й "Людини у футлярі" Чехова. Здійснено співвідношенння образів "чудесного молотка" з історії Скруджа і "людини з молоточком" з оповідання "Крыжовник". Розглянуто схожість і відмінності у постановці та вирішенні Чехововим і Діккенсом близьких ідейно-художніх завдань.
Ключові слова: різдвяний сюжет, літературний цикл, художня деталь, портрет героя, гротеск.
А. GOLOVACHOVA. A. CHEKHOV AND CH. DICKENS: CHRISTMAS STORIES
The article represents an attempt of typological comparison of the plots in the series of Dickens’s Christmas stories and the sole series in Chekhov’s creative literary work “small trilogy". The attention is paid to the genre originality of the Christmas story. The main examples which illustrate commonness and opposition of the theme under study, are taken from Dickens’s “Christmas Song in Prose" and Chekhov’s “A Man in Case". The images of the “miraculous hammer" from Scrooge’s story and “a man with a hammer" from the story “The Gooseberries" are brought into correlation. Characteristic common and opposite features in the creative work of Chekhov and Dickens are examined in setting and solving close ideological and artistic problems.
Key words: Christmas plot, literary series, artistic detail, hero’s portrait, grotesque.
В конце 1890-х годов в записной книжке А. П. Чехова появились два названия из Ч. Диккенса: "Любовь в тюрьме или маленькая Доррит" и "Колокола" [9, т. 17, с. 63-64]. Оба произведения были переведены с английского В. С. Толстой и вышли в 1898 году в хорошо известном Чехову издательстве "Посредник". Упоминание "Колоколов" – одной из рождественских повестей Диккенса – дает основание для сопоставления рождественских сюжетов в творчестве двух писателей.
Серия рождественских сюжетов Диккенса открывается знаменитой "Рождественской песнью в прозе", написанной в 1843 году. Вышедшие на протяжении 1840-х годов еще четыре повести – "Колокола", "Сверчок за очагом", "Битва жизни" и "Одержимый" – вместе с первой составили цикл рождественских повестей. Их объединили не сюжет и герои, а цельность авторской задачи – представить своим соотечественникам социальную проповедь в занимательной художественной форме. Каждая из повестей затрагивала определенную нравственную проблему в общественной или частной жизни современной Англии: осуждала корысть и погоню за богатством, обличала бездушный практицизм государственной машины, рассматривала вопросы семейного счастья, прославляла силу самопожертвования в любви и преодоление гордыни. Моральные проповеди Диккенса основывались на христианской этике, а художественность формы предполагала наиболее эффективное воздействие на читателей и как следствие – улучшение нравственного состояния общества. В последующие годы Диккенс писал рождественские статьи и рассказы, которые, по замечанию его биографа, "по существу, представляли собой кульминацию его непосредственного общения с тысячами читателей" [8, c. 28].
В творчестве Чехова также нашли свое место рождественские сюжеты, но в своеобразной форме. Их отличает краткость: это рассказы, а не повести. Кроме того, они утратили религиозную тенденциозность, стали в значительно меньшей мере назидательными и в гораздо большей степени – развлекательными. Н. А. Никипелова определила эти жанровые изменения как общую литературную тенденцию нового времени: в русской литературе 1880-х годов рождественский рассказ стал в основном принадлежностью юмористики и "постепенно переродился в пародию" [6, c. 31]. К примеру, как образец пародирования традиционного сюжета воспринимается чеховский рассказ "Сапожник и нечистая сила" (1888). Его начальная ситуация традиционна и легко узнаваема: время действия – "канун Рождества", а герой – бедный труженик с незавидной судьбой. Сапожник показан за работой в предпраздничную ночь, когда все люди отдыхают или развлекаются. Чтобы не уснуть и скрасить горькие мысли о "каторжной жизни", он то и дело прикладывается к бутылке. Когда бутылка пустеет, герой задумывается "о своей бедности, о тяжелой беспросветной жизни, потом о богачах, об их больших домах, каретах, о сотенных бумажках…" [9, т. 7, с. 223]. Ему являются непрошеные видения, но в этих видениях, как и наяву, над ним смеются и обзывают нищим и пьяницей. Далее в чеховском повествовании развивается традиционный фантастический сюжет "страшного" рождественского рассказа об общении героя с "нечистой силой".
В подобной истории, выйди она из-под пера Диккенса, основной акцент был бы сделан на социальной причине пьянства рабочего человека. Судьба бедного ремесленника побудила бы автора в очередной раз напомнить богачам о существовании неимущих, о необходимости сострадания к тем, кто измучен работой и обделен праздниками. В пробуждении сострадания и моральном уроке обществу и заключалась бы художественная задача повествования. В сравнении с этим, моральный урок чеховского рассказа парадоксален: к моменту развязки нищий сапожник осознает, что "богатым и бедным одинаково дурно <…> а в общем всех ждет одно и то же, одна могила…" И финальное назидание, ожидаемое в соответствии с жанром рождественского сюжета, предстает пародией на нравоучение: "в жизни нет ничего такого, за что бы можно было отдать нечистому хотя бы малую часть своей души" [9, т. 7, с. 228].
В те же рождественские дни, когда был опубликован рассказ "Сапожник и нечистая сила", Чехов в одном из писем высказывал сожаление, что в такой "поэтический праздник" "на Руси народ беден и голоден…" [10, т. 3, c. 102]. Это было письмо к Д. В. Григоровичу, в творчестве которого диккенсовские черты были столь несомненны, что один из английских критиков даже назвал его "русским подражателем Диккенса" [цит. по 4, c. 152]. Нетрудно представить себе, каким мог бы стать рассказ самого Григоровича на ту же тему. Вероятней всего, тут судьба сапожника Федора предстала бы городским вариантом незавидной крестьянской судьбы Антона-горемыки, и в рассказе нашлось бы место как горячему сочувствию бедному человеку, так и обличению пагубных последствий его тяги к бутылке – таких, как растрата здоровья, страдания близких, разорение семьи. Чехов, продолжая формально традицию "рождественского рассказа", заменил поучение читателя литературной игрой с жанром.
Отсутствие морализаторства давно уже привычно воспринимается как принцип чеховского творчества, неразрывно связанный с его позицией строгой писательской объективности. Так, В. Набоков, читавший лекции по русской литературе американским студентам, учил их, что "чеховский гений никогда не занимался ни социальной, ни этической проповедью" [5, c. 652]. Чехова в этом смысле легко противопоставить его соотечественникам Достоевскому и Л. Толстому или таким зарубежным авторам, как Диккенс, Г. Ибсен. Однако и у Чехова есть произведения с высоким уровнем морализаторства: это рассказы 1898 года "Человек в футляре", "Крыжовник" и "О любви". Их исключительность в творчестве Чехова до сих пор отмечалась в том, что "они представляют единственный у писателя открыто заявленный и обозначенный цикл", получивший научное определение "маленькая трилогия". Поскольку "сам принцип циклизации для чеховского мира не принципиален, не органичен", "маленькую трилогию" основательно называют "уникальным экспериментом" [7, c. 138-146] в чеховской практике. Следует добавить, что неповторимость художественной формы в этом случае сочетается с непривычным у Чехова дидактизмом содержания. Рассказы, объединенные в "маленькую трилогию", несут исходную нравоучительность: "расскажу вам одну очень поучительную историю", – и прямую морализацию выводов: "нет, больше жить так невозможно!" [9, т. 10, с. 54]; "не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро!"; "цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!" [9, т. 10, с. 64]; "нужно исходить от высшего" [9, т. 10, с. 74] и т. п.
Обособленность "маленькой трилогии" в творчестве Чехова делает более заметной ее соотнесенность с цикличными объединениями, характерными для других художественных миров. Так, Г. А. Бялый увидел предшественником Чехова – автора "маленькой трилогии" – Салтыкова-Щедрина: "М. Е. Салтыков-Щедрин сказал однажды, что его произведения написаны “на принцип" государства, собственности, семьи. <…> Подобно Щедрину, Чехов мог бы сказать, что “Человек в футляре" написан “на принцип" государства, “Крыжовник" – собственности, “О любви" – семьи" [1, c. 64]. Та же характеристика позволяет соотнести чеховский цикл и с циклом "рождественских повестей" Диккенса. В России особенную популярность получили первые три из его повестей, о которых также со всем основанием можно сказать, что одна написана "на принцип" собственности ("Рождественская песнь в прозе"), другая – "на принцип" государства ("Колокола"), третья – "на принцип" семьи ("Сверчок за очагом"). По замечанию Бялого, Чехов "мог бы повторить и слова Щедрина: “Я обратился к семье, к собственности, к государству и дал понять, что в наличности ничего этого уже нет"" [1, c. 64]. Диккенс, в отличие от русских писателей, сохранял уверенность, что сумеет укрепить эти рушащиеся твердыни буржуазного общества с помощью вечных христианских ценностей, о которых и напоминал своим современникам. Но, несмотря на такое различие, Чехова, Щедрина и Диккенса сблизила форма цикла, тематика и, отметим особо, художественный способ решения рассматриваемых вопросов. Стремясь раскрыть сущность жизни в ее обыденных проявлениях, Чехов, как и Щедрин и Диккенс, не отказался от приемов преувеличения и гротеска.
Видимо, в первую очередь здесь проявилась типологическая общность. Вместе с тем, говоря о циклах Чехова и Диккенса, оправдано предположить и литературное влияние, творческую преемственность. Например, "Крыжовник" соотносится с "Рождественской песнью в прозе" не только по признаку ведущей темы, но и по ряду художественных деталей, рожденных творческой фантазией авторов и воспринимаемых читателями как бы под одним углом зрения.
Герой "Рождественской песни в прозе" Эбинизер Скрудж – владелец конторы "Скрудж и Марли", "сквалыга", накопитель, вымогатель. "Да, он был холоден и тверд, как кремень, и еще никому ни разу в жизни не удавалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. <…> Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица…" [3, c. 8]. Подстать ему был и его покойный компаньон Джейкоб Марли, умерший семь лет назад в сочельник. Ровно семь лет спустя перед глазами Скруджа, не верящего в призраки и ни во что другое, если оно выходит за пределы практической коммерции, является незваным "ужасное видение" – дух Марли.
Призрак Марли предстает перед Скруджем в настолько точных, знакомых обыденных подробностях, что не возникает ни малейшего сомнения: "Да, это был Марли, со своей косицей, в своей неизменной жилетке, панталонах в обтяжку и сапогах"; Скрудж видит не только сапоги, но даже кисточки на сапогах и может разглядеть, из какой ткани сшит платок, окутывающий голову и шею бывшего компаньона. Реальность описания у Диккенса неразделимо слита с фантастикой: "Тело призрака было совершенно прозрачно, и Скрудж, разглядывая его спереди, отчетливо видел сквозь жилетку две пуговицы сзади на сюртуке" [3, c. 20-21]. Реальные и фантастические элементы сливаются с мистическими: "призрак как ни в чем ни бывало уселся в кресло по другую сторону камина. Казалось, это было самое привычное для него дело" – но, "хотя и сидел совершенно неподвижно, волосы, полы его сюртука и кисточка на сапогах все время шевелились, словно на них дышало жаром из какой-то адской огненной печи" [3, c. 21-22]. В одном и том же изображении значение детали дробится, множится: она реальна, аллегорична и вместе с тем в любой момент может стать символом: "Кисточки на сапогах торчали, волосы на голове торчали, косица торчала, полы сюртука оттопыривались. Длинная цепь опоясывала его и волочилась за ним по полу на манер хвоста. Она была составлена (Скрудж отлично ее рассмотрел) из ключей, висячих замков, копилок, документов, гроссбухов и тяжелых кошельков с железными застежками" [3, c. 20-21].
Дух Марли носит цепь, которую сам сковал себе при жизни, звено за звеном и ярд за ярдом, – увесистую цепь собственника, упустившего предоставленную ему на земле возможность сотворить доброе дело. Теперь-то он понимает: "Забота о ближнем – вот что должно было стать моим делом. Общественное благо – вот к чему я должен был стремиться. Милосердие, сострадание, щедрость – вот на что должен был я направить свою деятельность" [3, c. 25]. Цепь, скованная себе Скруджем, будет еще длинней, и Марли его предупреждает: пока он жив, он еще может спастись, если начнет делать добро другим.
Автор труда "Мир Чарльза Диккенса" Энгус Уилсон, говоря о реакции на "рождественские повести" и рассказы английских читателей уже не диккенсовской поры, а середины ХХ столетия, писал: "Нас озадачивает эта смесь клоунады, артистизма и пропаганды, эта сложная сеть тончайших наблюдений, проницательных оценок, безотчетного комедиантства и глубочайшей прозорливости" [8, c. 30]. Русским читателям с последней трети ХХ столетия такое сочетание знакомо по роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" и составляет одну из самых привлекательных сторон его многокрасочного мира. Чеховский мир в сравнении с диккенсовским и булгаковским воспринимается гораздо менее красочным, особенно для зарубежных читателей. Недаром в своих американских лекциях Набоков рассказывал студентам о "сизо-сером чеховском мире", о его "трогательной неяркости" [5, c. 652] в сравнении с ослепительным блеском других художественных миров. Но это впечатление не универсально, по меньшей мере оно обходит чеховскую "маленькую трилогию", особенно ее первый рассказ, давший другое название единственному чеховскому циклу – "футлярная трилогия". Как отмечал Г. А. Бялый, анализируя "Человека в футляре", здесь налицо все "признаки чрезмерности и подчеркнутости, вполне естественной для гротескного построения и противопоказанной образам бытового характера. Гротеск выводит образ из обычного и будничного ряда и придает ему обобщенный, почти символический смысл" [1, c. 64].
В историях о Скрудже и "человеке в футляре" есть много сходного: жизнь каждого из главных героев ненормальна, и ненормальность эта – общего свойства. По чеховской формулировке, это "стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний" [9, т. 10, с. 43]. В первом рассказе "футлярной трилогии" приведены два примера, по-разному подтверждающие идею цикла. Учитель греческого языка Беликов добровольно "прятался от действительной жизни", оградив себя искусственным физическим футляром – поднятым воротником теплого пальто, душным пологом тесной кровати, ставнями и задвижками, зонтиком и калошами даже в очень хорошую погоду и т. п.; "и мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр" всевозможных запрещений, ограничений и опасений. Другой чеховский пример связан с эпизодическим лицом: жена сельского старосты Мавра, "женщина здоровая и неглупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего села, <…> а в последние десять лет всё сидела за печью и только по ночам выходила на улицу"; в этом случае добровольно созданный пространственный "футляр" к тому же ограждает и от общения. Чеховская пара – Беликов и Мавра – позволяет с разных сторон рассмотреть вопрос о существовании "людей, одиноких по натуре, которые как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу" [9, т. 10, с. 42].
У Диккенса такая пара представлена конторщиками Скруджем и Марли. О Скрудже с самого начала говорится: "Скрытый, замкнутый, одинокий – он прятался как устрица в свою раковину", и называется причина: душевный холод, заморозивший не только черты лица, но и создавший вокруг героя "леденящую атмосферу", которую он всюду вносил с собой [3, c. 8-9]. Если Скрудж окружен, как футляром, леденящей атмосферой, то Марли, став рабом собственности, запер себя в другой футляр: "При жизни мой дух никогда не улетал за тесные пределы нашей конторы – слышишь ты меня! – никогда не блуждал за стенами этой норы – нашей меняльной лавки, – и годы долгих, изнурительных странствий ждут меня теперь" [3, c. 24]. У Диккенса свое, но родственное чеховскому представление об "устричной" жизни, ведется ли речь об обыденной замкнутости в четырех стенах, о поглощенности суетной идеей или же о душевной черствости, ограждающей человека от других людей. Интересно, что Беликов и Скрудж, сближаясь в авторских характеристиках, имеют и общую портретную деталь: каждый из них в какой-то момент повествования сравнивается с хорьком [9, т. 10, c. 44; 3, c. 29]. К тому же на русский слух само имя "Скрудж" ассоциируется с какой-то скрюченностью и получает соответствие в характеристике "маленького, скрюченного, точно его из дому клещами вытащили" [9, т. 10, с. 47] Беликова.
К "маленькой трилогии" идейно примыкает еще один чеховский рассказ, оставшийся неоконченным – "Расстройство компенсации". Его герой захвачен повторяющейся "в разных видах без конца" житейской суетой и однажды с отчаянием осознаёт, что "из этой твердой скорлупы ему не выйти уже до самой смерти". "И ему хотелось, – говорится у Чехова, – перестать быть устрицей хотя на один час; хотелось заглянуть в чужой мир, увлечься тем, что не касалось его лично, поговорить с посторонними для него людьми…" [9, т. 10, c. 229]. Столь же определенно сформулирована мысль Диккенса в "Рождественской песни": человек, пока жив, должен общаться с людьми, "соучаствовать в их судьбе"; "А тот, кто не исполнил этого при жизни, – звучит предостережение, – обречен мыкаться после смерти" [3, c. 23]. История, случившаяся со Скруджем в сочельник через семь лет после смерти Марли, – как раз о том, как человек перестал быть "устрицей", разломил "скорлупу" и освободился от "футляра".
Вслед за призраком Марли Скруджа посещают еще три призрака: Духи прошедшего, нынешнего и будущего Рождества. Святочный Дух Прошлых Лет возвращает ему давнымдавно забытые воспоминания о его прежних привязанностях – о дружбе, первой любви, семейных узах, о благородных стремлениях, постепенно побежденных страстью к наживе. Дух Нынешних Святок показывает ему чужие радости и несчастья, при виде которых Скруджа охватывает небывалое прежде сочувствие к бедным людям. Дух Будущих Святок приоткрывает завесу над одинокой и неприглядной смертью героя. Постепенно Скрудж начинает понимать: во всем, что показывали ему Духи, "заложен глубокий нравственный смысл, направленный на его благо" [3, c. 78]. И происходит рождественское чудо: нелюдимый и бессердечный скряга превращается в доброго и щедрого друга всех, кто нуждается в его помощи.
Если некоторые черты характера и портрета Скруджа (до перемены с ним) находят продолжение в образе "человека в футляре" Беликова, то тема собственности, как замечено выше, объединяет "Рождественскую песнь" Диккенса со вторым рассказом "футлярной трилогии" – "Крыжовник". Но и в характере нового чеховского героя, Николая Иваныча Чимши-Гималайского, также прослеживается преемственность с образом накопителя Скруджа: "Жил он скупо: недоедал, недопивал, одевался бог знает как, словно нищий, и всё копил и клал в банк. Страшно жадничал". Чеховская история не просто рассказана, но и прокомментирована: "Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь" [9, т. 10, c. 59]; как и в истории Скруджа, здесь поэтапно отмечены и перечислены перемены, происходившие с Николаем Иванычем: как становился всё более скупым, как женился и вогнал в гроб ни в чем не повинную жену и ни минуты не чувствовал себя виноватым, как входил в роль помещика и терял человеческий облик, превращаясь в подобие раскормленного животного. Но история Николая Иваныча – только часть рассказа о том, как идея купить усадьбу с крыжовником исказила жизнь "доброго, кроткого человека"; вторая не менее важная часть – о том, что случилось с его братом, самим рассказчиком Иваном Иванычем. "Но дело не в нем, а во мне самом, – говорит Иван Иваныч. – Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе" [9, т. 10, c. 61]. То, что понял Иван Иваныч при встрече с братом-помещиком, важнее случившегося с владельцем крыжовника, – именно это дано как итог и вывод рассказанной истории.
В повести Диккенса особенно впечатляющи те страницы, где герой, готовясь расстаться со вторым посетившим его Духом, замечает в складках его одеяния что-то странное, до поры до времени скрытое от внимания. Дух откидывает края мантии, и глазам Скруджа предстает страшное зрелище: двое детей, несчастных, заморенных, уродливых и жалких. "Это были мальчик и девочка. Тощие, мертвенно-бледные, в лохмотьях, они глядели исподлобья, как волчата, в то же время распластываясь у ног Духа в унизительной покорности. Нежная юность должна была бы цвести на этих щеках, играя свежим румянцем, но чья-то дряхлая, морщинистая рука, подобно руке времени, исказила, обезобразила их черты и иссушила кожу, обвисшую, как тряпка". Имя мальчика – Невежество, имя девочки – Нищета. "Это твои дети, Дух?" – едва находит в себе силы произнести Скрудж, – и слышит в ответ: "Они – порожденье Человека". Невежество и Нищета существуют при всеобщем спокойствии, при равнодушном отрицании их или признании законным явлением. "Что ж, отрицай это! – вскричал Дух, повернувшись в сторону города и простирая к нему руку. – Поноси тех, кто станет тебе это говорить! Используй невежество и нищету в своих нечистых, своекорыстных целях! Увеличь их, умножь! И жди конца!" [3, c. 74-75].
На Скруджа веет ужасом от зрелища тех несчастных созданий, которых он прежде не замечал. В эту ночную встречу он не только испытал сострадание к обездоленным, но и понял, что решение их проблем – не тюрьма и работный дом, как он сам, повторяя вслед за другими, утверждал недавно, а реально сделанное добро, за которое каждый несет личную ответственность.
Если чудо рождественской ночи приоткрыло герою Диккенса закулисную сторону жизни, то перед героем "Крыжовника" в одну ночь предстали одновременно как закулисная, так и лицевая сторона сложившегося порядка вещей. В чеховском рассказе закулисная сторона столь же ужасна, как и в повести Диккенса. Но особенность чеховского сюжета в том, что его герой испытывает ужас не при мысли о скрыто страдающих и несчастных, а при виде откровенно счастливого человека, который достиг цели в жизни и получил то, что хотел, – собственный крыжовник. Рассказчик "Крыжовника" говорит: "…при виде счастливого человека мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. <…> Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье… Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; <…> мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Всё тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания… И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча…" [9, т. 10, c. 62].
В диккенсовском сюжете превращение Скруджа в "футлярного" персонажа и освобождение человека из "футляра" показаны как два этапа одной судьбы. В "Крыжовнике" сюжет разошелся по разным руслам: история одного из братьев стала примером того, как человек обрастал "футляром", но так и не понял этого, история другого стала примером прозрения и избавления от "общего гипноза". "В ту ночь мне стало понятно…" [9, т. 10, c. 62] – подводит итог своему рассказу Иван Иваныч. Заключительный призыв его рассказа: "Делайте добро!" – полностью совпадает с идейной направленностью рождественской повести Диккенса.
Интересно, что в ряде картин, которые той знаменательной ночью проходят перед мысленным взором Ивана Иваныча, просматриваются реминисценции сюжета о Скрудже. Перечитаем внимательно широко известный фрагмент "Крыжовника": "Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда – болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других" [9, т. 10, c. 62]. Всё это было показано Диккенсом: встреча Скруджа с третьим из Духов подводит страшный итог – он умирает в одиночестве, и никто не видит и не слышит его, как он сам при жизни не видел и не слышал других. Так завершается та фантастическая часть сюжета, которая начиналась с появления призрака Марли.
Допустимо предположить, что и знаменитый чеховский образ "человека с молоточком" мог быть своеобразным художественным откликом на одну из деталей сюжета о Скружде и Марли. Чудесному финальному преображению Скруджа предшествует первое из чудес рассказываемой рождественской истории – фантастическое превращение молотка у двери его квартиры:
"Достоверно известно, что в дверном молотке, висевшем у входных дверей, не было ничего примечательного, если не считать его непомерно больших размеров. Неоспоримым остается и тот факт, что Скрудж видел этот молоток ежеутренне и ежевечерне с того самого дня, как поселился в этом доме. Не подлежит сомнению и то, что Скрудж отнюдь не мог похвалиться особенно живой фантазией. <…> Необходимо заметить еще, что Скрудж, упомянув днем о своем компаньоне, скончавшемся семь лет назад, больше ни разу не вспоминал о покойном. А теперь пусть мне кто-нибудь объяснит, как могло случиться, что Скрудж, вставив ключ в замочную скважину, внезапно увидел перед собой не колотушку, которая, кстати сказать, не подвергалась за это время решительно никаким изменениям, а лицо Марли. <…> Скрудж во все глаза уставился на это диво, и лицо Марли тут же превратилось в дверной молоток" [3, c. 17-18]. Перемены, которые вслед за тем произойдут со Скруджем, он свяжет в первую очередь с этим молотком, которому и воздаст должное: "…и тут взгляд его упал на дверной молоток.Я буду любить его до конца дней моих! – вскричал Скрудж, поглаживая молоток рукой. – А ведь я и не смотрел на него прежде. Какое у него честное, открытое лицо! Чудесный молоток!" [3, c. 95].
Отметим, что дверной молоток-колотушка – реальная принадлежность не русского, а западного быта. Как предмет повседневного обихода он не раз обыгрывался в западноевропейской художественной литературе. Конечно, особый интерес в данном случае представляют собой те произведения, где он обозначен не просто как бытовая деталь, а разработан как значимый для сюжета художественный образ. Найти в этом смысле предшественника Диккенса не представляет труда: это немецкий романтик Э. Т. А. Гофман, автор сказочной повести "Золотой горшок". Герой повести Гофмана студент Ансельм на пороге старого дома архивариуса Линдгорста становится свидетелем такого же необыкновенного превращения дверного молотка: "Он остановился и рассматривал большой и красивый дверной молоток, прикрепленный к бронзовой фигуре. Но только что он хотел взяться за этот молоток при последнем звучном ударе башенных часов на Крестовой церкви, как вдруг бронзовое лицо искривилось и осклабилось в отвратительную улыбку и страшно засверкало лучами металлических глаз. Ах! Это была яблочная торговка от Черных ворот! Острые зубы застучали в растянутой пасти, и оттуда затрещало и заскрипело: “Дурррак! Дуррак! Дурррак! Удерррешь! Удерррешь! Дурррак!" Студент Ансельм в ужасе отшатнулся…" [2, c. 408].
В гофмановском сюжете бронзовый молоток превращается в лицо старухи-ведьмы, враждебной Ансельму и хозяину дома Линдгорсту. Перед следующим посещением дома студенту дают склянку с кислотой, он брызжет из склянки на молоток, начинающий искажаться в безобразное лицо, и избавляется от колдовства: "И в самом деле, не поднялся ли острый нос, не засверкали ли кошачьи глаза из-за дверного молотка, когда он хотел поднять его при ударе двенадцати часов? И вот, не долго думая, он брызнул жидкостью в фатальную рожу, и она разом сгладилась, и сплющилась, и превратилась в блестящий круглый молоток. Дверь отворилась, и колокольчики приветливо зазвенели по всему дому…" [2, c. 428]. В другом эпизоде повести будет отмечено, что обожженным окажется лицо старой колдуньи.
У Гофмана фантастическое превращение молотка означает попытку завлечь героя в сети злых сил, у Диккенса, напротив, так начинается попытка вернуть героя на путь добра. Но и в том и другом сюжете игра с этим образом возможна потому, что дверной молоток – предмет, привычный и авторам, и читателям. О том, какое значение занимала эта деталь в западном обиходе, говорит одна трогательная подробность из другой рождественской повести Диккенса – "Сверчок за очагом". Старый кукольник Калеб Пламмер мастерит игрушки, в том числе – игрушечные Ноевы ковчеги, он наполняет их зверями и птицами и при этом, соблюдая максимум достоверности, допускает "образец поэтической вольности: к дверям почти всех этих Ноевых ковчегов были подвешены дверные молотки – неуместная, быть может, принадлежность, напоминающая об утренних визитерах и почтальоне, но все же премилое украшение для фасада этих сооружений" [3, c. 228].
Именно характерность такой детали, как дверной молоток, для западного быта и чужеродность его в отечественном быту дают основания заподозрить литературные истоки образа "человека с молоточком". В творчестве Чехова получила развитие художественная деталь, сыгравшая свою бытовую и сказочно-фантастическую роль в "Золотом горшке", фантастическую и пропагандистскую – в "Рождественской песни в прозе". Своеобразием Чехова стало то, что в "Крыжовнике" этот образ воплощен не в его бытовой конкретности и не в фантастической метаморфозе, а как метафора той душевной неуспокоенности, что способна пробудить человечность и принести освобождение от символического "футляра".
Литература:
1. Бялый Г. Чехов и русский реализм: очерки. – Л.: Сов. писатель, 1981. – 400 с. 2. Гофман Э. Т. Повести и рассказы. – М.: Худож. лит., 1967. – С. 397–468
3. Диккенс Ч. Собр. соч.: В 30 т. Т. 12. – М.: ГИХЛ, 1959. – 508 с.
4. Катарский И. Диккенс в России. Середина XIX века. – М.: Наука, 1966. –428 с.
5. Набоков В. Из вступительной лекции о Чехове // Путешествие к Чехову: Повести. Рассказы. Пьеса. Размышления о писателе / Сост. В. Б. Коробов. – М.: Школа-Пресс, 1996. – С. 648–653
6. Никипелова Н. А. Сюжет рождественского рассказа в художественной системе А. П. Чехова ("Сапожник и нечистая сила" и "Пари") // Поэтический мир Чехова: сб. науч. тр. – Волгоград: ВГПИ, 1985. – С. 31-37.
7. Сухих И. Н. "Маленькая трилогия" (проблема цикла) // Сборники А. П. Чехова: межвузов. сб. / Отв. ред. А. Б. Муратов. – Л.: ЛГУ, 1990. – С. 76–83
8. Уилсон Э. Мир Чарльза Диккенса / Перевод Р. Померанцевой и В. Харитонова. – М.: Прогресс, 1975. – 320 с.
9. Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. – М.: Наука, 1974–1982.
10. Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. – М.: Наука, 1974-1983.