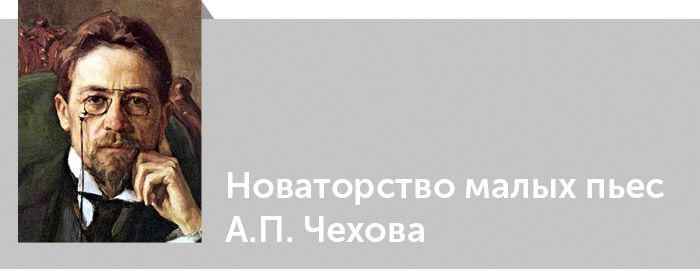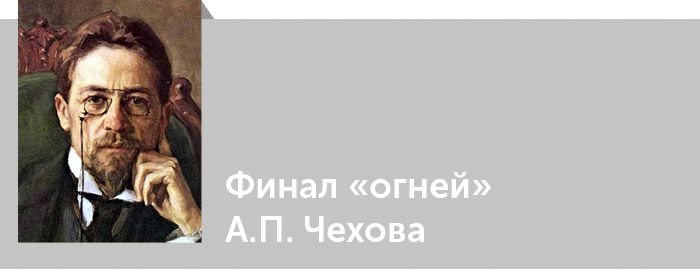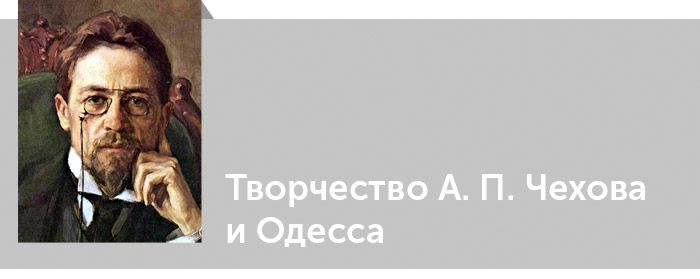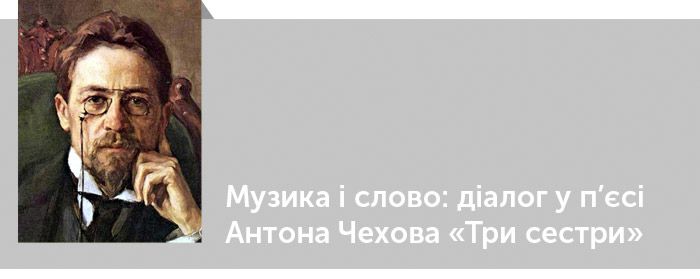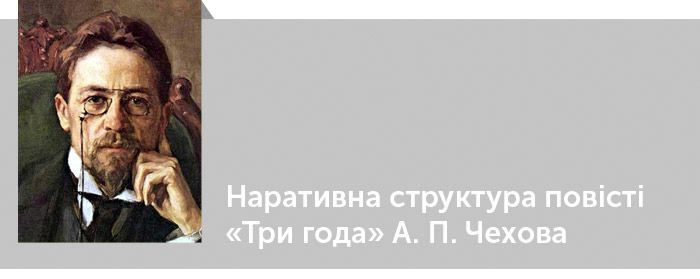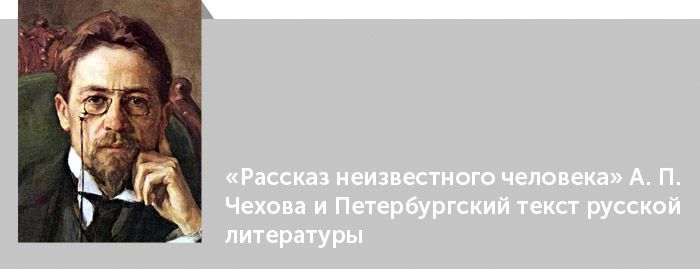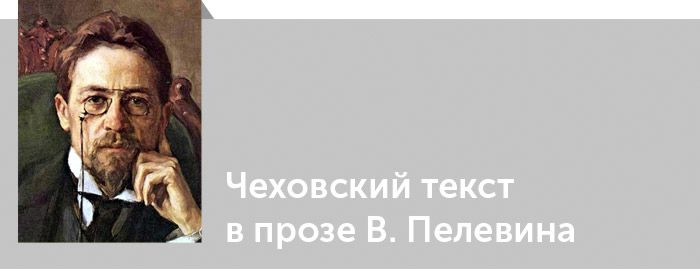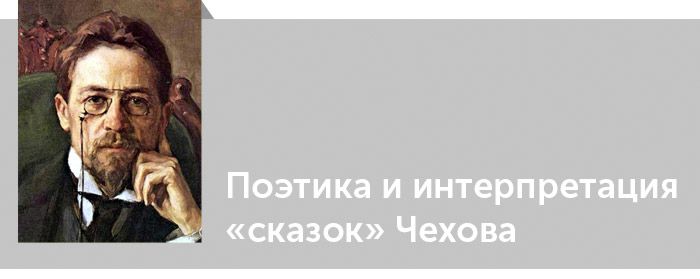А.П. Чехов на Цейлоне: опыт русского путешественника
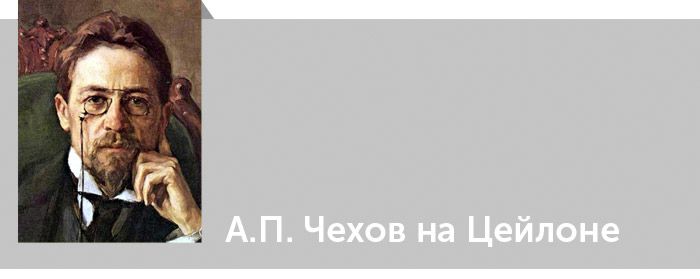
УДК 821.161.1 / Чехов: 82-992
М.И. Назаренко
(Киев)
Статья посвящена визиту Чехова на Цейлон в октябре 1890 г. Путевые впечатления писателя сопоставлены с записками других русских путешественников, побывавших на острове в конце XIX – начале ХХ века. Рассмотрены стратегии биографических реконструкций «цейлонского эпизода» в современном литературоведении.
Ключевые слова: литература путешествий, колониальная проза, биографическая реконструкция.
Назаренко М.Й. А.П. Чехов на Цейлоні: досвід російського мандрівника.
Стаття присвячена візиту Чехова на Цейлон у жовтні 1890 р. Подорожні враження письменника зіставлені із записками інших російських мандрівників, котрі відвідали острів наприкінці ХІХ – на початку ХІХ століття. Розглянуто стратегії біографічних реконструкцій «цейлонського епізоду» в сучасному літературознавстві.
Ключові слова: література мандрів, колоніальна проза, біографічна реконструкція.
Mikhail Nazarenko. A.Chekhov on Ceylon: The Experience of a Russian Traveler.
The article is devoted to the Chekhov’s visit on Ceylon in October 1890. His impressions of the voyage are compared with the travelogues of other Russian tourists who visited the island in the end of the 19th and in the beginning of the 20th century. The biographic reconstructions of the “Ceylon episode” in recent works of literary criticism are considered.
Key words: travel literature, colonial prose, biographic reconstruction.
...«Тургенев и тигры» – такие статьи писать можно, и они пишутся.
А.П. Чехов. Записная книжка
Краткое пребывание А.П. Чехова на Цейлоне в октябре 1890 года остается одной из наименее изученных и наиболее мифологизированных страниц биографии писателя. Немногочисленные сведения известны нам из писем самого Чехова или же со слов мемуаристов; новые же подробности, обнаруженные современными исследователями, вызывают серьезные сомнения и пока что не могут быть проверены по независимым источникам.
Несомненно, что далекие страны интересовали Чехова еще до поездки на Сахалин – достаточно вспомнить рассказ «Мальчики» (1887) и некролог Пржевальскому (1888), в котором снова возникает тема бегства «изнеженного десятилетнего мальчика-гимназиста» «в Америку или Африку».
Подтверждают это и воспоминания современников. «Он собирался тогда на Сахалин, – писал В.Н. Ладыженский, – и с каким увлечением говорил он о возможности видеть чужие, малознакомые фантастические страны – Индию и Японию» [Чехов в воспоминаниях 1960: 298]. В письме к Суворину, написанном перед самым отъездом (15 апреля 1890 г.), Чехов обещал: «Напишу Вам в Индии экзотический рассказ». Слово «экзотический» вообще стало для Чехова знаком последней части путешествия. Уже вернувшись в Москву, он писал В.А. Тихонову: «Не нужно ли Вам для “Севера” “экзотических” фотографий, которые я привез из кругосветного плавания?» (21 ноября 1891 г.). В обоих случаях слово это принадлежит «чужому голосу» как обозначение определенного жанра; интересно, что в кавычки оно берется уже после того, как «экзотический» опыт стал опытом личным.
Неудивительно, что Цейлон – воплощение восточной экзотики – неизбежно возникал даже в газетных юморесках, посвященных путешествию знаменитого беллетриста: «[Чехова] разорвут на части любопытные и не оставят на нем ни одного живого места издатели. (...) – Какая погода на Цейлоне? Есть ли люди в Китае? Носят ли там тюрнюры? Не привезли ли вы с собой какого-нибудь крокодила? Хоть маленького, или акулы?» [О А.П. Чехове 1890] А десять лет спустя, советуя Максиму Горькому съездить в Индию, Чехов прибавлял: «Когда в прошлом есть Индия, долгое плавание, то во время бессонницы есть о чем вспомнить» (письмо от 15 февраля 1900 г.).
Тем примечательнее, что в творчестве Чехова Индия вообще и Цейлон в частности (на самом субконтиненте писатель не бывал никогда) отсутствуют полностью. Далекий остров упоминается вскользь только в примечании к VII главе «Острова Сахалин»: «Большинству авторов здешний пейзаж не нравится. Это оттого, что они приезжали на Сахалин, находясь еще под свежим впечатлением цейлонской и японской или амурской природы [...]». Более того: единственный «экзотический рассказ», относящийся ко времени путешествия, – это «Гусев», который, по словам Чехова, «зачат был на острове Цейлоне» (Суворину, 23 декабря 1890), в знак чего первая публикация носила пометку «Коломбо, 12 ноября».
Однако и в «Гусеве» показано прежде всего нутро океанского парохода, внешний же мир подчеркнуто лишен конкретных географических примет («Индейский океан» возникает только в иронической речи героя): читатель должен догадываться, что безымянная гавань с китайскими лодками – это Гонгконг и т.п. «Пароход не стоит уж на месте, а идет куда-то дальше»: это взгляд бессрочноотпускного рядового Гусева, но это – и взгляд автора. Чехов, иронизируя над социальной риторикой псевдоинтеллигента Павла Ивановича, отбрасывает вместе с ней и всяческую национально-культурную конкретику, оставляя человека наедине с безразличной природой и неизбежной смертью: они соединены в образе океана, окрашенного в цвета, «какие на человеческом языке и назвать трудно».
Гусев не доплыл до Цейлона (и, видимо, даже до Сингапура). Пребывание Чехова на острове датируется по вахтенному журналу парохода «Петербург»: утро 10 ноября – вечер 12 ноября («Гусев», таким образом, начат в день отъезда). [Дунаева 1977; Летопись 2004: 482-486]. Упоминания об этих двух днях в позднейших письмах Чехова сдержанноироничны. «...Я доволен по самое горло, сыт и очарован до такой степени, что ничего больше не хочу и не обиделся бы, если бы трахнул меня паралич или унесла на тот свет дизентерия. Могу сказать: пожил! Будет с меня. Я был и в аду, каким представляется Сахалин, и в раю, т. е. на острове Цейлоне. Какие бабочки, букашки, какие мушки, таракашки!» (И.Л. Леонтьеву, 10 декабря 1890 г.). Явная стилизация под рассказы о дивах Востока: «В Индии я видел диких слонов и очковых змей, видел знаменитых индусов-фокусников, которые делают буквально чудеса» (М.Е. Чехову, 13 марта 1891 г.). Довольно откровенный фрагмент в письме к Суворину: «[...] Цейлон – место, где был рай. Здесь в раю я сделал больше 100 верст по железной дороге и по самое горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами. Когда у меня будут дети, то я не без гордости скажу им: “Сукины дети, я на своем веку имел сношение с черноглазой индуской... и где же? в кокосовом лесу, в лунную ночь”» (9 декабря 1890 г.)[1].
Слова «100 верст по железной дороге», вероятно, так и остались бы загадкой для биографов, если бы почти три года спустя в переписке с Сувориным не возникла тема благотворительной организации – Армии спасения. «Начать с того, что Армию спасения, ее процессии, храм и проч. я видел на Цейлоне в городе Кэнди. Впечатление оригинальное, но давящее нервы. Не люблю», – вспоминал Чехов 2 августа 1893 г., а пять дней спустя добавлял: «Еще об Армии спасения. Я видел процессию: девицы в индусских платьях и в очках, барабан, гармоники, гитары, знамя, толпа черных голож<...>ых мальчишек сзади, негр в красной куртке... Девственницы поют что-то дикое, а барабан — бу! бу! И это в потемках, на берегу озера».
Кэнди (или Канди) – одна из самых известных цейлонских достопримечательностей: город, прославленный своим храмом, в котором сохраняется древняя реликвия – зуб Будды. Очевидно, что именно этот храм и посетил Чехов (однако сам зуб он увидеть вряд ли мог: драгоценность эту достают и показывают паломникам только во время больших праздников; впрочем, путешественники отмечали, что жрецы делают исключения «за крупный бакшиш» [Щербатова 1892: 70]).
Мы располагаем по крайней мере четырьмя отчетами русских путешественников о поездках по Цейлону во второй половине XIX века. Это:
– «Очерки Цейлона и Индии» И.П. Минаева (1878) и его более ранний очерк «Львиный остров» (1875);
– впечатления Елены Блаватской о поездке в Канди [см.: Вашингтон 1998];
– путевые заметки кн. О.А.Щербатовой «По Индии и Цейлону» (1892), посетившей остров почти одновременно с Чеховым;
– очерк И.А. Бунина «В стране пращуров» (1911, опубл. 1973), его же стихотворение «Цейлон» (1916) и ряд рассказов, связанных с цейлонскими впечатлениями.
Несмотря на все разнообразие интересов путешественников, при чтении их текстов становится очевидно, что существовал стандартный для того времени туристический маршрут с обязательным для всех осмотром достопримечательностей, и Чехов его не избежал. Путевые заметки и очерки позволяют также понять, что образ Цейлона как земного рая – не метафора Чехова (или не только метафора), но, в первую очередь, отражение местной легенды о том, что именно на этом острове были сотворены Адам и Ева (легенда сохраняется в русской культуре вплоть до эссе Бунина «Город Царя Царей» 1924 г. и современных путеводителей).
Отметим три показательных момента в чеховском восприятии Цейлона и Востока вообще:
1) Интерес к колониальной проблематике, вполне понятный для человека, только что побывавшего на Сахалине (и выросшего в лавке колониальных товаров). Чехов писал Суворину о Гонконге, подразумевая, собственно, все виденные им азиатские владения Британской империи: «Ездил я на дженерихче, т. е. на людях, покупал у китайцев всякую дребедень и возмущался, слушая, как мои спутники россияне бранят англичан за эксплоатацию инородцев. Я думал: да, англичанин эксплоатирует китайцев, сипаев, индусов, но зато дает им дороги, водопроводы, музеи, христианство, вы тоже эксплоатируете, но что вы даете?» (9 декабря 1890 г.). Сама поездка «на людях» при этом не связана для Чехова ни с какими моральными дилеммами; ср. «цейлонский» рассказ Бунина «Братья» (1914), где сложно соотнесены судьбы рикши и англичанина, которого он возит по острову. Понятно, что за считанные дни Чехов не мог увидеть и прочувствовать все нюансы межнациональных и межкультурных взаимодействий, о которых писал, например, Минаев: «Не навязывая свой язык через школы, англичане сумели добиться его распространения»; «[...] британская исключительность, сказывающаяся всюду резко, на Цейлоне, среди народа мирного и пугливого, достигла крайнего предела. Здесь англичанин не только владыка, но и человек избранной, высшей расы и между ним и чернокожим нет и не может быть ничего общего» [Минаев 1878: 21, 37]. Чехов выносит колониальную эксплуатацию «за скобки», как условие, общее для всех империй, включая Российскую, и обращает внимание прежде всего на различия (что присуще его методу и как художника, и как социолога, автора «Острова Сахалин»).
2) Обращает на себя внимание и подчеркнуто-ироничное отношение Чехова к экзотической природе: в письмах он пародически обращается к той теме, которая в «Гусеве» обретает элегическое звучание. Путешественник не сливается с природой, но дистанцируется от нее: «по самое горло насытился пальмовыми лесами». Строка из басни Крылова («Какие бабочки, букашки, какие мушки, таракашки!»), вполне вероятно, должна была вызвать в памяти адресата и финал «Любопытного»: «Слона-то я и не приметил» – и в прямом, и в переносном смысле.
3) Наконец, чрезвычайно характерно для чеховских путевых заметок, что самый экзотический пункт вояжа, одна из главных туристических приманок Цейлона – город Канди – вообще не упоминался в эпистолярных отчетах писателя: сам факт «100 верст по железной дороге» (вновь тема колониального прогресса!) гораздо важнее, чем цель путешествия. Как уже было сказано выше, если бы не диалог с Сувориным об Армии спасения, о поездке в Канди знали бы только архивисты, поскольку Чехов сохранил гостиничный счет [Летопись 2004: 484]. Подробностей Чехов не сообщил ни Суворину, ни другим корреспондентам; о поездке в Канди не упоминает ни один мемуарист.
Молчание Чехова очень красноречиво на фоне описаний паломничества к храму зуба Будды, которые считал своим долгом оставить каждый путешественник, и не только русский (см., напр., записки Э. Геккеля [Haeckel 1883]). Путей описания и интерпретации множество. И. Минаев рассказывает о храме с точки зрения этнографа, заинтересованного в деталях обстановки и поведения; он обращает внимание на обычное и регулярное («Монахи очень добродушный и любезный народ, но, к сожалению, и очень неученый [...]»; «Храм, в котором хранится буддийская святыня, выстроен по обыкновенному плану цейлонских храмов, только гораздо просторнее, окружен верандою и двухэтажный [...]. Воздух здесь от жары и благоухания цветов удушлив» [Минаев 1878: 152-154]). О. Щербатова не столько описывает, сколько оценивает увиденное с точки зрения внешней и «высшей»: этнографические детали (которые сообщаются также) оказываются второстепенны по сравнению с противостоянием христианства и недифференцированного язычества. «Общее впечатление, вынесенное нами от посещения этого храма, было крайне неприятное: мысль, что все эти ладаны, эти молитвы, эти поклонения и приношения делаются в честь каких-то уродливых идолов – людьми, т.е. язычниками, верующими во все это, и возмущали нас, и вместе с тем возбуждали в высшей степени горестное чувство» [Щербатова 1892: 70]. Блаватская также осталась недовольна храмом с метафизической точки зрения, но не христианской, а теософской: она «бестактно заметила позже, что, судя по размерам, [зуб] некогда принадлежал аллигатору. [Ее спутник полковник] Олькотт проявил большую дипломатичность, сказав, что этот зуб наверняка восходит к тому периоду, когда Будда переживал инкарнацию в облике тигра» [Вашингтон 1998]. Бунинское описание создано под явным влиянием поэтики Чехова,в частности, того же рассказа «Гусев», который Бунин высоко ценил – он «первоклассно хорош» [Бунин 1967: 196], – хотя и с оговорками. Субъективность проявляется исключительно в плане точки зрения, какая-либо оценка (даже эстетическая) отсутствует вовсе. Приведем соответствующий фрагмент очерка «В стране пращуров» полностью, поскольку он как бы восполняет нарочитое чеховское молчание:
«Храм Зуба – это древние, черные зубцы крепостных стен и низкая осьмиугольная башня с острой крышей. Богослужение совершается в нем утром и вечером, каждый раз в шесть часов. Храм – узкий колонный зал, на задней стене его страшное изображение мучений в аду. Дверь в орнаментах ведет в четвероугольный двор, окруженный колоннами, посреди которого стоит часовня с Зубом Будды. При входе в нее стоят на жертвеннике бронзовые тарелки с густо и сладко благоухающими цветами Храмового Дерева. Здесь же стоят и музыкальные инструменты для богослужения.
Наглядевшись на священные черепки в канале, окружавшем Храм Зуба, входил в Храм. Народ смиренно и быстро нес на жертвенник рис, цветы, мелкие монеты и, кланяясь, шепотом возносил моления Садгу, Доброму, Несравненному, соединял ладони у лба, быстро и бесшумно падал на них, и жрец, стоя среди лежащих, мерно бормотал, – читал тоненькие пальмовые дощечки, исписанные правилами доброго поведения. Выйдя из Храма, смотрел, как неподвижное озеро становилось зеркально-розовым от заката, как оно потом покрывалось золотым блеском, и слушал древесных лягушек, тысячами звеневших вокруг, подобно бесчисленным жестяным колокольчикам. Потом, полулежа, мчался в глубокой темноте <на> рикше по бесконечной сводчатой аллее, ведущей в Перадению, и глядел, как мелькали кругом крохотные лампочки внутри сингалезских лесных хижин» [Бунин 1973: 78].
Текст этот, тем не менее, существует совершенно в ином художественном и философском контексте, чем «Гусев»: все «цейлонские» произведения Бунина пронизаны отсылками к буддистской философии, и в наибольшей степени – «Братья», чей финал (смерть героя и отплытие океанского парохода) явно полемичен по отношению к «Гусеву», который, по мнению Бунина, финала был вовсе лишен. «Там совершенно божественный конец, – говорил Бунин в 1928 г. – Когда я кончил [читать рассказ в присутствии автора], то воскликнул: “Почему нет ничего дальше?..”, а он очень резко ответил: “Я пишу только то, что могу”. Обиделся. И я обиделся» [Кузнецова 1973: 258]. В воспоминаниях Бунин об этом небольшом конфликте умолчал. Финал же «Братьев», с буддийской притчей и неприкрытой аллегоричностью (океан как сансара, материальный мир страданий), словно бы «дописывает» «Гусева» – развивает тему так, как Чехов не захотел этого сделать. Любовь, наслаждения, желания – путь к страданию и смерти; примечательно, что в письмах Чехова подчеркиваются именно телесные наслаждения, которые и составляют прелесть этого рая на земле. Напротив, в произведениях Бунина, по словам Е.Б. Смольяниновой [2008: 157], Цейлону отводится роль «первозданного рая – хранилища древней мудрости. [...] “райская” атмосфера острова воспринимается как предпосылка к постижению древних и забытых человечеством истин». И в этом Бунин – при всей его нелюбви к мистикам и «декадентам» – безусловно, куда ближе к мадам Блаватской, чем к автору «Гусева».
Как ни парадоксально, но религиозный контекст «Гусева» – не буддистский (и не пантеистский), но христианский: рассказ был написан и отослан в «Новое время» как «святочный» (письмо к Суворину, 23 декабря 1890 г.). Это обстоятельство небезразлично для интерпретации финала, с безусловной гибелью заглавного персонажа и картиной равнодушнопрекрасной природы, озаренной «страстными» цветами заката. Показательно, что и единственное впечатление от буддистского города – это парад Армии спасения, т.е. христианской организации, явления, привнесенного в восточную жизнь.
Очевидно, что Чехов не питал особый интерес к буддизму. В записных книжках эта религия упоминается в контексте интеллигентских мод рубежа веков: «Гомеопатия, гипнотизм, буддизм, вегетарианство – все это у спирита как-то мешалось вместе» (заметки к «Ариадне», 1895). Точно в таком же плане дана ссылка на учение Будды в ранней юмореске «Несколько мыслей о душе» (1884):
«Я верую в переселение душ… Эта вера далась мне опытом. Моя собственная душа за всё время моего земного прозябания перебывала во многих животных и растениях и пережила все те стадии и животные градации, о которых трактует Будда…
Я был щенком, когда родился, гусем лапчатым, когда вступил в жизнь. Определившись на государственную службу, я стал крапивным семенем» и т.д.
В «Черном монахе» (1893) Будда, Магомет и Шекспир упомянуты в одном ряду как духовные учителя человечества (свободные от семейных забот), со вполне вероятной аллюзией на «Преступление и наказание» («[...]законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами, и так далее [...]»).
Заслуживающей внимания представляется гипотеза Н.А. Коварского, который усмотрел в пьесе Треплева из «Чайки» влияние поэмы Эдвина Арнольда «Свет Азии» (в русском переводе – «Тайна смерти»; «Северный вестник», 1892, № 1, где опубликован и рассказ Чехова «Жена»). Поэма эта была известна в России и ранее; так, она упомянута в романе А. Эртеля «Смена» (закончен в 1891 г.) [Коварский 1971: 194-195].
Если предположение верно, то буддийская проповедь, принесенная в Россию англичанином (межкультурный парадокс, который вполне мог обратить на себя внимание Чехова) оказывается в структуре «Чайки» еще одним «чужим словом», вписанным в «декадентский» контекст наряду с Метерлинком и другими влияниями.
Интерес к теме «Чехов и буддизм» возрос в последние годы по причинам, довольно характерным для современного биографического литературоведения в целом.
Жизнь писателя, как и любого исторического лица, предстает перед исследователями дискретной, поскольку складывается из разрозненных документов и содержит неизбежные лакуны, особенно – как в случае с цейлонскими днями Чехова – когда всеми наличными сведениями биографы обязаны самому «персонажу». Отсюда – неизбежное достраивание биографии, заполнение пробелов историко-культурным контекстом. Стратегии такого достраивания нередко оказываются надличностными и характеризуют целые направления в литературоведении или определенные тенденции в культуре.
Мы не говорим о более-менее вольных интерпретациях уже известных фактов, которые не могут быть ни проверены, ни опровергнуты, поскольку зависят от предполагаемой (не)правдивости предлагаемых свидетельств. Циническому упоминанию о «черноглазой индуске» в письме Чехова Суворину не противоречит мельком брошенная фраза из воспоминаний М.П. Чехова: «За все эти перипетии [морского путешествия] он был вознагражден потом на острове Цейлон, в этом земном раю. Здесь он, под самыми тропиками, в пальмовом лесу, в чисто феерической, сказочной обстановке, получил объяснение в любви от прекрасной индианки» [М. Чехов 1990: 281]. Каким образом соотносятся эти описания одного и того же события, снижающая и романтическая, – восходящие, естественно, к одному первоисточнику, – может быть установлено лишь при изучении автохарактеристик Чехова в их целостности.
Первое известное нам «достраивание» цейлонского эпизода биографии Чехова принадлежит Д.Н. Флорову (сам автор говорит о том, что он пытался «восстановить картину» [Флоров 1960: 83]). «Художественные» детали, основанные на личном опыте автора («В марте 1959 года мне довелось быть на Цейлоне...»), дают типичную – то есть лишенную уникальных черт – панораму восточной жизни. Несколько характерных примеров: «В тот же день А.П. Чехов осматривал г. Коломбо, грязный, азиатский, типично колониальный (курсив наш – М.Н.), с лавочками и европейскими магазинами, важными, щеголевато одетыми европейцами и тысячами полуголых, грязных нищих-рабов, просящих подаяния» (контраст скорее бунинский, чем чеховский). «Путешествие [в Канди] было очень тяжелое и оставило у А.П. Чехова самые неприятные воспоминания» (о неудовлетворительном состоянии цейлонских железных дорог не сообщают ни сам Чехов, ни Минаев, ни Бунин, а Щербатова, напротив, говорит об удобном вагоне-ресторане). Примечательно, что о цели визита в Канди исследователь не пишет ничего: возможный интерес писателя к культовому буддистскому сооружению то ли не принимается во внимание вовсе, то ли сознательно вычеркивается из биографии. Вполне допустимым выглядит предположение о том, что Чехов, покупая мангустов, консультировался в зоологическом саду, расположенном в семи милях от Коломбо, – что и позволило ему впоследствии поправлять самого А. Брема (Н.А. Лейкину, 10 декабря 1890 г.) [там же: 88-89]. Однако «сам зоосад образован в 30-х годах следующего века» [Капустин 2010], и, таким образом, это нетривиальное «достраивание» цейлонского эпизода оказывается ложным.
Первый и на многие годы единственный очерк, посвященный теме «Чехов и Цейлон», уже в силу этого, при всей своей полубеллетристичности, оказал определенное влияние на чеховедение. В новейшей «Летописи жизни и творчества Чехова» сообщается, что 10 (22) ноября писатель и его спутники «осматривают город, видят заклинателей змей, их представления на уличной мостовой: мангуст борется с ядовитой змеей» [Летопись 2004: 482]. Ссылка при этом дается на статью Флорова: статус биографического факта приобретает явно «достроенный» эпизод (если Чехов купил мангустов, то наверняка видел их на улицах), к тому же не вполне верный с языковой точки зрения (Минаев [1878: 9] пишет не о заклинателе, но об «очарователе змей»).
По той же схеме выстроены и новейшие биографические исследования В. Чуканова [2000]: очевидные (и незамеченные автором) ошибки – например, утверждение, будто Чехов пробыл на острове неделю, – соединяются с «художественными» фрагментами («Антон Павлович бросился к окну, чтобы закрыть его, и тут же в ужасе отпрянул» [Чуканов 2001а]) и новыми любопытными фактами (о переезде Чехова из прибрежной гостиницы «Galle Face» в «Grand Oriental Hotel» после ночной грозы). Наибольший же интерес для нашей темы представляет явный апокриф – не беремся судить, кем и для чего составленный:
«И хотя Антон Павлович не оставил ни воспоминаний, ни рассказов о днях, проведенных на “райском острове”, до сих пор там можно услышать различные мифы и легенды, связанные с его именем. [...] В одной из [легенд], в частности, говорится о встрече писателя в храме зуба Будды с неизвестным монахом - ясновидящим, работавшим многие годы в Бурятии и говорившим по-русски. Будто бы этот монах поведал Антону Павловичу, что век его короток, хотя точную дату назвать отказался.
Он дал в помощь писателю-доктору свою помощницу, весьма искусную в траволечении. Ее рецепты часто помогали больному Чехову во время кашля. Бродят рассказы о лазуритовом ожерелье, якобы подаренном писателем девушке за помощь. И что совсем уж удивительно – на грани невероятного, – будто бы она в двадцатые годы прошлого столетия передала это ожерелье сестре писателя, Марии Павловне, в Ялте» [Чуканов 2007].
Источник легенды, разумеется, не указан, а элементы, из которых она складывается, вполне различимы. Монах из Бурятии – не таинственный буддист, а спутник Чехова «иеромонах Ираклий, бурят по национальности, которого российские власти вызвали [из Сахалина] в Москву для доклада о его миссионерской деятельности среди гиляков и айно» [Рейфилд 2006: 319]. Ясновидящий целитель и его помощница («прекрасная индианка»?) – персонажи приключенческой литературы, за сто лет спустившейся на уровень китча. Показательны формулировки, с которыми Чуканов вводит в научный обиход эту маловероятную историю: «Легенды и мифы всегда роятся вокруг всех подлинно великих людей. Чехов не исключение. [...] Что тут правда, а что мифы, пусть разбираются ученыеспециалисты». Наличие легенды – чем фантастичнее, тем лучше! – мыслится как необходимый эпизод биографии. Ответственность же за анализ апокрифа возлагается на абстрактных «специалистов»: автор себя к их числу не относит (типичный для подобных работ риторический прием), но вместе с тем очевидно превосходит их своими знаниями (никто из профессиональных чеховедов ничего не знал о таинственном монахе).
В англоязычной прессе легенда уже пересказывается как факт, санкционированный «официальной наукой», на что указывают безличные конструкции и обобщенное «мы»: «На симпозиуме [в Коломбо] было указано...» [It was pointed out at the symposium that...], «Мы знаем, что Чехов...» [We know Chekhov was...]. Принципиально неразрешимый вопрос – для чего Чехов ездил в Канди и какое впечатление на него произвел город – подменяется «тайной» (название статьи: «Тайна райского острова и Антон Чехов»), которая, конечно же, получает разгадку: «Возможно, главный интерес Чехова был в том, чтобы познакомиться с буддизмом?» [Solomons 2006].
Сенсационность и, как следствие, антинаучность таких исследований и комментариев не должна заслонять их глубинного родства с другими попытками включения Чехова в культурно, социально и философски приемлемый контекст. Цейлонский цикл Бунина «дописывает» к «Гусеву» финал, последнее авторитетное слово, если обратиться к терминологии Бахтина. Биографические реконструкции трех цейлонских дней должны столь же авторитетно и окончательно восполнить главную из лакун – наше незнание (и невозможность знания) мотивов и впечатлений Чехова от поездки. В первом случае перед нами художественная полемика, во втором – ненамеренная вульгаризация, но в обоих – перевод чеховского текста (литературного или биографического) в иной жанр, в пределы поэтики «колониальной прозы», где поэтика подтекста если и возникает, то строится совершенно на иных основаниях (напомним, кстати, что Бунин редактировал русские переводы Киплинга)[2].
Полное отсутствие «Востока» в прозе Чехова («Гусев», еще раз подчеркнем, герметически закрыт на корабле, выход за пределы которого возможен или в воспоминаниях, или в смерти) на первый взгляд контрастирует с регулярными советами, которые Чехов давал молодым авторам:
«– Поезжайте в Японию, – говорил он одному. – Поезжайте в Австралию, – советовал другому»; «– Не понимаю, отчего вы – молодой, здоровый и свободный – не поедете, например, в Австралию (Австралия была почему-то его излюбленной частью света) или в Сибирь?»; «– Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к Южному полюсу, в Тибет и Аравию [...]» [Чехов в воспоминаниях 1960: 478, 563, 519].
И, наконец, возникает Индия:
«Вы человек молодой, сильный, выносливый, я бы на Вашем месте в Индию укатил, черт знает куда, я бы еще два факультета прошел» (Горькому, 3 февраля 1900 г.); «Так не хотите в Индию? Когда в прошлом есть Индия, долгое плавание, то во время бессонницы есть о чем вспомнить. А поездка за границу отнимает мало времени, она не может помешать Вам ходить пешком по России» (ему же, 15 февраля 1900 г.).
Чеховский парадокс: путешествия необходимы для обретения нового («остраняющего») взгляда, но чужеземная экзотика при этом не становится предметом изображения. Рассказ о восточном путешествии в письме Суворину (9 декабря 1890 г.) завершают известные слова «Хорош божий свет. Одно только не хорошо: мы», причем «мы» относится не к человечеству (противопоставленному чистой природе), но конкретно к русскому народу.
При этом фактическая точность была важна для Чехова даже в самом экзотическом антураже и в самых условных жанрах. Возвращая Суворину присланную тем рукопись некоего Лебедева, озаглавленную «Живая вода (Индийская легенда)», Чехов возмущался: «Цветок лотоса, лавровые венки, летняя ночь, колибри – это в Индии-то!» (30 ноября 1891 г.).
Куприн вспоминал: «Зачем это писать, – недоумевал [Чехов], – что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все» [Чехов в воспоминаниях 1960: 565].
Уже не раз отмечалось, что с этимими слова Чехова контрастирует замысел пьесы, который писатель не успел осуществить: события финала, по свидетельствам Книппер-Чеховой и Станиславского, должны были происходить на Северном полюсе, а сюжет соединял бы мотивы Метерлинка, Бальмонта и Жюля Верна [Никифоров 2000].
Ненаписанная пьеса Чехова – один из тех несбывшихся, неизбранных путей русской литературы, о которых так много размышлял в своих поздних работах Ю.М. Лотман. Соединение поэтики чеховской драмы с «декадентской» мистикой («и вот на фоне северного сияния он видит: проносится тень любимой женщины») и в высшей степени экзотическим антуражем – это продолжение линии, начатой «Черным монахом», и в то же время – диалектическое «отрицание отрицания», принятие того, что ранее писатель отрицал, пародировал или, по крайней мере, давал как «чужое слово» («Мальчики», «Летающие острова. Соч. Жюля Верна», пьеса Треплева). Краткое пребывание на острове Цейлон, столь привлекательном для Чехова-человека («Какая интересная страна Индия! Я хотел бы рассказать Вам про нее» – М.Е. Чехову, 13 марта 1891 г.) и совершенно не интересном для Чехова-писателя, – видимо, немаловажный эпизод в истории этой эволюции, которая так и не воплотилась до конца.
Литература
Бунин И.А. О Чехове // Бунин И.А. Собрание сочинений: В 9 т. – Т. 9. – М: Художественная литература, 1967. – С. 167-250.
Бунин И.А. В стране пращуров // Литературное наследство. – Т. 84. – Кн. 1. – М.: Наука, 1973. – С. 76-78.
Вашингтон П. Бабуин мадам Блаватской. История мистиков, медиумов и шарлатанов, которые открыли спиритуализм Америке. – М.: Крон-пресс, 1998. – 492 с.
Дунаева Е.Н. Плавание А.П. Чехова на пароходе «Петербург» (по материалам фонда «Добровольного флота») // Литературное наследство. – Т. 87. – М.: Наука, 1977. – С. 294–300.
Капустин Д. Цейлонский рай Антона Чехова // Знание – сила. – 2010. – № 2. – С. 119–125.
Коварский Н.А. Герои «Чайки» // Страницы истории русской литературы. К 80-летию члена-корреспондента АН СССР Н.Ф. Бельчикова. – М.: Наука, 1971. – С. 185-198.
Кузнецова Г.Н. Из «Грасского дневника» // Литературное наследство. – Т. 84. – Кн. 2. – М.: Наука, 1973. – С. 251-299.
Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. – Т. 2 / Сост. И. Ю Твердохлебов. – М., ИМЛИ РАН, 2004. – 592 с.
Минаев И. Львиный остров // Вестник Европы. – 1875. – № 2, 5.
Минаев И.П. Очерки Цейлона и Индии. Из путевых заметок русского. – СПб., 1878. – Ч. 1. – VI + 286 с.
Назаренко М. Простые рассказы с Волшебных Холмов // Реальность фантастики. – 2007. – № 6. – С. 157-180.
Никифоров Е. «На север! На север!»: Жюль Верн и неосуществленный замысел А.П.Чехова // Брега Тавриды. – 2000. – № 1. – С. 237-243.
О А.П. Чехове по материалам газеты «Новости дня» [1890].
Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова. – М.: Независимая газета, 2006. – 864 с.
Смольянинова Е.Б. Тропический рай Ивана Бунина (стихотворение «Цейлон» («Окраина земли...»)) // Русская литература. – 2008. – № 2. – С. 143-158.
Флоров Д. А.П. Чехов на Цейлоне // Волга. – Вып. 21. – Куйбышев, 1960.
А.П. Чехов в воспоминаниях современников. – М.: Художественная литература, 1960. – 834 с.
Чехов М.П. Вокруг Чехова: Встречи и впечатления // Вокруг Чехова. – М.: Правда, 1990. – С. 151-322.
Чудаков А. «Неприличные слова» и облик классика // Литературное обозрение. – 1991. – № 11. – С. 54-56.
Чуканов В. Дорога к Чехову // Москва. – 2000. – № 11.
Чуканов В. Неделя, которую Чехов провел в раю // Труд. – 18.01.2001.
Чуканов В. Чехов и Бунин на Цейлоне // Москва. – 2007. – № 1.
Щербатова О.А. По Индии и Цейлону. Мои путевые заметки 1890–1891 гг. с двумя дополнительными главами о религии и архитектуре Индии. – М., 1892. – 571 c.
Haeckel E. A Visit to Ceylon [1883].
Solomons W. Paradise island mystery and Anton Chekhov [2006].