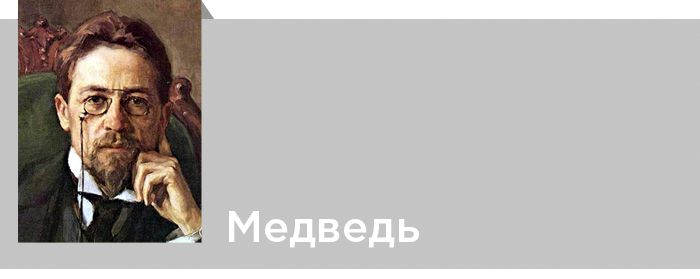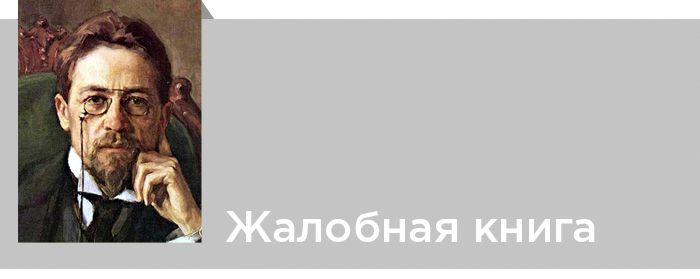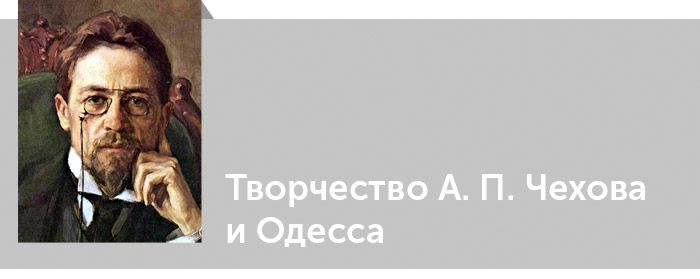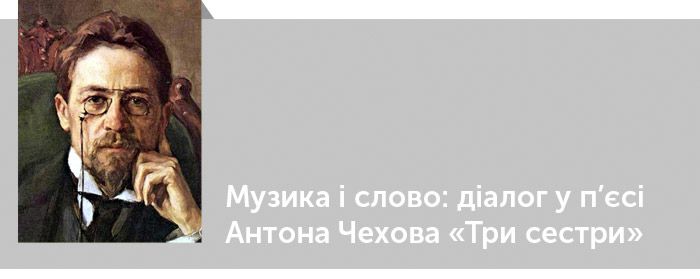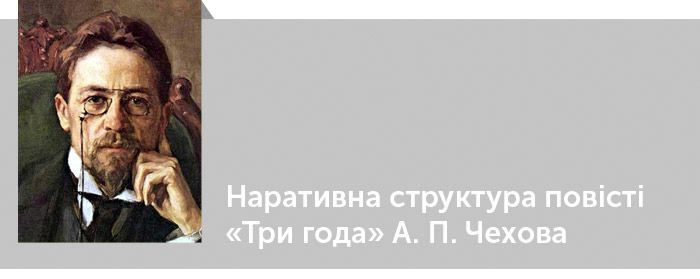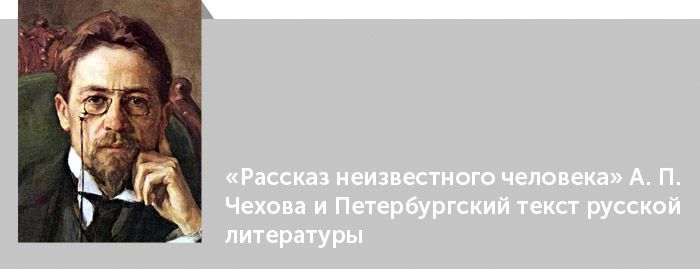Финал «огней» А.П. Чехова: нарративные границы, структура, концептуальность
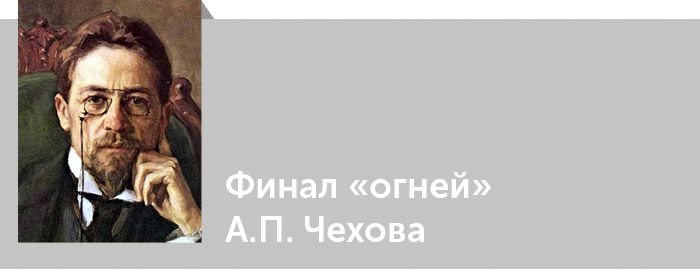
УДК 821.161.1
Филат Т. В.
В статье исследуются нарративные границы, структура, концептуальность финала «Огней» А.П. Чехова. Проблема «начала» и «конца» литературного произведения привлекает внимание и лингвистов, и литературоведов разных методологических ориентаций. Финал в произведениях Чехова никогда не бывает простым композиционным обрамлением, сюжетным завершением, его «сильная позиция» концептуализирована и чрезвычайно важна для понимания произведения.
Ключевые слова: конструктивные сегменты, семиотика, типологическая модель, интерпретационные мифологемы, финал произведения, нарративные границы текста, геройповествователь, концептуальный медиативный сегмент текста.
У статті досліджуються наративні межі, структура, концептуальність фіналу «Вогнів» А.П. Чехова. Проблема «початку» та «кінця» літературного твору привертає увагу і лінгвістів, і літературознавців різних методологічних орієнтацій. Фінал у творах А.П. Чехова ніколи не буває простим композиційним обрамуванням, сюжетним завершенням, його «сильна позиція» концептуалізована та надзвичайно важлива для розуміння твору.
Ключові слова: конструктивні сегменти, семіотика, типологічна модель, інтерпретаційні міфологеми, фінал твору, наративні межі тексту, герой-оповідач, концептуальний медіативний сегмент тексту.
The article researches into narrative boundaries, structure, conceptuality of the denouement of A.P. Chekhov’s «Lights». The problem of the «beginning» and the «end» of a literary work attracts attention of both linguists and literary scholars of different methodological orientations. A denouement in Chekhov’s works is never a simple compositional frame, completion of the plot, but its «strong position» is conceptualized and highly important for understanding of the work.
Key words: constructive segments, semiotics, typological model, interpretational mythologems, denouement of a work, narrative boundaries of the text, narrator character, conceptual mediative segment of the text.
Проблема «начала» и «конца» литературного произведения – неотъемлемых, обязательных конструктивных сегментов его текста [1], занимающих в нём «сильную позицию» [2], весьма важных в содержательном и композиционном
развёртывании произведения – привлекает внимание и лингвистов [3; 4; 5 и др.], и литературоведов разных методологических ориентаций [6; 7; 8; 9; 10 и др.]. В 1924 г. В «Манифесте сюрреализма» Анри Бретон писал, что Поль Валери задумал создать антологию типичных «зачинов» в прозаических произведениях, увидев их сходство [11, с. 42], а позже семиотик Каньо предложил некую типологическую модель «начала» литературных текстов [6, с. 229–252]. О природе финала «открытого произведения» [12], поэтика которого рассчитана на активную роль читателя в постижении его многозначности, «неопределённости» авторской позиции, писал У. Эко: «Конец текста – это ещё не конечное его состояние, поскольку читателю предлагается совершить свой собственный выбор и переосмыслить весь текст с точки зрения этого конечного решения» [10, с. 65]. При этом итальянский учёный подчёркивает, что «открытый» текст, сколь бы ни был бы он «открытым», не дозволяет «произвольной интерпретации» [10, с. 21], что должно предостерегать от увлечения созданием интерпретационных мифологем. Зрелая проза А.П. Чехова, как представляется, и это, по сути, воплощено в характеристике специфики её поэтики, данной А.Д. Степановым [13, с. 360], может быть отнесена к разряду «открытой» (по У. Эко). Анализируя финалы чеховской прозы, В.И. Тюпа в докладе «Коммуникативная стратегия чеховской поэтики», прочитанном на Международной конференции в Оттаве (10–11 декабря 2004 г.), перекликаясь с теоретической концепцией У. Эко, отметил, сосредоточившись на анализе «Архиерея» (как и в другой работе [14, с. 48]): «…Часто читатель сам должен завершить ситуацию, ибо финалы … открыты – открыты в так называемый «вероятностный мир»» [15, с. 93]. Он верно подчеркнул частое присутствие в финалах произведений писателя противоречивых смыслов. Думается, что концовка «Огней» (1988) как финал «открытого произведения» отвечает этим обобщающим наблюдениям и теоретика У. Эко, и проницательного исследователя творчества А.П. Чехова В.И. Тюпы. В отличие от других произведений Чехова, чьи финалы специально изучались [16, с. 158–175; 17, с. 29–41], «конец» «Огней» рассматривался в общем анализе этого произведения, сформировав в чеховедении традицию, восходящую ещё к современникам писателя, не совсем точного определения нарративных границ финала, породив «слепое пятно» в его интерпретации, что влияет на истолкование смысла всего произведения.
Финал у зрелого Чехова, как установлено в чеховедении, никогда не бывает простым композиционным обрамлением, сюжетным завершением, его «сильная позиция» концептуализирована и чрезвычайно важна для понимания произведения. В письмах А.П. Чехова видно, какое особое значение придавал писатель клонцовке произведения. Он писал А.Н. Плещееву (30 сентября 1889 г.): «Повесть, как и сцена, имеет свои условия. Так, мне моё чутьё говорит, что в финале повести или рассказа я должен искусственно сконцентрировать в читателе впечатление от всей повести…» [18, с. 505]. Этот свой принцип он реализует и в «Огнях». В произведении воплощается поэтика финала не только как «итога фабульного действия», но и как глубинного экзистенциального вывода о «заданной в тексте структуре мира» [10, с. 62]. Поэтому вряд ли можно согласиться с точкой зрения А. Верхозина, что «Чехов по наитию (выделено мною – Т.Ф.) применял эффекты в сильных позициях текста: в заглавиях, экспозиции, в фабульной развязке» [19, с. 176]. Писатель, который писал А.С. Суворину в октябре 1888 г., что «если бы какой-нибудь автор похвастал мне, что он написал повесть без заранее обдуманного намерения, а только по вдохновению, то я назвал бы его сумасшедшим» [18, с. 328], ко всем этим поэтологическим компонентам относился творчески осознанно, о чём свидетельствует проявленное в его письмах внимание к выбору заглавий, концовок своих творений [18, с. 305, 321, 347, 396, 488, 531], в частности, к финалу «Огней» [18, с. 531].
Ещё И.Л. Леонтьев-Щеглов увидел «конец» произведения в одной фразе: «Ничего не разберёшь на этом свете», которую как финально-итоговую постоянно цитируют при анализе «Огней» большинство чеховедов вплоть до наших дней. Один из первых критиков «Огней» писал Чехову, что «финал «Ничего не разберёшь на этом свете» отрывочен…» [18, с. 531], с чем Чехов не соглашался, защищая и его концептуальный смысл [18, с. 531]. Авторы примечаний к повести в полном собрании сочинений Чехова в тридцати томах (1977) оценили эту вызвавшую многие нарекания фразу как финальную [20, с. 647]. Так же её рассматривают В.В. Ерофеев [21, с. 427], Н.В. Капустин, хотя последний и верно связывает её смысл с влиянием идей Экклезиаста [22, с. 21]. Одну эту фразу как конечную приводит в своих работах и В.Я. Линков [23, с. 21; 24, с. 28], поставив её в заглавие раздела, подчеркнув тем самым её концептуальную природу, хотя ближе к финалу стоит другая фраза: «Да, ничего не поймёшь на этом свете!». Её цитирует, пропустив в анализе финала первую, Н.Е. Разумова [25, с. 33], убрав весьма значимое в контексте подтверждающее «да», указывающее на связь с первой фразой, хотя она и приписывается повествователем Природе [26, с. 140]. Обе фразы репрезентируют точку зрения героя-повествователя в определённом временном (раннее утро) и пространственном планах (на что указывает контекст), возникая как интеллектуально-эмоциональный завершающий итог всего увиденного и услышанного им, а не только выражают «сомнение» в верности двух концепций в споре Ананьева и студента об оптимизме и пессимизме [13, с. 357]. Но самая последняя фраза текста – «Стало восходить солнце», также входящая в состав финала [26, с. 140], как будет показано далее, вносит корректив в концепцию повествователя, скрыто полемизируя с ним.
Сложилась и другая, тоже распространённая неточность, связанная с указанием на «повторение» ключевой фразы «Огней». О «дважды повторенной фразе» писали В.В. Ерофеев [21, с. 427], Н.В. Драгомирецкая [27, с. 385], В. Катаев [28, с. 31], хотя это две разные, а не дублирующие друг друга фразы. А.Д. Степанов видит в этих двух фразах, различая их семантику, «апофатический финал», но в своей интерпретации не учитывает, как, впрочем, и многие другие чеховеды, роли микроконтекста, их разделяющего и мотивирующего появление этих ключевых выражений, не обращает внимания на заключительный абзац текста.
Входящий в состав «первичного повествования» (обрамления) финал – это скорее достаточно пространный «заключительный участок текста», если воспользоваться выражением В.И. Тюпы [29, с. 50], чем две фразы-концепты. Они входят в многоступенчатый финал как опорные, «стратегически» расположенные: первая «Ничего не разберёшь на этом свете!» выделена в отдельный абзац, а вторая – «Да, ничего не поймёшь на этом свете!» [26, с. 140] – завершает следующий абзац. Но в концовку «Огней» входит и сегмент текста, предшествующего первой фразе, где герой-повествователь вспоминает «разговор» о пессимизме, о событиях ночи, о рассказе о Кисочке и наблюдает утреннюю стройку. В финал также включается повествовательный фрагмент, находящийся после первой фразы, где дан пейзаж «угрюмой равнины». Эти «заключительные участки текста» фиксируют ход мысли героя-повествователя, время и место его нахождения, влияющие на его «точку зрения» – на его фразы-концепты. А.П. Чехов художественно трактует персональную «точку зрения» как «узел условий, влияющих на восприятие и передачу событий» [30, с. 121], совмещает, если воспользоваться рубрикацией Б. Успенского [31] в «Поэтике композиции», темпоральные, пространственные и «идеологические» аспекты «точки зрения». Завершает «заключительный участок текста» фраза «Стало восходить солнце…», выделенная в абзац и снабжённая многоточием, графически указывающим на незавершённость, открытую концовку произведения. Эту финальную фразу обычно исследователи не замечают. Н.Е. Разумова [25, с. 47] видит в ней лишь перекличку с предшествующим пейзажем, а В.Д. Седегов просто констатирует, что она «короткая и светлая» [32, с. 81], хотя её семантика и функции, как будет показано далее, значительно сложнее и весомее в художественной системе «Огней».
Две фразы-концепты, хотя и близки по смыслу и по построению (они апофатичны), также отмечены общей аспектуальной семантикой процессуальности, не ограниченной во времени, – «разберёшь», «поймёшь». Их объединяет и форма безличного оборота, где отсутствие личного местоимения позволяет включить в состав «все» и «я в том числе», что приводит к генерализации фраз как концептов. Они обе возникают на «стыке» визуального наблюдения повествующего и его мысли, передавая психологию восприятия и размышления. Но при этом сходстве эти фразы всё же дословно не повторяют друг друга, и потому не могут считаться «повторенными дважды». Эти фразы отличаются и опорными глаголами: «разберёшь» – «поймёшь», хотя и синонимичными, принадлежащими к одному семантическому гнезду слова «познание», но содержащими разные оттенки значения, что принципиально важно. Опорным словом в первой апофатической фразе-выводе служит глагол «разберёшь» с отрицательной частицей «не»; семантические оттенки его, как указывает словарь [33, с. 623], связаны с понятием «вникнуть», «обсудить», «подвергнуть анализу». Непосредственно контекстуально фраза «Ничего не разберёшь на этом свете», мысленно сформулированная, возникает после обозрения повествователем утренней стройки, полной звуков, предметов, людей и имеет прямое отношение, звуча как запоздалая реплика к спору о пессимизме, к разной трактовке огней персонажами, к «истории с Кисочкой», – все эти моменты повествователь сам перечисляет [26, с. 140]. Вторая фраза – «Да, ничего не поймёшь на этом свете!», приписываемая окружающей Природе – равнине, небу, лесу, дали, – возникает в другом контексте, где дан другой пейзаж, безлюдный, полный безмолвия, располагающий к вопрошанию о тайнах бытия, она предстаёт как результат дальнейшего развития мысли уехавшего со стройки повествователя: «Я думал…» [26, с. 140]. Она дана как подтверждающая реплика одушевлённых компонентов Природы: «Я думал, а выж женная солнцем равнина, громадное небо, темневший вдали дубовый лес и туманная даль как будто говорили мне: «Да, ничего не поймёшь на этом свете!» [26, с. 140]. Эта фраза содержит более широкое обобщение, соотносится с восприятием пейзажа, отнюдь не отстранённого и умиротворённого, а настораживающего и тревожного благодаря особой семантике оценочных эпитетов («выжжены», «громадное», «туманная»), в которых ощутимы черты «негативного мифа русского пространства», прозвучавшего в «Степи» [34, с. 16]. Н.В. Драгомирецкая оценивает эту фразу как позицию «несудящего писателя», который отмечает «отсутствие логики в мире» [27, с. 404]. А.Д. Степанов прав, полагая, что первая фраза даётся с точки зрения «временного», а вторая – с точки зрения «вечного» [13, с. 357], хотя никак текстуально не обосновывает этого суждения. К тому же автор интереснейшей работы о специфике коммуникации у Чехова не отмечает, что эти фразы не рассчитаны на общение с «другими», сказаны «про себя» и обращены к «идеальному читателю». Они принадлежат внутренней речи повествователя, соотнесены с концепцией «Огней», где и случайность встречи героя-повествователя с инженером и студентом, и хаос стройки, и разное восприятие огней, и нежелание вступать в спор о пессимизме студента фон Штенберга и героя-повествователя, и отсутствие взаимопонимания между Кисочкой и Ананьевым подчинены отражению чеховского мировидения, передают психологическую неоднородность и разомкнутость мира. Фразы-концепты оказываются суждением не о спорной для студента и инженера этической правомочности пессимизма, а направлены, по существу, на более широкий круг явлений, которые скрыты и в семантике огней, и в их текстуальных коннотациях (свеча, фонарь, спички, солнце), и в истории с Кисочкой, и в комической сцене с мужиком, привёзшим котлы не по адресу. Эти фразы предстают не в «обращённом», а во «внутреннем» монологе, который не требует отклика, они принадлежат внутренней речи и связаны не только с определённым объектом мысли, но особенно тесно соотнесены и с местом и временем их возникновения. Первая фраза, заключённая в кавычки, выделенная в специальный абзац, что акцентирует её значимость, но отделяет от предшествующего мини-контекста, где доминируют внешние, визуальные наблюдения, передаёт невысказанную вслух мысль повествователя – итог ночных и утренних наблюдений. Вторая фраза, столь же эмоционально-экспрессивная благодаря восклицательной интонации, апофатичная, как и первая, отличается усиливающим её утверждающий пафос подтверждающим словом «да». Это связывает её с первой фразой, как и то, что, тоже мысленно сказанная, она представляет собой «соглашательную» реплику Природы во внутреннем диалоге повествователя с ней. Но она отличается от первой иным семантическим оттенком опорного глагола «поймёшь» с отрицательной частицей «не» – «ничего не поймёшь». Значение этой лексемы связано с понятиями «уяснить себе сущность, постичь чтото» [33, с. 291]. Первая фраза, как отмечалось, и по контексту, и по семантике в большей мере относится к впечатлениям от пребывания на стройке, ночного «разговора», именно «разговора», а не спора, даже не диалога, что убедительно раскрыл А.Д. Степанов [13, с. 126], «истории с Кисочкой» и т. д., где доминирует мотив взаимного непонимания людей, как верно подчёркивает Е.Н. Петухова [35, с. 75], – от Кисочки до мужика, сдающего котлы не по адресу. Вторая более тесно связана с микроконтекстом тем, что завершает пейзаж, где сопряжены «верх» («громадное небо») и «низ» («выжженная солнцем равнина»), «темневший вдали дубовый лес» и «туманная даль» как «знаки» безграничной перспективы «печального» мифа русского пространства. И в то же время эта оппозиция (земля – небо) второй фразы соотнесена с космологической схемой, несёт в себе, по сравнению с первой, более широкое и глубокое философское обобщение, связанное с признанием сложности постижения всего сущего. Ибо вторая фраза, приписываемая повествователем Природе, перекликаясь, дополняет и подтверждает первую, где констатируется невозможность разобраться в многосложных человеческих отношениях. Фраза, сказанная повествователем от имени Природы, подчёркнуто эмоциональная, как и первая (благодаря восклицательному знаку), и приводимая в качестве подтверждения её верности, тоже находится в поле сознания нарратора и возникает как реакция на предшествующее ей обозрение одновременно естественного и знакового природного пространства, которое одушевляется. Эти две фразы объединяют мир людей и мир Природы, как бы уравнивают их на основе их многосложности и трудности постижения. Это свидетельствует о том, что чеховская философия жизни ставит собственно познавательные цели и содержит вывод о сложности постижения действительности и, главное, о невозможности уложить концепцию действительности в прокрустово ложе однозначной теоретической доктрины «пессимизм – оптимизм», «разговор» о которой лежит в вербальном центре начального «первичного повествования». Если в первой фразе можно усмотреть реплику несостоявшегося диалога с инженером и студентом и, по Бахтину, она «живёт на границе с чужой мыслью, с чужим сознанием» [36, с. 55–58], то вторая, продолжая первую, расширяет её смысл. В двух фразах заключён не приём дублирования, как обычно полагают чеховеды, а варьирования и дополнительности, что акцентирует важность смысла, заложенного в высказываниях. Фраза «Ничего не разберёшь на этом свете!» содержит в себе не только философское обобщение, но о передаёт психологию повествователя. Она представляет собой безличный оборот, мысленно обращенный повествователем к себе, ибо, судя по психологическому подтексту, раскрываемому семантикой и формой речевого потока «Огней», он малообщительный человек, не расположенный делиться своими мыслями с другими (феномен так называемого «уединённого сознания») и «исповедующий» нарративную «объективную» позицию, последовательно выдержанную на протяжении всего произведения. Повествователь никого не поучает, не «наставляет», как Ананьев: в наррации произведения они контрастируют. Мысленно высказанные фразы возникают у повествователя как готовый вывод без изображения внутреннего психологического процесса прихода к этому обобщению и адресованы читателю. Чехов формировал новый тип отношений «писатель – текст – читатель», где за последним закрепляется роль интерпретатора текста, преодолевающего его многозначность, недосказанность, скрытый смысл: читатель должен сам увидеть связь между этим итоговым выводом и всем тем, о чём поведал ранее герой-повествователь, при этом важную роль играет и ближайший микроконтекст. Поэтому вряд ли верно утверждение Е. Ушаковой, что прямой предтечей фразы – «визитной карточки писателя» [37, с. 112] «Ничего не разберёшь на этом свете!» была фраза в юмористическом рассказе «Марья Ивановна» (1884) «Ничего не разберёшь на этой земле!» [38, с. 312], явно введённая в насмешливо-иронический контекст. Здесь с мнимой серьёзностью речь шла о правоте или неправоте читательского суждения, о фрагментах предлагаемого рассказа, о присяжных, не знающих, «кто виноват: человечек ли, деньги ли, что плохо лежали, сами ли они, присяжные, виноваты, что родились на свет» [38, с. 312], а после этого шла фраза «Ничего не разберёшь на этой земле!», не обладающая глубиной философского обобщения, которая появится в «Огнях». Эмоционально-экспрессивные, внутренне соотносимые и связанные общей семантикой и похожей синтаксической структурой апофатические умозаключения в «Огнях» свидетельствуют, что повествователь всё более утверждается в мысли о сложности познания противоречивого мира. Это делает произведение Чехова «рассказом прозрения», где центральной этико-философской проблемой выступает проблема соотношения «человек – мир». Благодаря двум фразам-обобщениям, связанным между собой, где вторая охватывает более широкий круг явлений, фразам, сказанным «для себя» и «про себя» повествователем, разделёнными и значащим нарративным фрагментом, А.П. Чехов создаёт то, что Г.-Г. Гадамер называет «движением смысла» [39, с. 137]: передаётся мысль произведения в её кульминационных моментах, создавая особую динамику повествования. Эти две фразы обращены только к читателю, а не к персонажам, входят в «событие самого рассказывания», если воспользоваться выражением В.И. Тюпы [29], и составляют лаконичный, но концептуальный медиативный сегмент текста произведения. Как давно установлено, А.П. Чехов защищал и интерпретировал «Огни» в своих письмах А.С. Суворину [18, с. 322] и И.Л. Леонтьеву-Щеглову [18, с. 531], подчёркивая концептуальную насыщенность вывода о сложности постижения мира и человека, который он сам исповедовал [18, с. 322, 531].
Разумеется, нельзя говорить о тождестве автора и повествователя в «Огнях», однако, как верно пишет А. Прието, «нарративный субъект» «в какой-то мере является отражением автора» [40, с. 383], а так как письмам и творчеству Чехова присуще «единство видения» мира [41, с. 220–244], то можно утверждать, что «резюме» повествователя А.П. Чехов разделяет. Однако наличие последней фразы-абзаца повести – «Стало восходить солнце» [26, 41] – показывает неадекватность конечных выводов нарративного субъекта и автора, концепция которого сложнее миропонимания повествователя и отчасти противоречит ему. В этой фразе слово «двуголосое», по выражению М. Бахтина [36, с. 256]: оно принадлежит и повествователю в своём прямом значении, и автору, который создаёт символическую образность, скрытую в слове «солнце» и в семантике всей фразы, а в подтексте предлагает «сверхсмыслы», рассчитывая на коннотации, ассоциации читательского восприятия. «В чеховских текстах, – верно пишет М. Виноградова, – лексическое значение слов значимо лишь настолько, насколько даёт возможность заглянуть за них, за слова» [42, с. 146]. За словом «солнце» стоит сложная и разнообразная семантика, в том числе и архетипическая семантика, на которую, возможно, рассчитывал Чехов. Ведь «в художественном тексте существует сознательная установка на одновременную актуализацию всей семантической структуры слова» [43, с. 88], что присутствует и в опорном слове последней фразы «Огней».
Последняя фраза «Огней» «Стало восходить солнце…» фиксирующая восход солнца как явление физическое, метеорологическое, имеет в подтексте, соотнесённом с общим контекстом произведения, и метафорическую и мифопоэтическую семантику. «Солнце» – ёмкое слово-образ, который существует в общечеловеческом сознании, богатый многими смыслами, сходящимися вместе, «семантической аурой» (В.В. Иванов). У Чехова в «Огнях» в соответствии с контекстом заложен широкий круг сложившихся в культурном сознании коннотаций слова «солнце»: и благо истины, и символ «озарения» и познания, что блестяще интерпретировал М. Хайдеггер [44]. Ю.А. Филипьев считает солнце наряду с небом и морем эстетическим «сигналом» красоты и радости [45, с. 54–88], как и А.Б. Есин [46, с. 248]. Солнце имеет древний многозначный архетип, связанный с идеей «циклического мифа» Экклезиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» [47, 1:6-7,9]. Также «солнце» возникает в экклезиастическом рассуждении о том, что «…человек не может постичь дел, которые делаются под солнцем» [47, 8:17]. Профанно-бытовой смысл слова «солнце» реализуется в восприятии повествователя, а в подтексте соотносится с потенциальным архаическим мифологическим смыслом, освящённым философской традицией (Платон, Экклезиаст). В упоминании солнца скрыта культурная отсылка, даётся приблизительная, скрытая цитата, объединяющая культурные и художественные универсалии. Неточная цитата, реминисценция из Экклезиаста в финале «Огней», краткая, семантически ёмкая и генетически скрыто концептуальная, как всякая цитата в конце произведения, к тому же выделенная в абзац, что усиливает её значимость и ещё более подчёркивает её «сильную позицию», выражает убеждения Чехова. Эта финально-открытая, благодаря многоточию, фраза произведения (скрытая цитата) становится одним из «нервных узлов» чеховского творения с особой семантико-ключевой нагрузкой в выражении идейного комплекса произведения. Она, завершая «Огни», намекая на вечный круговорот в природе, входит в ступенчатую структуру финала, соотносится с двумя фразами-концептами как некая иная перспектива (что усилено многоточием открытого финала) возможности «освещения», «просветления» проблемы постижения сложности мира, тая в себе один из архетипических аспектов семантики слова «солнце» (платоновский).
Мотив восходящего солнца, который в славянском фольклоре имел значение «субъекта созидающего света», несущего радость [48, с. 36–37], связан с пронизывающей «Огни» оппозицией «тьма – свет» в буквальном и метафорическом значении. «Солярный» мотив финала, благодаря своей «цитатной природе», «на малой площади текста» создаёт «смысловое напряжение» [49, с. 484], концентрируя семантику заглавного образа – огней. «Солярный мотив» вводит в произведение обширное смысловое содержание, внутренне не совпадающее с заключительными сентенциями повествователя, корректируя и дополняя их некой оптимистической перспективой возможного преодоления незнания (по Платону), неразберихи мира, что может служить опровержением сложившегося ещё в начале ХХ в., подхваченного и позднее, мнения о чеховском «злейшем пессимизме» и агностицизме. В подтексте финальной фразы, реминисценции из Экклезиаста [1:6], утверждается мысль о высшем смысле бытия как вечного самоценного круговорота в природе, круговращения жизни, отражается объективный ход бытия, «временность» которого противопоставлена «вечности» солнца, – бытия многосложного, запутанного, не подлежащего однозначному определению. Всё это заложено в подтексте – типичном поэтологическом компоненте пребывания авторского сознания в чеховской прозе. Ход солнца неумолим и необратим – и в этом заключена спасительная сила бытия. Философская семантика образа солнца, его концепт прямо не раскрываются, а лишь номинируются в расчёте на читательские ассоциации и знание реципиентами коннотации слова «солнце». Лексико-грамматические и синтаксические особенности последней фразы финала, выделенной в самостоятельный абзац, несущей в себе перебив тональности, в своей лаконичности оттеняющей предшествующий описательный пространный абзац, который завершается одной из ключевых фраз «Огней»: «Да, ничего не поймёшь на этом свете!» – в сочетании с многоточием делают её предложением генеративного, порождающего регистра, где нет прямого показателя субъекта речи всего произведения. Благодаря отсутствию указания на субъект восприятия восходящего солнца эта фраза как бы обособляется от субъективного «я» повествователя, но фиксирует влияние внешнего хронотопа на его самоощущение «я-в-мире», может принадлежать и «авторской речи». Возникает как бы стыковка двух голосов, пересечение собственно авторской и персонажной точек зрения, где повествователь фиксирует лишь метеорологические явления, а автор имеет в виду скрытую многозначность слова-образа «солнце», рассчитывая на «идеального читателя». Эта финальная фраза обретает более объективно-констатирующий смысл, что усилено её статусом самостоятельного абзаца, разомкнутого в более широкую реальность, чем созданный художественный мир «Огней». Такая фраза, высказанная в общем пространстве гомодиегетической наррации, входит и в пространство героя-повествователя, и в пространство автора, и в пространство произведения, т. е. во все три взаимопроникающие сферы, где нет чётких границ. Разумеется, нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что Чехов сознательно использовал сложившуюся в культурной традиции семантику мифологемы солнца, хотя и общий концептуальный контекст произведения с его сквозным мотивом «огни – тьма», и семантика двух опорных фраз, посвящённых проблеме познания, как и присутствие образа солнца с такой же семантикой в чеховском отрывке – монологе царя Соломона, написанного в том же году, что и «Огни», дают основание предположить авторскую интенцию, расчёт на рецепционную перспективу восприятия этого образа в художественном строе произведения, посвящённого этико-философской проблеме сложности постижения сущего.
Нарративный путь передачи концепции жизни, бытия у А.П. Чехова весьма сложен, что особенно ощутимо в многоступенчатом финальном сегменте текста: признание непонятности мира, прямо вербально сформулированное, дополняется многозначной и скрытой семантикой образа восходящего солнца как носителя возможного «просветления», скрытой мудрости природы, благого миропорядка, что корректирует ключевые фразыконцепты финального отрезка текста.
А.П. Чехов в «Огнях» не склонен разделять и акцентировать пессимистическую доктрину жизни как «бытия-к-смерти» (Хайдеггер), он исповедует другой аспект: осознание неоднозначности мира, сложности его постижения, непродуктивности использования однозначных концепций, доктрин в жизнеповедении и миропонимании, не отвергая самой возможности познания. Писатель осознаёт и художественно передаёт концепцию: «мир основан на неоднозначности», а это, как считает У. Эко, – этико-философская основа поэтики «открытого произведения» ХХ в. [12, с. 38], каким является произведение «Огни».
Список использованной литературы
1. Isenberg Horst. Uberlegungen zur Texttheorie / ASG – Bericht, 1968. – № 2. – S. 1–18.
2. Арнольд И.В. Значение сильной позиции для интерпретации художественного текста / И.В. Арнольд // Иностранный язык в школе. – 1978. – № 4. – С. 24–27.
3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – М.: Высшая школа,1984. – 152 с.
4. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста / Л.Г. Бабенко, И.Е. Васильев, Ю.В. Казарин. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. – 516 с.
5. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика / Л.Г. Бабенко, Ю.К. Казарин. – М.: Флинта; Наука, 2003. – 496 с.
6. Каньо Э. К вопросу о начале текста в литературном произведении / Э. Каньо // Семиотика и художественное творчество. – М.: Наука, 1977. – С. 229–252.
7. Бремон К. Структурное изучение повествовательных текстов после В. Проппа /
К. Бремон // Семантика. – М.: Наука, 1983. – С. 429–436.
8. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная эстетика и теория литературы ХIX–XХ вв. / Р. Барт. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – С. 387–422.
9. Лотман Ю.М. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман. – М.: Искусство, 1970. – 383 с.
10. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / У. Эко. – М.: Симпозиум, 2005. – 512 с.
11. Бретон А. Манифест сюрреализма / А. Бретон // Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ века. – М.: Прогресс,1986. – 638 с.
12. Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределённость в современной поэтике: пер. с итал. / У. Эко. – СПб.: Академический проект, 2004. – 384 с.
13. Степанов А.Д. Проблемы коммуникации у Чехова / А.Д. Степанов. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 400 с.
14. Тюпа В.И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» А.П. Чехова) / В.И. Тюпа. – Тверь: Тверской гос. ун-т, 2001. – 58 с.
15. Чеховский вестник. – М.: Изд-во «Скорпион», 2005. – № 16. – 148 с.
16. Катаев В.Б. Финал «Невесты» / В.Б. Катаев // Чехов и его время. – М.: Наука, 1977. – С. 158–175.
17. Доманский Ю.В. Особенности финала чеховского «Архиерея» / Ю.В. Доманский // Чеховские чтения в Твери: сб. научн. тр. Вып. 3. – Тверь: Тверской гос. ун-т, 2003. – С. 29–41.
18. Переписка А.П. Чехова: в 3 т. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Художественная литература, 1996. – Т. 1.
19. Верхозин А. Образ читателя в письмах Чехова // Молодые исследователи Чехова. 5: Материалы Международной научной конференции. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – С. 165– 177.
20. Примечания. Огни // Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. / АН СССР. Ин-т мир. лит. им. А.М. Горького. – М.: Наука, 1985. – Т. 7. – С. 648–649.
21. Ерофеев В.В. Стилевое выражение этической позиции (стили Чехова и Мопассана) / В.В. Ерофеев // Типология стилевого развития ХIХ века. – М.: Наука, 1977. – С. 421–435.
22. Капустин Н.В. О библейских цитатах и реминисценциях в прозе Чехова конца 1880-х – 1890-х годов / Н.В. Капустин // Чеховиана: Чехов в культуре ХХ века: Статьи, публикации, эссе. – М.: Наука. – С. 17–26.
23. Линков В.Я. Скептицизм и вера Чехова / В.Я. Линков. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 80 с.
24. Линков В.Я. Художественный мир прозы Чехова / В.Я. Линков. – М.: Изд-во Моск. университета, 1982. – 128 с.
25. Разумова Н.Е. Творчество А.П. Чехова: Смысл художественного пространства (1880-е гг.): пособие по спецкурсу. Ч. I / Н.Е. Разумова. – Томск: Изд-во ТГУ, 1997. – 77 с.
26. Чехов А.П. Огни // Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т./ АН СССР. Ин-т мир. лит. им. А.М. Горького. – М.: Наука, 1985. – Т. 7. – С. 105–140.
27. Драгомирецкая Н.В. Объективизация слова героя / Н.В. Драгомирецкая // Типология стилевого развития ХIХ в. – Л.: Наука, 1978. – С. 383–420.
28. Катаев В.Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации / В.Б. Катаев. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 327 с.
29. Тюпа В.И. Аналитика художественного. Введение в литературоведческий анализ / В.И. Тюпа. – М.: Лабиринт, РГГУ, 2001. – 192 с.
30. Шмид В. Нарратология / В. Шмид. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.
31. Успенский Б. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы / Б. Успенский. – М.: Искусство, 1970. – 390 с.
32. Седегов В.Д. Образ рассказчика-повествователя в произведениях А.П. Чехова конца 80-х годов / В.Д. Седегов // Творчество А.П. Чехова. – Ростов-на-Дону: Книжное издательство, 1984. – С. 65–82.
33. Словарь русского языка: в 4 т. – М.: Высшая школа,1984. – Т. 3.
34. Джексон Р.-Л. Время и путешествие: метафора для всех времён. «Степь. История одной поездки» / Р.-Л. Джексон // Чеховиана: Чехов в культуре ХХ века: Статьи, публикации, эссе. – М.: Наука. – С. 8–17.
35. Петухова Е.Н. Чехов и «другая проза» / Е.Н. Петухова // Чеховские чтения в Ялте: Чехов и ХХ век: сб. науч. тр. Вып. 9. – М.: Наследие, 1997. – С. 71–80.
36. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского / М.М. Бахтин. – М.: Художественная литература, 1972. – 471 с.
37. Ушакова Е. Метатекст в рассказе А.П. Чехова «Марья Ивановна» / Е. Ушакова // Молодые исследователи Чехова. 5: Материалы Международной научной конференции. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – С. 109–112.
38. Чехов А.П. Марья Ивановна // Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. / АН СССР. Ин-т мир. лит. им. А.М. Горького. – М.: Наука, 1975. – Т. 2. – С. 312–314.
39. Гадамер Г.-Г. Філософія і література (1981) // Г.-Г. Гадамер. Герменевтика і поетика. Вибрані твори. – К.: Юніверс:, 2001. – С. 127–144.
40. Прието А. Из книги «Морфология романа». Нарративное произведение: пер. с исп. / А. Прието // Семиотика / Составление, вступит статья и общая редакция Ю.С. Степанова. – М.: Наука, 1983. – С. 370–399.
41. Чудаков А.П. Единство видения: письма Чехова и его проза / А.П. Чудаков // Динамическая поэтика от замысла к воплощению. – М.: Наука, 1990. – С. 220–244.
42. Виноградова М. «Вскрыть предмет, поставленный перед объективом. А.П. Чехов и С.М. Эйзенштейн / М. Виноградова // Молодые исследователи Чехова. 5: Материалы международной научной конференции. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – С. 144–152.
43. Гладилина И. Апология серого? От грамматики к семантике / И. Гладилина // Молодые исследователи Чехова. 5: Материалы Международной научной конференции. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – С. 86–92.
44. Хайдеггер М. Учение Платона об истине / М. Хайдеггер // Историко-философский ежегодник, 86. – М.: Наука ,1998. – С. 555–275.
45. Филипьев Ю.А. Сигналы эстетической информации / Ю.А. Филипьев. – М.: Наука, 1971. – 112 с.
46. Есин А.В. Психологизм // Введение в литературоведение: учеб. пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, А.Я. Эсалнек и др. – М.: Высшая школа, 2004. – С. 236–251.
47. Библия. Книги священного писания Ветхого Нового Завета. – М.: Новая жизнь, 1991. – 1376 с.
48. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков. – М.: Наука, 1981. – 608 с.
49. Фоменко И.В. Цитата // Введение в литературоведение: учеб. пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, А.Я. Эсалнек и др. – М.: Высшая школа, 2004. – С. 477–487.
Одержано 21.01.2013.