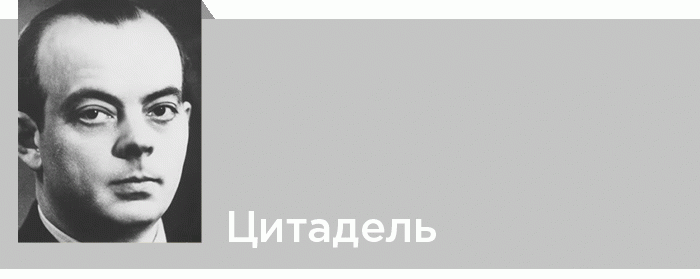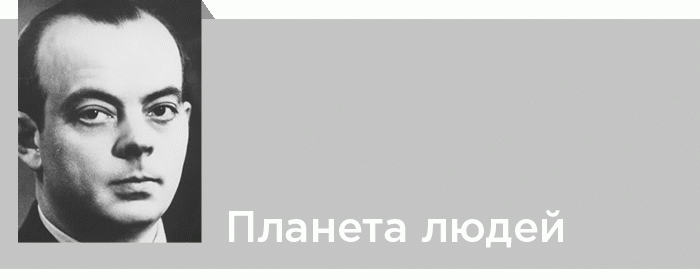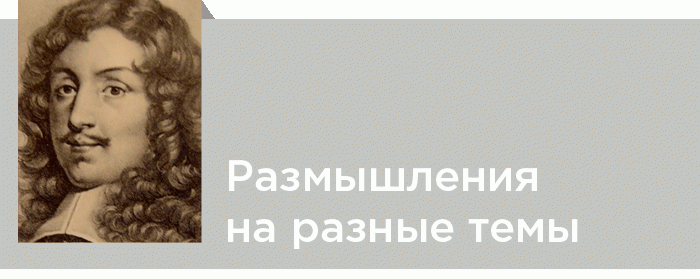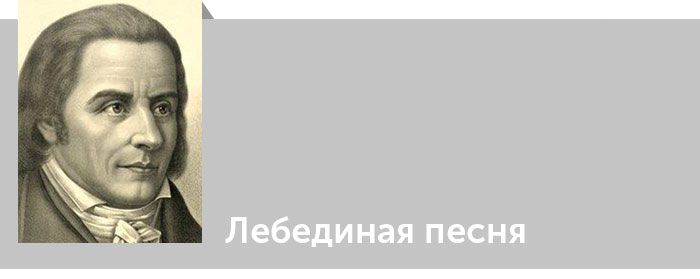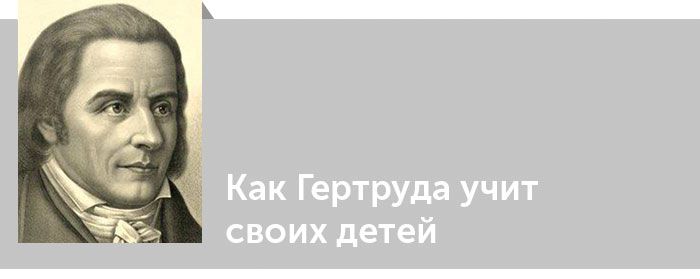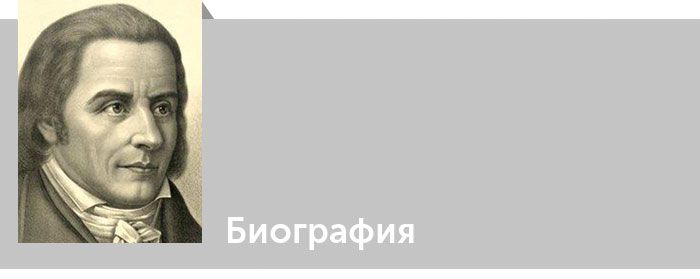История швейцарской литературы. Том 1. Глава 18. Иоганн Генрих Песталоцци
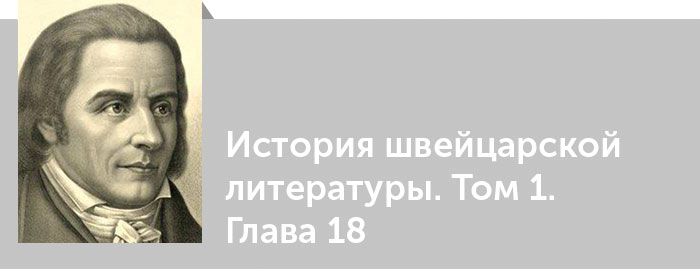
Иоганн Генрих Песталоцци (Johann Heinrich Pestalozzi, 1746-1827) вступил в литературу на исходе эпохи “Бури и натиска”, глубоко восприняв культурный пессимизм Руссо с его критикой верхушечной, антинародной цивилизации и “фаустовское” разочарование в книжной культуре своего “чернильного века”. Подобно Гердеру и Гаману, Лафатеру и Иоганну Мюллеру он отвергает науку как рационалистическую систему отвлеченного знания и литературу как оторванную от народной жизни изящную словесность и подчиняет свои литературные и научные интересы практической деятельности педагога и реформатора.
Идеал общественного служения определяет всю жизнь Песталоцци, начиная со студенческих лет, когда он, ученик старика Бодмера в цюрихском “Коллегиум Каролинум”, интересуется не столько научными, сколько политическими воззрениями своего учителя, и, не закончив образования, отказывается от академической или духовной карьеры, чтобы всецело посвятить себя патриотической деятельности в основанном Бодмером “Гельветическом обществе”1. Юношеский радикализм его членов, цюрихских “патриотов”, называвших себя иногда “Молодым Цюрихом”, позволяет рассматривать “Гельветическое общество” как своего рода прообраз тех молодежных группировок, которые будут определять литературное развитие Германии в 1770-е годы — кружка “рейнских гениев” во главе с Гете и Гердером и кружка “геттингенских бардов” под покровительством Клопштока. Идолом бунтующей молодежи Цюриха, как позднее и немецких “бурных гениев”, является Руссо, к учению которого восходит и их критика пороков современного общества, и их мечта о духовном и политическом возрождении патриархальной, демократической Швейцарии. В отличие от немцев, швейцарцы не переносят общественный протест в область эстетического мировоззрения, но, ставя перед собой социально-политические задачи, они не знают путей их разрешения и ограничиваются пламенными речами в кружке единомышленников; единственным примером политической активности патриотов осталось разоблачение Лафатером одного из чиновников городского магистрата2.
“Мы были воспитаны не делать хорошее, а только мечтать о нем”, — писал позднее Песталоцци вдове Лафатера, вспоминая о “Молодом Цюрихе” 1760-х годов3. Именно стремление “делать хорошее” заставляет Песталоцци заняться изучением передовых методов сельскохозяйственного производства под руководством бернского помещика-филантропа Чифелли. Внешним толчком к этим занятиям стала женитьба и необходимость обеспечивать существование семьи, причиной внутренней — жажда усовершенствования мира. Переосмыслив сентиментальное “народничество” своей юности в духе учения французских и бернских физиократов, Песталоцци покупает под Цюрихом небольшое имение “Нойгоф” и пытается на практике доказать значение агрономических преобразований как средства достижения общественного блага. Он настолько увлекается экономическими расчетами, что друзья-“патриоты” предостерегают его от “парижской морали”, т.е. от философии обогащения, несовместимой с руссоистскими убеждениями4. Однако Песталоцци — слишком энтузиаст и теоретик, чтобы добиться практического успеха. Через три года его сельскохозяйственные опыты завершаются полным крахом, и под угрозой банкротства он принимает главное решение своей жизни — создать в Нойгофе трудовую сельскохозяйственную школу для детей бедняков (Armenanstalt), имеющее целью “мелиорацию крестьянских душ”, которая важнее, чем мелиорация крестьянских полей. И хотя Нойгофский приют, поглотив остатки состояния Анны Шультгейс, жены и единомышленницы Песталоцци, также должен был вскоре закрыться из-за недостатка материальных средств, именно здесь берет начало великая педагогическая утопия, над осуществлением которой Песталоцци самоотверженно трудился до конца своих дней — и как воспитатель беспризорных детей в разрушенном революцией Стансе (1798), и как директор интерната и руководитель учительского семинара в Бергдорфе (1800-1804), и как глава прославленного педагогического института в Ивердоне (1805-1825).
Главным результатом его деятельности явилась разработка метода “элементарного воспитания”, направленного на всестороннее гармоническое развитие человеческой личности в духе просветительского гуманизма. Но даже став автором знаменитого “метода”, признанный философами и обласканный монархами как автор книг и статей, излагающих его принципы, Песталоцци продолжает считать себя не писателем, а педагогом-практиком, и постоянно предупреждает своих учеников, что метод существует не для того, чтобы о нем писали, а для того, чтобы его практиковали.
По мере становления “метода” Песталоцци все больше проникается присущим ему уже в юности мессианским сознанием. Исповедуясь в письмах к друзьям, он часто играет библейским контрастом человеческого ничтожества и божественного призвания, говорит о себе как о “слепце, не знающем пути”, но ведомом высшей волей, всячески подчеркивает, что дух метода является как откровение, и только его буква есть дело конечного человеческого рассудка5.
Подготовка крестьянских детей к деятельной, трудовой и нравственной жизни — первая и ближайшая задача метода — неразрывно связана у Песталоцци с задачей более отдаленной и общей — воспитанием человеческого рода. За школьной дидактикой, составлением математических таблиц и речевых упражнений стоит стремление привить людям систему взглядов и правил поведения, отвечающих тому “сокровенному божественному началу, которое отличает нас от всех прочих живых существ и составляет сущность человеческого”6. “Друг, — пишет Песталоцци одному из своих покровителей, — мы думали, что посеяли семена, чтобы насытить голодающих вокруг нас, но мы посадили могучее дерево, чьи ветви распространятся на весь земной шар и соберут под свою тень все народы мира”7. Вот почему он видит себя не литератором и не школьным чиновником, а учителем и реформатором человечества, вторым Цвингли, Кальвином, Лютером, которому суждено завершить дело Реформации — уничтожить мировое зло и вывести страждущие народы на путь истины, предначертанной богом, но затерявшейся в неразберихе всемирной истории.
Характерны постоянные сопоставления “метода” с Французской революцией, которой Песталоцци посвятил книгу под названием “Да или нет” (“Ja oder Nein”, 1792). С одной стороны, он противопоставляет революцию и метод как разрушение и созидание, как пышный спектакль, вобравший в себя дух “мишурного Просвещения” и бесшумный переворот на последних глубинах человеческого сознания. С другой стороны, и революция, и метод включены у Песталоцци в общую эсхатологическую перспективу. Революция для него не акт произвола, а “знак судьбы” человеческого рода, уклонившегося с праведного пути, начальная точка грядущего преображения мира; метод же, когда он восторжествует и даст плоды, явится закономерным завершением всей современной, или, как говорит Песталоцци, “французской эпохи”, подобно тому, как в Апокалипсисе вслед за “концом мира” должно наступить “царство божие”.
Неудивительно, что масштабом, который Песталоцци применяет к своей жизни и идеям, часто становится судьба и заветы Христа. Отчаянная борьба за метод, козни врагов и предательство друзей — все разочарования и обиды, выпавшие на долю Песталоцци в Ивердоне, осмысляются им в евангельских образах. Как божий избранник, он чувствует, что свершает свой путь по предназначению и, зная, что будет распят на кресте своей веры, стилизует свои последние речи перед сотрудниками Ивердонского института в духе обращения Христа к двенадцати апостолам во время Тайной Вечери: “И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, Царство”8. Привычность и интимность таких сопоставлений подчеркивает и их проникновение в бытовую сферу: так, когда Александр I, один из самых искренних покровителей Песталоцци, жалует ему Владимирский крест, Анна Шультгейс шутливо замечает, что ношением креста ее мужа не удивишь9.
С мессианским самосознанием связано очень многое как в жизни, так и в творчестве Песталоцци. Это и свойственные ему психологические эксцессы (видения, эпилептические припадки, общая склонность к экзальтации), и необычайная острота переживания своих человеческих слабостей и житейских неудач, обусловленная повышенным чувством ответственности за судьбу идеи, носителем которой он себя считает, и пронизывающий все его учение исконно христианский мотив любви к беднякам, деятельной любви к тем униженным и оскорбленным, кому адресуется прежде всего весть Христа о Спасении, и, наконец, самый стиль его сочинений, в художественной прозе наивно-дидактический, ориентированный на жанр проповеди, а в произведениях научных неожиданно личный и эмоциональный, как в исповеди.
В отличие от крупнейших немецких философов XVIII века, будь то Вольф или Кант, Песталоцци не был систематиком, как не были систематиками Руссо и Гердер. Он не умеет давать чеканных формулировок и развертывать логически последовательную систему доказательств. Его мысли навсегда остаются в стадии становления. Каждая из них опутана густой сетью субъективных авторских интенций, чувств, настроений и ассоциаций, и, кажется, что, пытаясь вырваться на свободу, она все больше в них запутывается, обрастает все новыми оттенками и обертонами до тех пор, пока, трансформированная ими до неузнаваемости, не переходит в новую, соседнюю мысль с такими же расплывающимися границами. Философско-педагогические размышления Песталоцци — не наука, а способ переживания жизни, не отвлеченная система принципов гуманистического воспитания, а страстная исповедь философа-гуманиста, который, рассуждая о судьбах человечества, раскрывает перед читателем свою душу и приобщает его к эмоциональным глубинам и индивидуальному своеобразию своей личности.
Таковы все наиболее значительные “научные” сочинения Песталоцци.
“Вечерние часы отшельника” (“Die Abendstunde eines Einsiedlers”, 1780) — серия вдохновенных, написанных суггестивной, ритмизованной прозой фрагментов на тему “Что есть человек?” — представляет собой лирический гимн во славу человеческого благородства в стиле философских од Клопштока. “Отчеты” и “записки” о педагогических экспериментах в Стансе и Бургдорфе превращаются в дневник переживаний, в “человеческий документ”, интересный прежде всего в силу оригинальности и богатства личности экспериментатора. “Мои исследования путей природы в развитии человеческого рода” (“Meine Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts”, 1798) — книга, в которой Песталоцци попытался дать систематическое изложение своих общефилософских взглядов, напоминает то древнегреческий дифирамб, то латинскую диатрибу, перемежает патетическую проповедь с острой полемикой и пронзительной элегической жалобой, всеми средствами подчиняя читателя чувству жизни автора, убеждая нас в том, что раскрылось поэту-философу в ходе размышлений или в непосредственной интуиции бытия. “Лебединая песнь” (“Der Schwanengesang”, 1826), завершающая творческий путь Песталоцци, содержит итоговое изложение принципов “элементарного образования” в форме мемуаров философа, описывающего историю становления “метода” как биографию собственной души.
Один из самых ярких примеров личной интонации, свойственной Песталоцци в его научных произведениях, дает концовка “Моих исследований...”: “Тысячи людей, навсегда оставаясь детьми природы, гибнут в угаре чувственных наслаждений, и не хотят иного. Десятки тысяч падают под тяжестью своей иглы, своего молотка, своего аршина или своей короны и не хотят иного. Я знаю человека, который хотел большего: он был блаженно невинен и верил в людей, как верит мало кто из смертных; сердце его было создано для дружбы; любовь была его натурой, и верность его глубочайшей склонностью. Но он не был творением мира сего, и для него нигде не нашлось места. И мир, найдя его таким, не спрашивая, чья в этом вина или заслуга, разбил его железным молотом, как каменщик разбивает бесполезный камень, кусочки которого пригодны только на то, чтобы заложить ими щели между плохо пригнанными блоками. Но и разбитый на куски, он все еще верил в человечество больше, чем в самого себя, еще сумел поставить перед собой большую цель и, выбиваясь из сил, обучился всему, что требовалось для ее достижения. Использовать его для блага целого было уже невозможно, но для своей цели он был пригоден лучше, чем кто-либо другой. И он снова ждал справедливости от рода людского, который все еще беззаветно любил. И не дождался. Люди, назначившие себя его судьями, не проведя ни единого допроса, вынесли приговор, что он навсегда и ни на что не годен. Это стало последней каплей, переполнившей чашу его страданий. Его больше нет, то, что от него осталось, это не больше, чем обломки его существа, попираемые ногами. Он пал; так падает с дерева незрелый плод, когда северный ветер прерывает его цветение и черви пожирают его внутренности. Путник, урони над ним слезу; уже падая, он прошептал дереву, на ветвях которого промучился все лето: «И в час смерти я бы хотел служить тебе, питая собой твои корни». Путник, пощади беспомощно упавший, разлагающийся плод, позволь ему еще и прахом своим питать корни дерева, на ветвях которого он промучился все лето”10.
Очевидно, что этот трагический финал — аллегорическое самоизображение Песталоцци. Вся его жизнь, как она представлена в приведенном отрывке, состоит из постоянного чередования иллюзии и разбивающей ее горькой действительности. Трагизм этой жизни типичен для человека эпохи “Бури и натиска”, бездомного странника, не знающего своего места в мире и обреченного на гибель вследствие чрезмерной требовательности идеалистического чувства. Но такова только первая часть трагедии. Мятежный идеалист должен погибнуть, как Вертер, или реформировать свои идеалы, признав над собой объективные законы действительности, как Гете.
Песталоцци пережил кризис штюрмерства после крушения Нойгофского эксперимента в 1779 г. “Мой опыт потерпел крушение самым душераздирающим образом, — вспоминает он в «Лебединой песне». — В моем окружении все в один голос твердили, что я конченный человек, которому уже ничем нельзя помочь... Мне оставалось только закончить свои дни в больнице для бедных или в доме умалишенных”11. В отрывке из “Моих исследований...” этот момент кризиса запечатлен в образе железного молота, который мир обрушил на идеалиста. Затем трагедия вступает в новую фазу.
Поверженный жизнью идеалист возрождается для новой, более реальной цели, под которой Песталоцци подразумевает воспитание гармонической личности в соответствии с выдвинутой им идеей “метода”. Немецким (гетевским и шиллеровским) аналогом этой идеи является доктрина веймарского классицизма, основанная на преодолении штюрмерства, на возрождении античного идеала гуманности путем эстетического и нравственного воспитания человечества. Однако с точки зрения Песталоцци, действительность отвергает зрелый идеал воспитания с не меньшей жестокостью, чем прекраснодушный руссоизм “Бури и натиска”. Жалоба на скорый и неправедный суд намекает не столько на конкретную биографическую ситуацию — недовольство правительства Гельветической республики работой Песталоцци в Стансе, — сколько на приговор истории, воплотившийся в событиях Французской революции; для Песталоцци они означали, что мир не принял созидательную идею гуманистического воспитания, отдав предпочтение разрушительному и бессмысленному народному бунту. Именно революция переполняет “чашу страданий” непризнанного героя-реформатора, окончательно обрекая его на гибель: “Его больше нет... Он пал”.
Вместе с тем финальное обращение к путнику и образ дерева как символ неумирающего человечества вносят в изображаемую Песталоцци трагедию известную долю оптимизма: идеал не умирает вместе с его носителем, самая смерть которого имеет высокий смысл как акт служения будущему.
Обращение к путнику явственно перекликается с эпитафией Симонида спартанскому царю Леониду и его воинам, геройски погибшим при обороне от персов Фермопильского ущелья: “Путник, придя в Лакедемон, скажи согражданам нашим, / Что полегли мы костьми, как повелел нам закон”12. Тем самым Песталоцци сравнивает себя с древнегреческими воинами, которые пали в неравной борьбе, защищая античную культуру от нашествия варваров.
Можно предположить, что эта аллюзия не случайна. В 1795 году Шиллер включает двустишие Симонида в свое философское стихотворение “Прогулка” (“Der Spaziergang”), посвященное руссоистской проблеме взаимоотношения природы и культуры. Подвиг спартанцев выступает у Шиллера как один из символов античной гармонии природы и общественной жизни, свободы и долга. От идеальной античности Шиллер переходит затем к изображению “общественного состояния” в смысле Руссо, к картинкам зла и хаоса, овладевающих миром по мере удаления человечества от “природы святой”. Власть правителя как первого среди равных превращается в тиранию, и “многие тысячи лет мумия властвует над миром”. Среди людей возникают различные пороки, вражда, угнетение слабых сильными. Право, свобода, правда, естественность и природа попраны:
“Правда уходит из речи, а вера из жизни / Клятву давая богам, лжет без нужды человек”. Естественной реакцией на давление зла становится, по Шиллеру, гневное “пробуждение природы”: угнетенное человечество вырывается, подобно тигру, из клетки и мстит угнетателям, разрушая города и храмы. Показательно, что на протяжении стихотворения Шиллер несколько раз обращается к образу камня, занимающему столь важное место и в отрывке из Песталоцци: об античной культуре Шиллер говорит, что она “дала камню высокую жизнь”, а изображая революцию, пишет: “Жизнь, одичалый базальт, ждет чудотворной руки”. Заканчивается “Прогулка” мыслью о непобедимости вечных законов природы, воплощенных в искусстве античности: “Видишь — сияет светло солнце Гомера и нам”13.
Стихотворение Шиллера предвосхищает содержание вышедших двумя годами позднее “Моих исследований...” Песталоцци. Совпадения не ограничиваются рамками заключительного автобиографического фрагмента. Они затрагивают всю идейную структуру книги, где философия истории, как и у Шиллера, развернута в направлении некоего абсолютного “нравственного состояния”, снимающего руссоистскую противоположность естественного и общественного человека. Поэтому аллюзия на эпитафию спартанцам в элегической концовке подчеркивает органическую связь между биографией человечества, как она изложена на страницах книги, и личной судьбой ее автора, рассказ о которой заключает философское исследование.
“Личный” финал подготовлен всем характером предшествующих рассуждений и соотносится с открытой декларацией параллелизма личного и универсального во вступлении, формулирующем вопросы, на которые Песталоцци стремится ответить своей книгой: “Что есть я и что есть род человеческий? Что сделал я и что делает человечество? Я хочу знать, что ход моей жизни, каким он был, сделал из меня; я хочу знать, что ход всеобщей жизни, каков он есть, делает из человеческого рода”14.
Отвечая на эти вопросы, Песталоцци создает своего рода фантазию на главные темы просветительской философии. Подобно Руссо и Шиллеру, он рассматривает историю как процесс отпадения человечества от природы и отвергает гражданскую цивилизацию, поскольку она “содействует извращению лучших свойств человеческой природы”15. Но, в отличие от Руссо, он не идеализирует “естественное состояние” и не верит в возможность организации государства на условиях общественного договора. Выдвигая идею воспитания как альтернативу политической революции, Песталоцци сближается с мировоззрением классического Веймара, с идеями философской поэзии Шиллера и его “Писем об эстетическом воспитании”. Школой нравственности выступают у него, однако, не эстетическое сознание, а религиозное, не холодная гармония античного искусства, а “моральный санкюлотизм” раннего христианства, противопоставленный “политическому санкюлотизму” французов.
В понимании христианства Песталоцци опять-таки отталкивается от Руссо. Истинное, не искаженное церковной догмой христианство — это “естественная религия” сердца, абсолютно тождественная нравственному чувству, его стержень — деятельная любовь к людям. “Христианство всецело является нравственностью, — пишет Песталоцци, — близок бог там, где люди любят друг друга”16. Но, хотя искра христианской любви теплится в человеческой душе изначально, стать христианином вполне, т.е. человеком моральным, можно, согласно Песталоцци, только посредством воспитания и самовоспитания, только изжив в себе эгоизм общественного и звериные инстинкты естественного человека.
“Моральный человек”, “нравственное состояние” человечества — таков, по убеждению Песталоцци, смысл и итог человеческого развития. Как отмечали уже современники, определения “нравственного состояния” в “Моих исследованиях...” напоминают императивную критику Канта, с которой Песталоцци познакомился в 1793 г. через посредство Фихте17. Наиболее близкие к Канту высказывания гласят: “Я обладаю в самом себе способностью представлять себе все вещи этого мира, желать или отвергать их независимо от моих животных вожделений и общественных обстоятельств, исключительно с точки зрения того, насколько они содействуют моему внутреннему благородству. Эта способность автономна в сокровенной глубине моей природы... Она проистекает из существенно присущего мне чувства: я усовершенствую самого себя, если делаю то, что я должен, законом того, что я желаю”18. “В качестве животного я — творение природы, в качестве социального существа — творение общества, в качестве существа нравственного — исключительно творение самого себя”19. “Вот что я вскоре увидел: обстоятельства делают человека; но я также вскоре увидел: человек делает обстоятельства. Он имеет силу направлять их по собственной воле. Делая это, он сам принимает участие в формировании самого себя и во влиянии обстоятельств, на него действующих”20.
Но, согласуясь с Кантом в утверждении автономии моральной воли, Песталоцци не усваивает таких существенных признаков кантианской этики, как ее формализм и ригоризм. Если категорический императив Канта не предписывает ничего эмпирически определенного, только известную законосообразность наших поступков, то у Песталоцци понятие долга наполняется содержанием христианской любви к ближнему. Для Канта естественные влечения человека всегда противоположны нравственному велению; в этом проявляется коренная испорченность человеческой природы, которая является следствием первородного греха. Песталоцци не хочет верить в коренную испорченность человеческой природы — даже вопреки своей собственной критике естественного человека как носителя нравственного идеала. Алчное своекорыстие и жестокая агрессивность “человека как творения природы” не до конца отменяют для него “естественное влечение к добру”, и именно в этом влечении он видит первооснову и залог будущего “нравственного состояния”, именно оно подлежит развитию путем воспитания.
Возвращение к Богу есть, с точки зрения Песталоцци, и возвращение человека к самому себе, к тому высшему началу своей природы, которое уже в первобытном состоянии легко подчинялось низкому влечению ко злу, а под позднейшим воздействием порочных общественных условий почти совсем заглохло в душе. И если возрождение его — это долг, то такой долг означает одновременно и высшее счастье, не только борьбу с природой, но и борьбу за природу, за удовлетворение ее глубинной потребности. Таким образом, следуя в понимании нравственности Канту, Песталоцци в обосновании ее во многом продолжает следовать своему старому учителю Руссо.
Знакомство с учением Канта не было для Песталоцци ни духовным переворотом, ни даже внутренней необходимостью. Сущность нравственного отношения к жизни как возврата к Богу формулировалась им и ранее, например в 1785 году, когда он писал: “Человек почитает Бога лишь постольку, поскольку чтит себя, а это значит постольку, поскольку он руководствуется в отношении себя и ближних своих наиболее чистыми и прекрасными побуждениями, заложенными в нем природой”21. Так учит пастор Иоахим Эрнст, один из нескольких персонажей-резонеров, обменивающихся своими мыслями о человеке на страницах педагогического романа “Лингард и Гертруда” (“Lienhard und Gertrud, 1781-1787) — самого знаменитого произведения Песталоцци, принесшего ему европейскую славу “друга человечества” и звание почетного гражданина Французской республики.
Начав писать по совету Изелина и Фюсли для заработка, Песталоцци стремился одновременно взять этой книгой реванш за провал практического эксперимента в Нойгофе. Роман был задуман его автором как дидактическая “книга для народа”, своего рода гуманистический катехизис, который крестьяне будут читать и обсуждать на своих сходках и в своих хижинах, чтобы научиться правильному образу жизни. Однако уже Генрих Цшокке навлек на себя гнев Песталоцци, заметив, что его книга, при всех ее несомненных достоинствах, способна не столько воспитать крестьян, сколько продемонстрировать трудность их воспитания просвещенным господам22. Наглядное изложение простых и общедоступных истин вскоре превращается под пером Песталоцци в то, чем были по существу все его произведения, — в исследование проблемы человека и противоречий его природы, в мучительную исповедь гуманиста, колеблющегося между верой и неверием в свои возвышенные идеалы.
Песталоцци почти не занимался вопросами эстетики. Единственное свидетельство его литературно-эстетических взглядов — это предисловие к “Лингарду и Гертруде”, выдвинувшее принцип нравственного воспитания в сочетании с принципом “верного подражания природе”. Несмотря на влияние Канта, у Песталоцци нет никаких точек соприкосновения с эстетикой веймарского классицизма. Трудно представить себе что-либо более чуждое его методу, чем автономный, самодовлеющий художественный мир, требующий “незаинтересованного созерцания”, отделенный от волевых стремлений и оценок автора. С точки зрения Песталоцци, литература имеет смысл только тогда, когда она переходит за грани искусства и становится творчеством жизни, как политическое действие, как религиозный подвиг. “Все, что я сделал до сих пор, является лишь продолжением этой книги”, — пишет Песталоцци в предисловии ко второму изданию “Лингарда и Гертруды”, имея в виду свою практику педагога23.
Подчинение литературы “моральному тезису” — общий принцип поэтики Просвещения. Гражданское воспитание, разрушение старого мировоззрения, пропаганда новых идей и правил общественного поведения — все это изначально входило в просветительскую программу обновления жизни, направленную на создание на земле “царства разума”. Песталоцци глубоко впитал в себя этот пафос Просвещения и ясно сознавал свою причастность к просветительскому движению в широком смысле.
“Весь духовный мир Песталоцци коренится в Просвещении”, — замечает Э. Эрматингер, включая “Лингарда и Гертруду” в историю развития идеи воспитания от монадологии Лейбница через “Эмиля” Руссо, “Воспитание человеческого рода” Лессинга и “Идей к философии истории человечества” Гердера до “Вильгельма Мейстера” Гете24.
Однако в Германии XVIII в. под “Просвещением” понимали преимущественно школу рационалистической мысли, замкнутой в сфере теоретического умозрения. Еще в 1783 году М. Мендельсон, отвечая параллельно с Кантом на вопрос “Что есть Просвещение?”, прямо заявляет: “Просвещение относится скорее (в отличие от “культуры” — А.Ж.) к сфере теоретического знания”25. Так же, но в критическом аспекте, расценивали Просвещение уже немецкие руссоисты эпохи “Бури и натиска”, отнюдь не считавшие себя “просветителями”, и когда на исходе этой эпохи Песталоцци представляет читателям свою “книгу для народа”, он именно критику Просвещения делает центральным мотивом своего предисловия.
В чем он обвиняет просветителей и что им противопоставляет, показывает принадлежащая Песталоцци, но якобы заимствованная из старинной восточной книги притча о мудрецах, пришедших учить истине королей. “Короли хвалили мудрецов, — пишет Песталоцци, — но к народам относились так же, как и раньше... И мудрецы ослепли от золота, шелков и благовоний и не видели этого”. Только один из пришедших с ними “подавал руку нищему у дороги, вводил в свою хижину дитя вора, грешника и изгнанника, приветствовал сборщиков пошлин, ратников и самаритян как братьев... Его бедность и упорство в любви завоевали ему сердце народа. Он стал объяснять простым людям, в чем заключается их благо... И народ услышал его голос, а короли услышали голос народа”26.
Главная ошибка и вина “мудрецов” заключается, по мнению Песталоцци, в том, что они ограничили свою задачу теоретическим обоснованием истины, предоставив выполнение своей общественной программы власть имущим. Важно не столько ослепление золотом, сколько ослепление собственной мудростью, которая сама по себе становится препятствием к действию. Более ясно Песталоцци формулирует эту мысль позднее, в предисловии ко второму изданию романа, где о просветителях говорится, что они “впали в самообман из-за величия собственного знания”27. Но уже и в самой притче за обвинением в “продажности”, несомненно, прячется обвинение более глубокое и существенное — в рассудочном интеллектуализме и элитарном высокомерии, в стремлении отгородиться от глупых и нищих границами господской “республики ученых”. И хотя в конечном счете Песталоцци, как и просветители, уповает на добрую волю просвещенных монархов, его позиция отражает радикальный демократизм движения “Бури и натиска”, которое аристократической правде разума противопоставляет народную правду сердца и реальной жизни.
С эстетикой “Бури и натиска” связан и принцип “верного подражания природе”. Природа, которой Песталоцци стремится следовать в своей книге, — это не прекрасная природа классицизма, очищенная и облагороженная разумом, а “низкая” эмпирическая действительность реальной жизни, мысли и переживания простых крестьян, их бытовая обстановка и общественные отношения. “Я остерегался присоединять свое собственное мнение к тому, что я видел и слышал, к тому, что народ сам чувствует, говорит, о чем судит, во что верит”, — пишет Песталоцци в предисловии28, и роман, особенно первые две части, подтверждает это намерение. Наглядность изображения героев и событий, натуралистические картины нищеты и порока, широкое использование конкретных художественных деталей, демократизация языка и индивидуализация прямой речи, последовательные попытки воспроизведения характеров с помощью их собственных голосов, подчеркнутая обусловленность психологии и поведения героев их социальным положением — все это несомненные признаки реалистического стиля, стремящегося к деформации господствующего литературного канона в изображении сцен из крестьянской жизни.
Отдельные эпизоды еще тяготеют то к сентиментальной идиллии, как, например, сцены в доме Гертруды или Руди, то к комическому фарсу, как эпизод с межевым камнем, в котором фальшивый черт до смерти пугает суеверного злодея Гуммеля. Однако в целом поэтика романа далеко выходит за рамки традиционных формул и ситуаций; ее основой является живое наблюдение и личный опыт автора, хорошо знающего жизнь крестьян и умеющего подчинить средства изображения своему предмету. О сознательном стремлении Песталоцци к реализму ясно свидетельствует его неприятие тех исправлений, которые пытался внести в книгу ее первый редактор. Вспоминая об этом опыте “литературной обработки” своего слишком безыскусного, как казалось ему вначале, произведения, Песталоцци пишет: “То была настоящая богословская студенческая работа. Подлинную картину действительной крестьянской жизни, списанную мною с натуры, просто и без прикрас, она преобразила в ханжеские искусственные формы, заставив крестьян в трактире разговаривать языком школьного учителя. От своеобразия моей книги не осталось и следа”29.
Подражание природе становится у Песталоцци формулой реализма. Именно реалистические элементы составляют главное отличие романа “Лингард и Гертруда” от его литературных источников, точно установленных или возможных. Это отнюдь не только “Моральные рассказы” Мармонтеля, с подражания которым Песталоцци начинает как писатель30. Гораздо важнее то, что он пишет на фоне широко разработанного жанра педагогической и социальной утопии, развивающейся на основе идей Руссо или от них отталкивающейся. Вслед за знаменитым педагогическим романом Руссо “Эмиль”, оказавшим несомненное влияние на Песталоцци, в этот литературный ряд входит и “Год тысяча четыреста сороковой” Мерсье с его мечтой о свободных и счастливых земледельцах будущего, и роман Ретифа де ля Бретона “Совращенный поселянин” с приложенным к нему уставом идеальной крестьянской общины, и большие “государственные” романы швейцарца Галлера (“Узонг”, 1771) и тесно связанного со швейцарской культурой немца Виланда (“Золотое зерцало”, 1772), и чрезвычайно модная в 1770-е годы книга цюрихца Иоганна Каспара Хирцеля “Хозяйство крестьянина-философа” (1760), и малоизвестная, но, вероятно, знакомая Песталоцци анонимная утопия “Христианская деревня”, напечатанная в 1766 году в журнале Лафатера “Воспоминатель”. Возможно, не все из этих произведений побывали в руках Песталоцци, но они определяли тот общий идейный и жанровый контекст, который присутствовал в сознании автора “Лингарда и Гертруды”.
К большинству из них можно отнести определение, которое Песталоцци дает “Эмилю” Руссо: “абсолютно непрактичная книга-мечта”31. Авторы утопических романов развивали проекты идеального общественного устройства подобно тому, как Руссо изобразил историю “естественного” воспитания индивида — как “чистый эксперимент”, осуществляемый в изоляции от окружающего общества, вне какого бы то ни было влияния ложной цивилизации. В “Лингарде и Гертруде” не случайно так упорно рассуждают о качестве фундамента, на котором должна быть построена новая деревенская церковь. Отталкиваясь от традиции утопического романа, Песталоцци видит свою задачу в том, чтобы укрепить воздушные замки руссоистов на фундаменте реальной жизни. Ему важно доказать жизнеспособность мечты, убедить себя и своих читателей в том, что светлая гармония, о которой мечтают авторы утопий, может родиться из темного хаоса, царящего в современных социальных отношениях и в душах испорченных современных людей. Поэтому он не игнорирует хаос, а вводит его описание в свой роман, перенося центр тяжести картины на процесс становления человеческого коллектива и составляющих его личностей в конкретных условиях запущенной реальной деревни.
В утопиях XVIII в. реальная действительность оставалась за рамками произведения, определяя извне содержание идеала, который строился путем отталкивания от действительности. В позднейшем реалистическом романе таким внеположным или только имплицитным определителем текста становится, наоборот, авторский идеал; даже в эпоху натурализма объективное реалистическое описание социальной среды питалось скрытым пафосом объяснения, неприятия и преобразования действительности, но гуманистические убеждения автора проявлялись лишь в отборе и способах представления негативного материала.
В романе Песталоцци идеальное и реальное соотносятся более наивно и прямолинейно: идеал автора получает эксплицитное выражение в психологии, действиях и рассуждениях “положительных” персонажей и присутствует в тексте наряду с картинами реальной жизни. По ходу романа идеал постепенно вытесняет и замещает “отрицательную” реальность, рассеивая ее мрак своим светом и претендуя на то, чтобы стать новой “положительной” реальностью. Одновременно уменьшается роль чувственно-конкретных образов. Реалистическое изображение все больше уступает место изложению теоретических взглядов, фабульное действие почти за
мирает, герои “идеологизируются”, и реалистический роман, начавшийся с бунта против “чистой” утопии, возвращается к традиционному типу диалогизированного философско-педагогического трактата, оформленного сюжетной композицией.
Для Песталоцци это не было ни ошибкой, ни изменой первоначальному идейному заданию — “разъяснить народу, в чем заключается его благо”. Когда в начале третьей части пастор поясняет смысл своей проповеди, его слова относятся и к поэтике самого романа: “Описание ночи и черного цвета ее теней не научит видеть ее, но свет, зажженный тобою, поможет объяснить, чем была ночь; удали катаракту, и ты дашь понятие о том, чем была слепота”32. Видимо, на середине романа Песталоцци сознательно пересматривает реалистическую программу ее первых частей, желая согласовать свою “книгу для народа” с выдвинутым им позднее педагогическим требованием вести воспитанника от чувственного созерцания к понятийному мышлению.
Однако главным следствием открытого сосуществования реального и идеального планов является определяющий всю композицию книги закон контраста. Социальное пространство фабулы отчетливо делится на две противостоящих друг другу части — мир деревни Бонналь, отмеченный нищетой, нравственным одичанием и людскими страданиями, и мир господского замка, где живет добрый и благородный помещик Арнер33. В начале романа он мало интересуется жизнью своих подданных, как не интересовались ею и предки его, на которых лежит вина в нынешнем упадке. Вся власть в Боннале принадлежит фогту Гуммелю, деревенскому кровопийце, выступающему как реальный носитель зла. Он спаивает крестьян и впутывает их в долги, обманывает и обирает, побуждает их к лжи и воровству, к жестокости и цинизму. Вся жизнь деревни отравлена его влиянием, но отравлена не смертельно.
“Деревенское” пространство неоднородно: если богачи всецело на стороне Гуммеля, то в душах угнетенных бедняков еще сохраняется нравственное начало, воплощением которого является Гертруда — добрая и мудрая в своей доброте, почти святая жена бедного каменщика Лингарда. Любящий, но безвольный, тянущийся к спасению, но не ведающий пути к нему, Лингард становится жертвой Гуммеля, и Гертруда, желая защитить его честь и будущее своих детей, решается на отчаянный шаг: как подлинная героиня романа она пересекает границу отведенного ей социального пространства и обращается к помещику Арнеру с просьбой о заступничестве. Тем самым она становится инициатором центральной коллизии книги. С этого момента деревня Бонналь попадает под контроль доброго помещика, становясь объектом нравственного воспитания и реформаторской деятельности. Арнер начинает борьбу за счастье своих подданных. Строительство новой церкви, которое он поручает каменщику Лингарду, выступает как символический акт возрождения народа и одновременно как фактор размежевания, дальнейшей поляризации добрых и злых. Одни помогают Лингарду, приобщаясь этим к добру и правде; другие плетут против него злую интригу и все глубже увязают в пороках. Злые силы концентрируются вокруг Гуммеля, добрые — вокруг Гертруды, Арнера и просвещенного пастора. Помещик и пастор — носители светской и духовной власти — заключают союз, опирающийся на лучших представителей народа. Они изучают свой народ, как исследователи, и вторгаются в его судьбу, как всесильные боги.
Когда Песталоцци пишет первые части своего романа, он еще верит, что человек выходит добрым из рук творца, и даже подчинившись неправедным законам социальной жизни, инстинктивно продолжает тянуться к добру34. Достаточно оборвать те роковые нити, на которых пляшут люди-марионетки, прикрепленные к механизму общественных отношений, и каждый из них вернется к самому себе, к своей подлинной доброй сущности. Именно из этого убеждения исходят реформаторы Песталоцци в первых двух частях “Лингарда и Гертруды”, разрушая зависимость крестьян от Гуммеля, который управлял ими, как злой кукольник.
Приговор, вынесенный фогту Арнером и пастором, указывает на пиетистические корни нравственных понятий Песталоцци. Фогт должен исповедаться пастору в своих злодеяниях, чтобы исцелиться путем самоанализа, как авторы пиетистических автобиографий. Затем пастор пересказывает историю жизни фогта в назидательной проповеди, напоминающей психологическое исследование.
Устранение фогта становится началом реформ, захватывающих все новые области крестьянской жизни — распределение угодий, методы хозяйствования, домоводство, школьное образование, судопроизводство и т.д., пока в конце романа Арнер не дарит Бонналю справедливую конституцию, которая разрабатывается при участии крестьян. Задача Арнера и его помощников — стереть ту границу, которая пролегает внутри деревенского пространства, и размыть, сделать более прозрачной ту, что разделяет деревню и господский замок. Добрым беднякам надлежит разбогатеть, злым богачам стать добрыми, пастор должен завоевать доверие народа, а помещик — право называться отцом своих подданных. По замыслу автора, сюжет должен был продвигаться к финалу путем отмены контрастов, на которых держится роман. Но по мере развития авторской мысли контрасты не столько исчезали, сколько уходили в глубину.
После выхода первой части романа Песталоцци пишет к ней диалогизированный автокомментарий под названием “Кристоф и Эльза” (“Christoph und Else”, 1782), в котором вкладывает свои пояснения в уста крестьян, якобы читающих и обсуждающих “Лингарда и Гертруду” в семейном кругу. Песталоцци считал, что читатели не поняли его книгу, и пытался объяснить, что изображенная им деревня Бонналь — не частный случай, а типическая модель европейского общества. Но доказывая это, он соединяет самоистолкование с самокритикой и постоянно возвращается к сомнениям, которые особенно явственно звучат в репликах батрака Йоста. Автор “Лингарда и Гертруды”, полагает Йост, не знает всей правды о людях; может быть, в деревне Бонналь все было именно так, как он описал, но в других местах и вообще в действительности силы зла гораздо могущественнее и с ними не так легко справиться, потому что они не привнесены в жизнь большинства людей извне такими отпетыми злодеями, как Гуммель, а глубоко коренятся в природе каждого человека35.
Сомнения в человеке толкали Песталоцци к корректировке воспитательной концепции романа. Из них следовало, что то расторжение рабской зависимости человека от общества, к которому сводилась первоначальная задача, даст свободу не только добрым, но и злым началам двойственной человеческой природы, и злые могут восторжествовать над добрыми. Горьким подтверждением этих сомнений явилась Французская революция, но уже в середине 1780-х годов, когда Песталоцци берется за продолжение романа, он делает его центром не идею свободы, а идею социализации индивида, включения его в гуманные общественные отношения.
Третья часть романа начинается с описания меланхолии Арнера. Он чувствует, как “почва колеблется у него под ногами”, ему кажется, что все его усилия ни к чему не привели, его мучают тяжелая болезнь и предчувствия смерти, причина которых, хотя она и не указана ясно, — разочарование в результатах предшествующих реформ, разрыв между гуманистической иллюзией и действительностью. “Ах, как отвратительны люди, — восклицает Арнер, глядя на своих крестьян, — что с ними ни делай, они никогда не станут, как эта долина”36. Показательно, что многие из подданных Арнера, внешне принявшие новые порядки в Боннале, втайне радуются его болезни и ждут его смерти, а некоторые сторонники, стараясь продолжить реформы, лишь дискредитируют замысел их вдохновителя.
Преодолеть контраст между ожиданием и разочарованием, поставить воспитание народа на новую, более реальную основу призван учитель Глюфи, выступающий как антагонист прекраснодушного пастора. Глюфи — воспитатель-практик, и убеждения, из которых он исходит в своей практике, отражают путь Песталоцци от Руссо к Канту. “Человек, — утверждает Глюфи в споре с пастором, — по своей природе, если ему предоставить вырасти дикарем, ленив, невежествен, легкомыслен, легковерен, боязлив и безгранично жаден, а вследствие опасностей, грозящих ему как существу слабому, и препятствий, на которые наталкивается его жадность, он также хитер, коварен, недоверчив, мстителен, склонен к насилию и жестокости”37. Для Маккиавелли этот взгляд на человека служил оправданием политического цинизма. Гоббс основал на нем теорию государства-Левиафана, однако, в практике Глюфи речь идет не о насильственном подавлении человеческой природы, а о постепенном преодолении тяги ко злу посредством гуманистического воспитания — с опорой на пусть менее развитый, менее очевидный, но все же признаваемый и поздним Песталоцци “моральный инстинкт”.
“Гуманистический реализм” Глюфи38 — последняя вера автора “Лингарда и Гертруды”, и, возможно, именно она предотвращает смерть Арнера, который в последней, четвертой части романа возвращается к деятельности реформатора. Сфера добродетели расширяется концентрическими кругами: от дома Гертруды и господского замка она распространяется на деревню Бонналь, от деревни Бонналь на все герцогство, в состав которого входит, как выясняется в последней части книги, поместье Арнера. Песталоцци раздвигает социальное пространство, включая в него герцогский двор. Арнер победил: в Бонналь приезжают экскурсанты, чтобы изучать социальное устройство деревни. Значение этой победы оттеняют образы “плохих” консервативных дворян — родственников Арнера, которые приезжают к нему в замок и с негодованием отвергают все нововведения как вредное демократическое чудачество. Этот же контраст добрых и злых дворян переносится затем в герцогский дворец, где за душу доброго, но слабого правителя ведут борьбу прогрессивный, сочувствующий Арнеру министр Биливский и фаворит герцога, умный циник Гелиодор, представляющий точку зрения этического материализма в духе шиллеровского Франца Моора.
В образе герцога, одном из самых интересных в романе, получает дальнейшую разработку мотив идейно обусловленной меланхолии, намеченный уже применительно к Арнеру. Герцог — мученик неосуществленной идеи народного счастья. Признак, на котором построен его образ, — разочарованность идеалиста, изверившегося в своих идеалах. Гелиодор старается исцелить его душу формулой цинической резиньяции: “Ваша светлость, весь мир — сумасшедший дом. Оставьте все, как есть, и выздоравливайте”39. Но когда Арнер и Глюфи на практике доказывают герцогу действенность своих методов воспитания, он, столько раз обманутый прожектерами и мечтателями, дает наконец согласие на продолжение боннальского эксперимента в масштабах всего герцогства. Последняя фраза романа, подчеркивающая этот открытый финал, звучит значительно и нарочито неопределенно: “Кругом воцарилась тишина, и в сердцах зародились величайшие надежды”.
Надежды, о которых здесь идет речь, — эсхатологические, от их исполнения зависит будущее всего человечества. Они сбудутся, когда исполнятся последние судьбы мира, и неопределенность развязки романа отражает неопределенность развязки всемирной истории.
Когда в 1790-1792 годах Песталоцци перерабатывает свой роман для второго издания, он, с одной стороны, всячески подчеркивает преимущества реформы перед революцией, с другой — усиливает скептическое звучание книги в целом. “Чем прочнее укоренялось в жизни людей хорошее, тем больше препятствий встречало оно на своем пути”, — этой фразы нет в первом издании романа, как нет и следующего умозаключения боннальских крестьян, которое, по существу, ставит под вопрос смысл всех реформаторских усилий: “Мир, видно, устроен так, что он не выносит, когда все идет как надо”40. Включая в текст многочисленные антиреволюционные пассажи, направленные на дискредитацию идеи абсолютной свободы, Песталоцци заметно ослабляет в то же время и пафос веры в просвещенную монархию, которая вызывает у него все большее недоверие перед лицом эгоизма высших сословий.
“Думай обо мне, Карл, наступают тяжелые времена”, — говорит сраженный болезнью Арнер своему сыну и наследнику и, как бы подтверждая житейский вздох разочарования философским наблюдением, продолжает: “Никогда не верь, что кто-нибудь знает все. Судьба человека — не обладать всей истиной... Трудно приходится с истиной; всякий считает, что его мечта — истина, и всякий ставит свою мечту выше всего”41.
Слова Арнера, который на протяжении всего романа выступает как “рупор идей” автора, относятся не только к современникам Песталоцци, но и к нему самому. Песталоцци часто упрекал себя в “дон-кихотстве” и отчаянно сопротивлялся идеалистическому самообману. Он подозревал, что его учение — не истина, а прекрасная мечта. Но рядом с этой, столь характерной для всего позднего Просвещения мыслью стоит у Песталоцци и другая: может быть, только мечта и способна приблизить человека к недоступной ему истине.
1 “Helvetische Gesellschaft zur Gerve”. Основано Бодмером в 1761 году.
2См.: Schonebaum H. Der junge Pestalozzi, 1746-1782. Leipzig, 1927. S. 22f.
3 Pestalozzis Leben in Briefen und Berichten / Hrsg. von A. Haller. Ebenhausen bei München, 1927. S. 86.
4Тамже. C. 112.
5 Pestalozzi J.H. Sämtliche Briefe. Kritische Ausgabe. Zürich, 1946-1971. Bd. 6. S. 60.
6 Pestalozzi J.H. Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe. Berlin; Leipzig; Zürich, 1927-1979. Bd. 12. S. 370.
7 Pestalozzi J.H. Sämtliche Briefe. S. 60.
8 J.H. Pestalozzi. Geburtstagsrede (1818) // Sämtliche Werke. Bd. 25. S. 97.
9 Silber K. Anna Pestalozzi-Schultheis und der Frauenkreis um Pestalozzi. Berlin; Leipzig, 1932. S. 71.
10 Pestalozzi J.H. Meine Nachforschungen // SW. Bd. 12. S. 166.
11 Песталоцци. Лебединая песнь (1826) // Песталоцци. Избр. соч.: В 3 т. М., 1961. T. 3. C. 602.
12 Песталоцци цитирует эти строки в переводе Шиллера: “Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest / Uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl”.
13 Все цитаты из стихотворения Шиллера даны в переводе Д. Бродского по кн.: Шиллер Ф. Избр. произв.: В 2 т. М., 1959. Т. 1. С. 121-125.
14 Pestalozzi J.H. Meine Nachforschungen // SW. Bd. 12. S. 160.
15 Ibid. S. 57.
16 Ibid. S. 151.
17См.: Stein A. Pestalozzi und die Kantische Philosophie. Tübingen, 1927.
18 Pestalozzi J.H. Meine Nachforschungen // SW. Bd. 12. S. 160.
19 Ibid. S. 123.
20 Ibid. S. 57.
21 Песталоцци. Лингард и Гертруда // Песталоцци. Избр. соч. Т. 1. С. 576.
22 См.: Delekat F. J.H. Pestalozzi. Mensch, Philosoph, Politiker, Erzieher. Heidelberg, 1968. S. 134.
23 Песталоцци. ЛингардиГертруда. С. 339.
24 Ermatinger E. Dichtung und Geistesleben der deutschen Schweiz. München, 1933. S. 516.
25 Mendelssohn M. Gesammelte Schriften. Leipzig, 1845. Bd. IV. S. 146.
26 Песталоцци. Избр. соч. Т. 1. С. 326.
27 Там же. С. 328.
28 Там же. С. 325.
29 Там же. Т. 3. С. 518.
30 Там же. С. 515.
31Цит. по: Ermatinger E. Op. cit. S. 516.
32 Песталоцци. Избр. соч. Т. 1. С. 547.
33 Имя “Арнер” восходит к имени деятелей швейцарского экономического движения братьев Чарнеров (Niklaus Emmanuel und Johann Rudolph Tschamer). У большинства персонажей романа имеются реальные прототипы. См.: Stadler P. Pestalozzi. Geschichtliche Biographie. Zürich, 1993. Bd. 1.
34 “Меня радует мое открытие, что люди в сердце своем добры и очень охотно отказываются от ошибок, если только могут” (1782) — Песталоцци. Избр. соч. Т. 2. С. 215.
35 Pestalozzi J.H. Lienhard und Gertrud // SW. Bd. 3. S. 76.
36 Pestalozzi JH. Christoph und Else // SW. Bd. 7. S. 376.
37 Песталоцци. Избр. соч. Т. 1. С. 560.
38 Термин Ф. Деликата // Указ. соч. С. 139.
39 Песталоцци. Избр. соч. Т. 1. С. 603.
40 Pestalozzi J.H. Lienhard und Gertrud // SW. Bd. 4. S. 317,323.
41 Песталоцци. Избр. соч. Т. 1. С. 560.