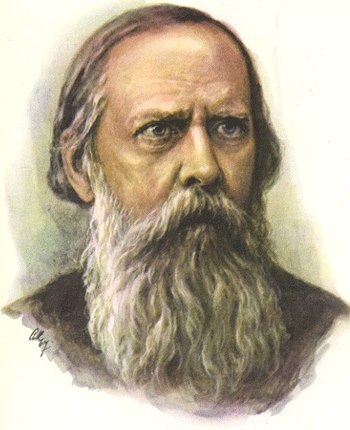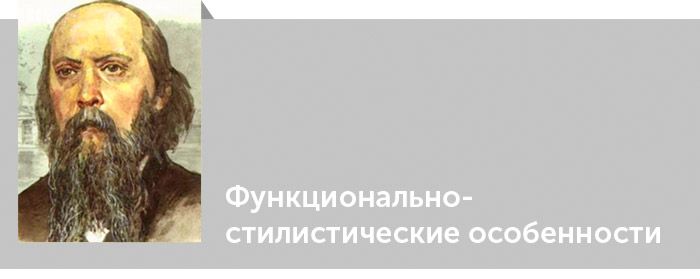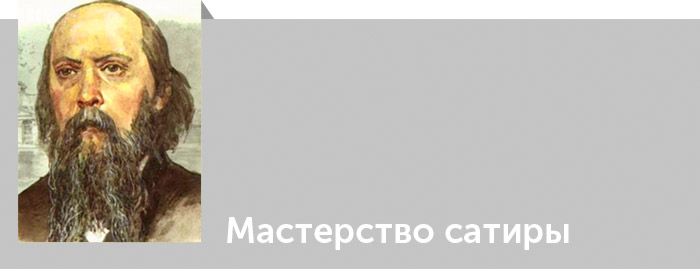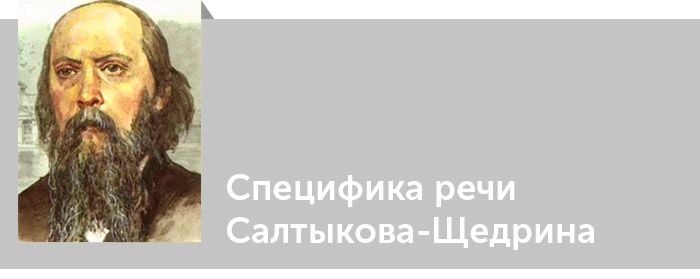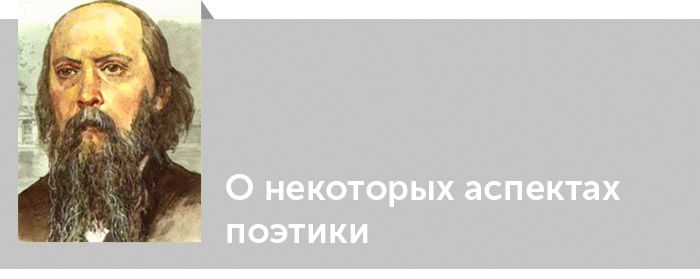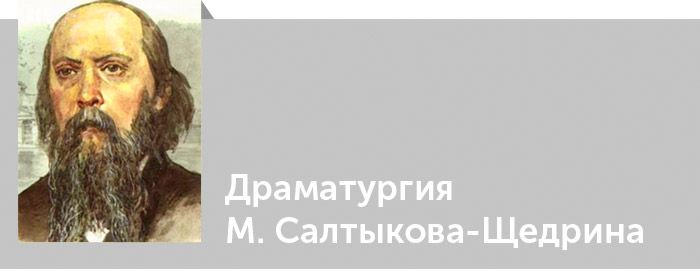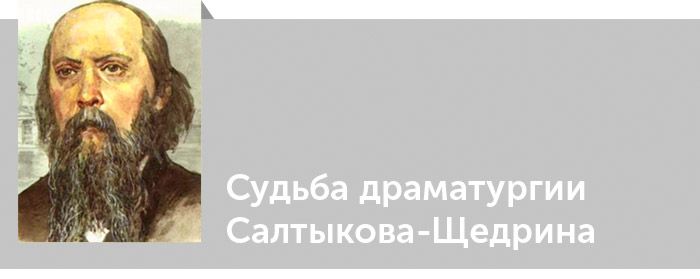К проблеме «среднего человека» у Салтыкова-Щедрина
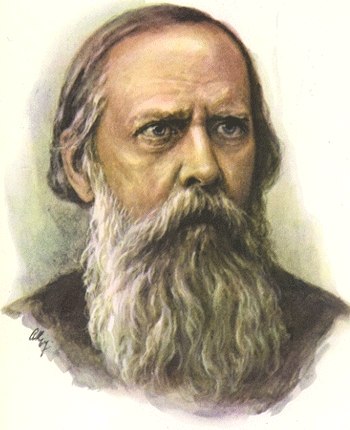
В.А. Мысляков
1
Русская общественная жизнь — постоянный объект творческого внимания Салтыкова-Щедрина — открывалась писателю прежде всего в противостоянии двух социальных полюсов — «верхов» и «низов».
«Верхи» — это самодержавная власть, высшая бюрократия, поместное дворянство, крупная буржуазия; «низы» — простой подневольный люд, главным образом, крестьянская масса.
Идеи и образы сатирика периода «шестидесятых» годов отмечены печатью преимущественного интереса именно к этим двум полюсам. Представителями одного из них выступают Бородавкины и Угрюм-Бурчеевы — олицетворение мертвящего жизнь деспотизма, помпадуры и ташкентцы — воплощение бюрократического произвола и лихоимства, Дракины и «дикие помещики» — образчики крепостнического насилия и паразитизма; представителями другого — Аринушки и Пименычи, чистые душой, но бедные самосознанием, безымянно-притчевый «мужик» — раб-кормилец «генералов», нарицательный «глуповец», покорно выносящий «проказы» безголовых градоначальников.
Крепостной уклад жизни, активно поддерживавшийся самодержавной государственностью и не ушедший из русской действительности даже после реформы 1861 года, был. в представлении Салтыкова-Щедрина, одним из величайших социальных зол России. Борьбе с ним, с его открытыми и скрытыми ревнителями-идеологами сатирик отдавал в указанное десятилетие главные творческие силы. Острый критический пафос «Сатир в прозе», «Невинных рассказов», «Нашей общественной жизни», «Признаков времени». «Писем о провинции», «Помпадуров и помпадурш», «Господ ташкентцев», «Истории одного города» определен именно этими антикрепостническими, антисамодержавными настроениями.
В 1870-е годы пристальное внимание писателя привлечет новый «столп», новый «хозяин» жизни — «чумазый». Галерею щедринских образов, художественно-публицистически воспроизводящих противонародные «верхи», пополнят Велентьевы, Деруновы. Стреловы, Разуваевы, Колупаевы. Прежний социальный критицизм вберет в себя сильную и характерную антибуржуазную тенденцию.
Много размышляя над причинами неуспеха борьбы, подчас предельно самоотверженной, передовых демократических сил, защищавших «низы», с реакционными силами, охранявшими «верхи», Салтыков-Щедрин на определенном этапе и исторического, и собственного творческого развития почувствовал необходимость внимательно вглядеться в ту многочисленную социальную прослойку, которая предпочитала сторониться всякой борьбы, растворяться в безликой и безгласной «серединке». Не мудрствуя лукаво, писатель так и определил эту общественную прослойку — «средние люди».
Ставшая одной из центральных в завершающее десятилетие жизни и деятельности сатирика, т. е. в 1880-е годы, проблема «среднего человека» тем не менее вошла в сознание Салтыкова-Щедрина значительно ранее.
В 11-й главе «Дневника провинциала в Петербурге» (1872) читаем: «Средний человек, человек стадный, вырванный из толпы, — вот достояние современной беллетристики». Это положение мотивируется двояко. Во-первых, в условиях несвободы мысли и слова литература по необходимости вынуждена переключиться на «среднего человека», так как правдивое всестороннее изображение и среды общественных «дирижеров», и противоположной среды «новых людей» практически заказано ей. Во-вторых, — и это для нас особенно важно — писатель, не столько подводя итоги, сколько программируя свои будущие образно-публицистические создания, ссылается на большое общественное значение литературной разработки типа «среднего человека» безотносительно к существованию первой, «внешней» причины.
Конечно, «средние люди» — люди «стадные», не предрасполагающие художника к созданию ярко индивидуализированных характеров. Но они важны как выразители «общей физиономии жизни», «положения минуты». «Взятый сам по себе, со стороны своего внутреннего содержания, этот тип не весьма выразителен, а в смысле художественного произведения даже груб и неинтересен; но он представляет интерес в том отношении, что служит наивернейшим олицетворением известного положения вещей». Сложность борьбы «новых людей» с «ветхими людьми» осложняется именно наличием «третьего члена», находящегося «между двумя борющимися сторонами» и играющего роль «проводника». «Через этот проводник проходят все стрелы, и смотря по его свойствам, а равно и смотря по умению пользоваться этими свойствами, они для одной борющейся стороны делаются более, а для другой менее удручающими».
Уже в «Дневнике провинциала» была определена в общих чертах внутренняя суть, жизненная философия и психология «среднего человека». «Он представитель той безразличной, малочувствительной к высшим общественным интересам массы, которая во всякое время готова даром отдать свои права первородства, но которая ни за что не поступится ни одной ложкой чечевичной похлебки, составляющей ее насущный хлеб».
Вскоре Салтыков-Щедрин, воспользовавшись известным грибоедовским антропонимом, дал и родовое имя этим приверженцам «чечевичных» идеалов — Молчалины.
Оригинальность щедринской трактовки молчалинства, как уже отмечалось исследователями, состояла прежде всего в непосредственном раскрытии широких — социальных и политических — аспектов этого явления, закономерно порождаемого условиями общественного неравенства и гражданского бесправия. Молчалины — это не только и даже не столько подхалимствующее во имя карьеры чиновничество, сколько особая социальная прослойка, включающая в себя людей различных служебных занятий, профессий, сословий. Это не отдельные проявления морального несовершенства, а, говоря языком автора «Мильона терзаний», «стихия общественной жизни». В этой связи не кажутся оправданными те локализующие акценты в интерпретации «Господ Молчалиных», которые формируют представление о цикле как о произведении, посвященном преимущественно критике чиновно-бюрократического аппарата (его среднего, послушно-исполнительного звена).
Теоретико-публицистическая интродукция, которой открывается молчалинский цикл, подчеркнуто вводит читателя в круг проблем общественно-исторического бытия, социальной психологии, а не чиновничьего существования. «Бывают такие минуты затишья в истории человеческой общественности, — начинает сатирик, — когда человеку ничего другого не остается желать, кроме тишины и безвестности. Это минуты, когда деятельная, здоровая жизнь словно засыпает, а на ее место вступает в права жизнь призраков, миражей и трепетов, когда общество не только не заявляет ни о каких потребностях или интересах, но даже, по-видимому, утрачивает самую способность чем-либо интересоваться и что-либо желать; когда всякий думает только о себе, а в соседе своем видит ненавистника; когда подозрительность становится общим законом, управляющим человеческими действиями; когда лучшие умы обуреваются одним страстным желанием: бежать, скрыться, исчезнуть».
Такие исторические периоды и делают неизбежным явление молчалинства. Оно получает самое широкое распространение, захватывая многие части общественного целого. Молчалины — это и чиновники, и писатели, и священники, и ученые, и дворяне, и разночинцы — все, кто исповедует принцип «умеренности и аккуратности». Напомним соответствующую оговорку сатирика: «Как я уже не раз говорил, Молчалины отнюдь не представляют исключительной особенности чиновничества. Они кишат везде, где существует забитость, приниженность, везде, где чувствуется невозможность скоротать жизнь без содействия „обстановки"».
Что побудило Салтыкова-Щедрина развернуто поставить вопрос о молчалинстве, посвятить ему специальный очерковый цикл?
В первую очередь, разумеется, общественная ситуация, характерные тенденции которой необычайно чутко уловил писатель, отличавшийся, уместно подчеркнуть, среди своих литературных современников особой широтой социально-политического кругозора.
Цикл «Господа Молчалины» создавался в середине 1870-х годов, в период поистине самоотверженной борьбы народников за социальное обновление страны. В этих условиях «умеренность и аккуратность» молчалинствующего «среднего человека» оказывалась силой повышенной, так сказать, моральной и общественно-политической вредности.
Внешне Молчалины весьма благопристойные люди, никому не желающие зла, готовые оказать «проштрафившимся» ближним даже некоторые услуги (если, конечно, для этого не потребуется жертвовать интересами личного спокойствия и благополучия). Они трудолюбивые работники, гостеприимные хозяева, добропорядочные отцы семейств. Им не чужды гуманные движения души. Писатель непрочь учесть все «человеческое», а не «вицмундирное» в Молчалиных, готов с пониманием отнестись к их не весьма завидному положению как людей «забитых», подневольных. «Молчалин является на арену жизни безоружный, почти обнаженный. Во всем его организме нет места, которого нельзя было бы уязвить. Он — заурядный человек толпы, один из тех встречных-поперечных, которые массами во всякое время снуют по улицам. В нем нет ничего выдающегося, самоопределяющегося, что давало бы ему право на место в жизненном пире, на что он мог бы опереться, как на исходный пункт для дальнейшего странствования». Молчалин силою обстоятельств становится на путь искательства и приспособленчества. Самый распространенный способ устройства дел Молчалиных-чиновников, например, прислуживание «нужному человеку», а Молчалиных-литераторов — приобретение репутации благонамеренных либералов.
На пути к благополучию Молчалиных подстерегают многие трудности и невзгоды: самодурство «нужных людей», заставляющее переживать крайне тягостные минуты, опасность оказаться в немилости, лишиться «куска» и т. д. Принимая в расчет «безоружность», необеспеченность «среднего человека», вынужденного собственным горбом добывать средства к жизни, сатирик с некоторым участием относится к «страдальческой эпопее» молчалинского существования. На это обратил в свое время внимание Н.К. Михайловский. Очень подробно рассмотрен «гуманистический» план щедринской концепции молчалинского типа в упомянутых выше исследованиях Е.И. Покусаева и А.С. Бушмина. Отмечаемый момент действительно свойствен позиции сатирика, стремящегося и в данном случае просветительски привлечь к ответственности за «посрамление человеческого образа» порочную общественную среду, «пагубные обстоятельства» (Чернышевский). Тем не менее Салтыков-Щедрин явно не желает ограничиться здесь одним, так сказать, оправдательным аспектом исповедуемого им принципа детерминизма. Его мысль диалектически захватывает и другую сторону вопроса: об ответственности самой личности перед «средой», ибо человек не только продукт последней, но и творец ее.
На переходе к 1880-м годам, в ситуации обозначившегося поражения народолюбивых сил и наступления реакции эта вторая сторона приобретает в глазах сатирика особую актуальность. Голос автора «Современной идиллии» и «Пестрых писем» зазвучит в регистре острейшей критики той либерально-молчалинствующей «мякоти», благодаря которой так нагло распоясалась реакция — «торжествующая свинья». Мотив беды «среднего человека», сохраняющего в своем облике нечто от человека «маленького», отступит на второй план перед мотивом его вины. Впрочем, и тут щедринская критика не будет безоглядной: она вберет в себя заметный тактический расчет (см. ниже).
В «Господах Молчалиных» сатира в большей степени «оговорочна», «объективна». И однако уже в этот период, на этой стадии разработки Проблемы «среднего человека» у писателя складывается вполне отчетливое понимание крайне негативной социальной роли Молчалиных. Возможная личная положительность того или другого Алексея Степановича — доброго человека, приятеля, семьянина — не меняет дела. Признавая наличие «человеческих струн» у Молчалиных, подчеркнуто подробно останавливаясь на этом аспекте, т. е. учитывая, как говорится, все «за», Салтыков-Щедрин тем не менее выносит суровый обвинительный приговор героям «умеренности и аккуратности». «С Салтыковым лично не произошло на всем протяжении его жизни никакого превращения по части умеренности и аккуратности, — указывал Михайловский. — Как он выступил на литературное поприще с презрением к этим бобылкам, живущим ,,на задворках добродетельских селений", так и в могилу сошел без уважения к ним. Он всегда понимал губительную цепкость мелочей и их засасывающую силу».
Не стремление к личному благополучию как таковому вменяется в вину Молчалиным, а полное отсутствие у них гражданской чести, гражданского мужества, развращающее и тех, кто наверху, и тех, кто рядом или внизу. Вина Молчалиных в деморализации общества: они питательная среда таких ненавистных сатирику черт общественного поведения людей, как рабская послушливость, как марионеточная исполнительность, как трусливая благонамеренность, как исключительная сосредоточенность на «мелочах» личного существования.
Служебное рвение и Молчалина-чиновника, и Молчалина-газетчика, их «честное» отношение к своим обязанностям приобретает, как показывает Салтыков-Щедрин, совсем иной смысл в свете природы того дела, которому они служат. В большинстве случаев дело это неблагородное, зазорное. Между прочим, в излюбленной Молчалиными тактике «приручения», «оглаживания» высокопоставленного лица, «субъекта», с целью смягчения или предотвращения наиболее зловредных его начинаний присутствуют элементы, родственные некоторым тенденциям «теории вождения влиятельного человека за нос», которую некогда пробовал практиковать молодой Салтыков-чиновник и которую впоследствии такой уничтожающей критике подверг зрелый Щедрин-писатель («Имярек»; см. также письма к Г.3. Елисееву конца 1886 года).
Нелегка доля Молчалиных, вынужденных принимать на себя часть расточаемых «субъектами» всевозможных репрессалий (последние иносказательно уподобляются начальственному «швырянию» камнями и кирпичами). Однако полного и безоговорочного сочувствия молчалинской доле, порой исполненной настоящего «трагизма», у писателя нет. «По-видимому, — дает одно из многочисленных разъяснений сатирик, — вся штука в том, что камни и кирпичи, которыми „субъект" имеет обыкновение швыряться, приготовляются не другим кем-нибудь, а все тем же Молчалиным».
«Господа Молчалины» — одно из немногих произведений писателя, в которых авторская оценка лишена сатирической завершенности, однозначности, вбирая в себя противовесные начала рrо еt соntra. Писатель негодует, жалея, и, снисходя, обвиняет.
Интересно, что в 5-й главе цикла предпринято специальное отступление, имеющее целью объясниться с читателем по этим пунктам. «Когда я по временам раздумываю о моих отношениях к Алексею Степанычу Молчалину, то невольно прихожу к заключению, что в них есть что-то ненормальное, и это довольно больно щекочет мою совесть». С одной стороны, рефлектирует рассказчик, не внушающая особой симпатии «профессия» Алексея Степаныча, с другой — не вызывающее сомнения «личное его добродушие». Констатируя два раздельных «существования» этого человека — «казенное» и «свое собственное», говоря о «хроническом двоегласии» его жизни, позволяющем угадывать «сквозь наносную кору молчалинства черты подлинно человеческого образа», рассказчик тем не менее видит в своем якшании с Молчалиным печальную необходимость, объясняемую и интересами самозащиты, и несвободой себя самого от указанного «двоегласия», от молчалинского элемента. Суровым самокритицизмом, вообще характерным для сатирика, исполнены следующие строки рассматриваемого отступления: «…ежели общественное значение Алексея Степаныча исчерпывается носимою им фамилией Молчалиных, то твою, человече, роль в сношениях с ним — каким именем следует ее охарактеризовать?».
По признанию рассказчика, подобные вопросы настолько «неприятны и щекотливы», что «при упорном преследовании могут победить самое упорное чувство самосохранения», заставив, таким образом, отвернуться от Молчалиных.
Итак, Молчалины, даже при наличии у них «личного добродушия», — люди малопочтенные. Принимая в расчет прежде всего общественный план жизни и деяний человека, Салтыков-Щедрин не нашел возможным отказаться от сатирического обличения этих приверженцев девиза «изба моя с краю...», этих рыцарей приспособленчества и попустительства, этих вольных или невольных пособников существующего произвола. Молчалины, убежденно заявляет писатель, «деятельнейшие, хотя, быть может, и не вполне сознательные созидатели тех сумерек, благодаря которым настоящий, заправский человек не может сделать шага, чтоб не раскроить себе лба».
В отличие от «инициаторов» зла (они обозначены у сатирика реальными именами английского судьи Джорджа Джеффрея — «Джеффриза» — и обер-секретаря тайной экспедиции С.И. Шешковского) Молчалины-«исполнители», растворенные в безымянной массе «и другие», неприметны. Это в немалой степени затрудняет надлежащий суд над ними и современников, и потомков. А между тем суд необходим, так как Молчалины «части того громадного собирательного, которое, под разными формами и наименованиями, оказывает очень решительное тяготение над общим строем жизни».
Углубляясь в существо дела, сатирик вновь и вновь подчеркивает ответственность за творимые в социально-политическом мире преступления «скромно» пребывающих в тени представителей податливого молчалинского большинства. «Не забудем, — взывает он, — что Джеффризы ничего не могли бы, если бы у них под руками не существовало бесчисленных легионов Молчалиных». «Бессознательность», сопровождающая неблаговидные действия последних, не может служить оправданием. «Наивность» Молчалиных-пособников не только не обессиливает, не облагораживает зло, но и сообщает ему особо отталкивающий характер. Размышляя над этим, сатирик создает беспримерную по своей художественно-обличительной силе сцену, являющуюся одной из ключевых в идейной концепции произведения.
«Я видел однажды Молчалина, который, возвратившись домой с обагренными бессознательным преступлением руками, преспокойно принялся этими самыми руками разрезывать пирог с капустой.
- Алексей Степаныч! — воскликнул я в ужасе, — вспомните, ведь у вас руки...
- Я вымыл-с, — ответил он мне совсем просто, доканчивая разрезывать пирог...
Вот каковы эти и другие, эти чистые сердцем, эти довольствующиеся малым Молчалины, которых игнорирует история, над благодушием которых умиляются современники и которым квартал беспрепятственно выдает аттестацию: ни в чем не замечены!..
Уродливо-комическая сторона молчалинства — сторона главенствующая в щедринской интерпретации данного явления, причем объективно-реальный комизм последнего едва ли не казался писателю более «гротескным», нежели его собственные гротески типа вышеприведенной сцены. В этой связи небезынтересно обратиться к беседе сатирика с Ф.М. Достоевским, изложенной в октябрьском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год. Вызвав Салтыкова-Щедрина на разговор «о комизме в жизни, о трудности определить явление, назвать его настоящим словом», Достоевский сослался в качестве удачного исключения именно на щедринского Молчалина. Не отходя, надо полагать, от конкретного предмета разговора и развивая на его основе общую (излюбленную, кстати) мысль о бедности писательского воображения перед, так сказать, фантазиями самой действительности, автор «Господ Молчалиных» делает следующее примечательное признание автору «Дневника»: «Вот вы думаете, что достигли в произведении самого комического в известном явлении жизни, поймали самую уродливую его сторону, — ничуть! Действительность тотчас же представит вам в этом же роде такой фазис, какой вы и еще и не предлагали и превышающий все, что могло создать ваше собственное наблюдение и воображение!...».
Усилившаяся ко времени окончания «Господ Молчалиных» реакция не замедлила представить писателю означенный «фазис», побудив его положить более густые сатирические краски на портрет «среднего человека».
2
Завершив к осени 1876 года журнальную редакцию «Господ Молчалиных» (главы I-V), Салтыков-Щедрин в самом начале следующего года вернулся к увлекшей его материи. Он создает очерк «Чужую беду — руками разведу», где, впрочем, молчалинская тема развернута в сторону проблем, «навеянных» тургеневской «Новью» (вопрос об «отцах» и «детях» в условиях семидесятых годов, решаемый сатириком в пользу антимолчалинства народнической молодежи), а рассказчику-интерпретатору «придан» Глумов. Очерк этот, как известно, не был пропущен цензурой (впоследствии в другой редакции и с другим названием — «Чужой толк» — был включен во второе издание книги «В среде умеренности и аккуратности», но не в первый, собственно «молчалинский», а в следующий раздел — «Отголоски»), Вместо него для февральской книжки «Отечественных записок» (1877) Салтыков-Щедрин срочно написал рассказ «Современная идиллия», ставший началом одноименного крупного произведения. Естественно, что уже фактом своего зарождения «обязанная» предшествующему молчалинскому циклу, «Современная идиллия» оказалась тесно связанной с ним в проблемном отношении. Вопрос о «среднем человеке» — центральная тема «Господ Молчалиных» — вошел в многоплановое содержание «Современной идиллии» также на правах одного из концептуальных вопросов. Кстати говоря, этот вопрос оказался на смысловых магистралях таких произведений сатирика восьмидесятых годов, как «Письма к тетеньке», «Пестрые письма», «Мелочи жизни», образовав своеобразный «сериал», подобный «сериалам» о бюрократах-«помпадурах» или же о «чумазом».
«Средний человек», представленный в «Современной идиллии» Рассказчиком и Глумовым, взят на сей раз целиком погруженным в стихию «самосохранительных», «шкурных» инстинктов. Причем в «карьере самосохранения» героев преобладающим является не материально-бытовая, а политическая сторона. Молчалин приспосабливался, стремясь заполучить «кусок пирога». Рассказчик и Глумов приспосабливаются с целью приобрести репутацию политически благонадежных обывателей.
Путь, избранный героями, — путь пошлый, постыдный. Всею силою своего блестящего сатирического дарования обрушивается писатель на олицетворяемую ими ту часть «культурного общества», которая, устраивая свою жизнь поудобнее и поспокойнее, готова поступиться элементарными нормами порядочности и чести.
«Наивная» безнравственность молчалинской «стратагемы» — пройденный этап. Рассказчик и Глумов оказываются перед необходимостью вполне сознательно участвовать в «проказах» предержащих властей. С одной стороны, это накладывает на их поведение печать сугубого, воинствующего аморализма, с другой — порождает в них чувство собственной ничтожности, самопрезрения. Подталкиваемые животным страхом, герои превращаются в пресмыкающихся; внимая голосу человеческого естества, они тяготятся своей позорной ролью. В конце концов внутренний конфликт разрешается болезненно-тяжкой «тоской проснувшегося Стыда».
В «Современной идиллии» можно, конечно, расслышать характерный для писателя мотив беззащитности «среднего человека», являющегося при попустительстве масс одной из жертв самодержавного произвола. Но основной, сатирический, акцент все же сделан не на «жертвенности» героев, а на их личной ответственности за то, что происходит и с обществом в целом, и с ними в частности. При иной идейной направленности указанный финал с явлением Стыда был бы немыслим.
«Стыдоучительство» Салтыкова-Щедрина, наблюдаемое и в ряде других его произведений этой поры, не было морализаторством в буквальном смысле слова. Оно имело целью пробудить не одно лишь отвлеченно-нравственное, но и социально-политическое, гражданское сознание современников. Однако и при такой сверхзадаче слово Салтыкова-Щедрина приобрело заметную этическую окраску, откликаясь на «живейшую потребность» времени противостоять процессу нараставшей деморализации общества. Главным объектом авторского воздействия выступал здесь именно средний «культурный человек»: стыдить народный, крестьянский мир с его «в рабстве спасенными» нравственными устоями представлялось несправедливым; взывать к совести господски-правящего мира «мертвых душ» — бессмысленным. Говоря в письме к П.В. Анненкову от 25 ноября 1876 года о «важности» разработки темы «стыда» в условиях русской действительности второй половины 1870-х годов, сатирик весьма определенно обозначает жизненный материал и одновременно адресат своего «стыдоучительства»: так называемое культурное большинство, т. е. среднюю — за вычетом активно революционного и реакционного крыла — интеллигенцию.
Салтыков-Щедрин и ранее немало размышлял над призванием и судьбами русской интеллигенции, особенностями ее исторической биографии, социального поведения, психологии. Нельзя не вспомнить, что именно интеллигент Нагибин (в качестве главного героя повести «Противоречия») открывает галерею щедринских художественных образов. Нельзя не вспомнить также, что в «Губернских очерках», которыми сатирик вошел в большую литературу и идейно-тематический профиль которых определялся разоблачением бюрократического аппарата самодержавия, проблеме интеллигенции было уделено особое, специальное внимание («Талантливые натуры»).
Акценты щедринской критики интеллигента в 1840-1850-е годы — «свои», соответствующие условиям времени, но требовательно-критическое отношение к нему (интеллигенту) неизменно.
В лице Нагибина, например, ранний Салтыков убежденно осудил бесплодное рефлектерство, гипертрофированную страсть к самоанализу, безволие, неспособность перейти от слова к делу. Сам герой с горечью сознается в конце повести, что его умственные силы не были употреблены в «дело», не принесли «пользы», не дали результата. «Что в том, что я много наблюдал, многому выучился, многое вычитал?.. что в том пользы, говорю я, когда у меня руки не поднимаются, ноги не ходят? Все это знание больше ничего, как слова, слова, слова...».
Интересно, что уже тогда Салтыкова-Щедрина тревожит перспектива рядового интеллигента оказаться в плену «двух больших добродетелей» — «умеренности и аккуратности», «в которых скорее слышится отрицание жизни, нежели жизнь».
Писателя явно не устраивает наклонность Нагибиных и Брусиных («Брусин») к пассивному созерцанию действительности, «мечтательное», а не действенное отношение к ее «запутанным» вопросам.
Беспомощность, теоретико-идейный дилетантизм, капитулянство перед «силою вещей», дряблость — характерные качества образованных, «талантливых», но сугубо праздных Буеракиных и Лузгиных («Губернские очерки»). От них невозможно ждать никакого содействия социальному прогрессу, это общественный балласт.
В 1860-е годы Салтыков-Щедрин придаст критике русского интеллигента, «посвящающего свой досуг упражнениям в благородстве чувств», характер принципиального развенчания, четко обозначая при этом социальную принадлежность объекта критики к сословию дворянских «отцов».
Солидаризируясь с мнением Чернышевского и Добролюбова об исчерпанности исторической роли «лишних людей», о необходимости «нового человека» на поприще общественной деятельности, Салтыков-Щедрин заостряет внимание на таких высвеченных временем свойствах дворянского интеллигента, как его политическое малодушие, идейно-нравственная «рыхлость», отход при соответствующих обстоятельствах от передовых убеждений молодости, идеалов «сороковых годов». Достаточно вспомнить сатирически трансформированных тургеневских героев в произведениях Салтыкова-Щедрина, чтобы представить всю меру его недоверия к деятелям рудинской генерации.
Писатель был очевидцем разительных перемен, происходивших в бурные 1860-е годы с бывшими восторженными почитателями Белинского и Грановского. Не выдержав испытания суровой жизненной практикой, щедринский герой-интеллигент — одним из ярких образчиков его может служить «я»-рассказчик большинства сатирических обозрений — трусливо отрекается от своего «либерального» прошлого, стремится загладить «вину» молодости истовой благонамеренностью мыслей и чувств.
Нередко подобное «самоочистительное» рвение, как показывает сатирик, доходит до последней черты, и вчерашний «друг» славных деятелей «сороковых годов» предстает в роли откровенного охранителя. Салтыков-Щедрин, разумеется, учитывал здесь пример Каткова. Но не только его одного. На глазах у писателя совершалось немало такого рода метаморфоз. Об одной из них, имеющей, впрочем, значение художественно-публицистического обобщения, выразительно повествуется в «ташкентском» очерке «Они же».
В молодости рассказчик был вхож в передовые кружки 1830—1840-х годов, его «горячо» волновал девиз: «добро, красота, истина», его «искренне» увлекало движение, «возбужденное Белинским, Луи Блан, Жорж Занд», его «трогали идеи 1848 года».
Вскоре потребовалось, однако, выйти за пределы пусть и самых благородных, но отвлеченных «девизов» и лозунгов. Явилось новое поколение общественных деятелей, предложивших наполнить красивые «слова» конкретным «содержанием». Рассказчику это оказалось явно не по плечу, но вместо самокритической переоценки своих позиций он встал во враждебные отношения к «новым людям». Не ограничиваясь одной идейной борьбой, он, регрессируя все более и более, становится в ряды непосредственных гонителей «неблагонадежных элементов» — вступает в члены частного общества «содействователей» под названием «Робкое усилие благонамеренности».
Вопрос: «Что было бы, если б был жив Грановский? Остался ли бы я его другом?» — сам рассказчик признает «праздным». Один из не утративших смелости и прямодушия собеседников его заявляет в ответ: «Вы... друг Грановского? Вы!.. Да он бы на порог квартиры своей вас не пустил!..».
Можно предположить, как это и сделано в комментарии к циклу, что здесь щедринское сатирическое обобщение вобрало в себя помимо прочих и тот конкретный факт, который был известен современникам Салтыкова-Щедрина и который получил особенно широкую огласку после герценовской статьи «Лобное место». Факт этот, связанный с неблаговидной в политическом отношении деятельностью ученого-ориенталиста В.В. Григорьева, изложен у Герцена (получившего письменное подтверждение от Н.А. Мельгунова со ссылкой на И.С. Тургенева) так: «Он (Григорьев. — В. М.) особенно прославился поручением в остзейские губернии, имевшим целью осмотр книжных лавок и частных библиотек в случае нужды. Ему содействовали два жандармских офицера при отборе и запечатывании книг. По окончании этого поручения Григорьев был назначен в Оренбург. Проездом через Москву ему вздумалось навестить Грановского, может, затем, чтоб заглянуть в его библиотеку. Грановский, знавший про подвиги Григорьева, велел своему слуге не впускать его на двор».
Процесс идейно-политического перерождения «человека сороковых годов» взят автором очерка «Они же» в одной из открытых, так сказать, грубых стадий. Салтыков- Щедрин наблюдал, разумеется, и более тонкие формы отхода среднего интеллигента от передовых позиций, от гражданского долга, от личной нравственной ответственности. Но осуждение недостойного поведения тех, кто своим положением «людей мысли» призван не способствовать, а препятствовать утверждению «ига безумия», вполне различимо у сатирика и в этом случае.
Едкой авторской иронией окружены, например, «я»-рассказчик и Менандр Прелестнов («Дневник провинциала в Петербурге») в качестве представителей тех кругов литературной интеллигенции, которая пытается имитировать свободомыслие, но фактически исповедует благонамеренный крохоборческий девиз «не расплываться!».
Не сумев до конца истребить в себе дух «сороковых годов», не утратив способности самокритицизма, Менандр и рассказчик откровенно признаются друг другу в том, что интеллигенция в массе своей идейно обмелела, что многие «пенкоснимательствующие» современники далеко отошли от заветов Белинского и Грановского.
Полемически разворачивая свои оценки дворянского интеллигента против известных «реабилитационных» устремлений автора «Рудина», сатирик на примере «оживших» тургеневских героев так разъясняет свою мысль об измельчании «культурных людей». У Берсенева, сообщает встретившийся с ним рассказчик-провинциал, вроде бы и сохранилось желание «идти по стопам Грановского», однако «идти не самому, а чтоб извозчик вез».
Готовность интеллигента «трепетать», стремление заслужить благорасположение власть имущих, поступаясь при этом чувством собственного достоинства, больно задевали писателя, диктовали ему строки, исполненные острейшей сатиры.
Вот компания «культурных людей», состоящая из рассказчика-провинциала и, главным образом, тургеневских героев (Веретьев, Рудин, Лаврецкий, Берсенев, Аркадий Кирсанов), оказывается после участия в мистифицированном «международном съезде статистиков» под следствием и судом (тоже мистифицированным). Тут-то и обнаруживаются в полной мере душевная дряблость, податливость, беспринципность «культурного человека», целиком находящегося во власти «шкурного инстинкта». Герои наперебой спешат отречься от «грехов» молодости — благородных мыслей и побуждений, выгородить себя любым способом, не останавливаясь перед наветами и доносами на своих «сообщников».
В мемуаристике (Н.А. Белоголовый, Е.Н. Водовозова, А.В. Никитенко, Л.Ф. Пантелеев, Н.В. Шелгунов, Е.А. Штакеншнейдер и др.) можно найти немало фактов, подтверждающих то, как достоверно отражены писателем особенности идейнонравственной жизни тогдашнего «культурного общества». Эта достоверность обусловливалась в первую очередь хорошим знанием действительности, острой наблюдательностью, присущими сатирику. Свою роль в глубоком осмыслении проблемы среднего «культурного человека» сыграло и обращение писателя к соответствующему литературному материалу.
Поскольку Салтыкова-Щедрина занимал не личностно-психологический, а общественно-политический аспект проблемы, постольку особый интерес вызывали у него социологически акцентированные произведения писателей-демократов (к тому же специально вовлекавшие в ее орбиту «новых людей»), хотя вопрос о «среднем человеке» не был, разумеется, уделом только этого крыла русской литературы.
Творческая мысль Салтыкова-Щедрина не могла не учитывать, к примеру, художественно-образные «показания» Н.Г. Помяловского, зорко разглядевшего собственнические идеалы культурных «мещан» Молотовых, или же «свидетельства» И.А. Кущевского, умело раскрывшего приспособленческую психологию «благополучных» интеллигентов-обывателей Негоревых.
Исследователями уже ставился вопрос об идейно-творческих отношениях Салтыкова-Щедрина с писателями-демократами 1860-1880-х годов. Одним из недостатков в его разработке продолжает оставаться то, что означенные отношения рассматриваются преимущественно в одном направлении: воздействия сатирика на демократическую беллетристику. Обратная связь при этом, за малыми исключениями, не учитывается. А между тем Салтыков-Щедрин, несомненно, не только «давал», но и «получал». И дело здесь вовсе не в использовании каких-то отдельных приемов и деталей, хотя у сатирика можно встретить и это. Творчество писателей-демократов (далеко не всегда, кстати, обращавшихся к сходным темам после Салтыкова-Щедрина, вслед за ним) помогало ему глубже осознать историческую актуальность той или иной проблемы, стимулировало к уяснению ее во всей сложности и многоаспектности, создавало необходимые предпосылки для широких, завершающих художественно-публицистических обобщений.
Публицистика Г.3. Елисеева и Н.К. Михайловского с ее резкой критикой либеральной интеллигенции, произведения Г. Успенского («Разоренье»), Марко Вовчок («Живая душа»), С. Смирновой («Огонек»), А.О. Осиповича-Новодворского («Эпизод из жизни ни павы, ни вороны») и других участников «Отечественных записок», обращавшихся к теме «культурных людей», также питали или поддерживали обличительный настрой сатирика.
Среди авторов-современников, привлекавших сочувственное внимание Салтыкова-Щедрина, особенно много размышляла и писала об «образованном обществе» в лице его дюжинных представителей Н.Д. Хвощинская (В. Крестовский). По мнению П.Н. Ткачева, посвященные разработке психологических вопросов произведения Хвощинской не лишены социального значения во многом потому, что в них изображаются быт и нравы прослойки, играющей заметную роль в «общественной сутолоке», — прослойки «средних культурных людей». Из нее, довольно разнообразной по составу, замечает далее критик, вышли люди «сороковых» и «шестидесятых» годов, «от нее же ведут свое начало деятели 70-х и 80-х годов». Но это лишь одна, наименее устроенная в жизни и наиболее интеллигентная ее часть, весьма невеликая в количественном отношении. Другая часть — наиболее устроенное и наименее интеллигентное «большинство». На последнем нередко и останавливает свой взор писательница.
«Большинство» у нее тоже, в свою очередь, разнородно и разнолико. Здесь и активные приспособленцы — карьеристы, дельцы, «хищники» и, говоря языком другого критика, «недоросли нравственного мира», люди не «идеи», а скоропреходящих «порываний» и «инстинкта стадности».
В повести «Первая борьба» (1869), которую журнальный соратник Салтыкова-Щедрина Н. К. Михайловский справедливо относил к числу «лучших произведений» и в собственном творчестве писательницы, и в русской литературе вообще, с большим мастерством обрисована душевная опустошенность, нравственная ущербность, воинствующий эгоизм представителя (причем, из «детей») первой категории (активных приспособленцев), коему не только далеки, но и ненавистны гуманно-благородные убеждения его отца-демократа. По характеристике М.А. Протопопова, «психологический интерес» данного типа прямо сочетается «с интересом общественного свойства». Герой произведения, готовый во имя сытого и праздного существования поступиться не одними высокими идейными принципами предшественников-шестидесятников, но и элементарными нормами морали, — истинный «герой времени». «Ученый» хищник, приверженец социологического дарвинизма, он генетически восходит к таким «борцам» за личное благополучное существование, как Молчалин (дощедринский — В. М.) и Чичиков.
Немалое впечатление, судя по всему, произвел на сатирика рассказ Н.Д. Хвощинской «Счастливые люди», помещенный в 4-й книжке «Отечественных записок» за 1874 год. Процесс обмеления интеллигентского большинства, забвение им идеалов «сороковых годов» и размен на мелочи наследства «шестидесятников» представлен писательницей тоже как характерный признак новых времен, как симптом наступления глубокого духовного кризиса русского общества.
«Я»-рассказчик очерка, пытающийся заговорить со своими бывшими друзьями-единомышленниками языком «славной» эпохи недавнего прошлого, с горечью вынужден признать, что его не понимают, а точнее — не хотят понимать. Рассказчика удручает то, что «уцелевшие» после натиска реакции могли бы даже в условиях «трудного времени» сплотиться и продолжать служение делу общественного прогресса, но они охотно оставили прежнюю стезю, предпочтя откровенное приспособленчество. «...Они жили в свое удовольствие и не отговаривались никакими стеснениями», — сокрушенно констатирует рассказчик.
Правда, «благополучный россиянин» Кубецкий непрочь «пофилософствовать» относительно преследуемых им и ему подобными отступниками целей личного преуспеяния как целей законных, «естественных» и даже общественно полезных. Но в его словах — заведомая неискренность, демагогия и фальшь. «Счастливые люди!» — иронизирует Хвощинская по адресу «бездумных» Кубецких. «Счастливцы!!» — вторит ей Салтыков-Щедрин.
Другой персонаж рассматриваемого произведения, честный, стремящийся, как и рассказчик, сохранить верность заветам молодости Алексеев, самокритично заявляет: «...мельчаем — хоть в микроскоп нас разглядывай! Чувствуем, что падаем, и сами над собой смеемся. А? правда? были времена хуже — подлее не бывало!».
Эту характеристику современности Салтыков-Щедрин нашел крайне меткой и точной. «Правду сказала Хвощинская, — пишет он в письме к А.М. Жемчужникову от 28 марта 1878 года, — бывали времена хуже, подлее не бывало. Да, не бывало — клянусь, так!».
Сатирик отдавал должное таланту писательницы, учитывал ее тонкие наблюдения над психологией среднего интеллигента, хотя, безусловно, был вполне самостоятелен в разработке «смежных» тем и проблем. Как литератор, он превосходил Хвощинскую глубиной и масштабностью осмысления затрагиваемых явлений, степенью мастерства их художественно-публицистической обрисовки. Это признавала и сама Хвощинская. В письме к Салтыкову-Щедрину от 8 октября 1876 года, называя «прелестью» начатый писателем цикл «Культурные люди», она добавляет: «Вы делаете Ваше дело, как никто: всякое Ваше слово — гражданская заслуга.
Хвощинская рассматривает проблему «культурного человека» преимущественно (не исключительно) в плоскости этической. По представлениям писательницы, перерождение средней интеллигенции, выражающееся в идейном отступничестве, измене прежним убеждениям, обусловлено главным образом нравственным несовершенством многих ее представителей.
Салтыков-Щедрин не забывает об аспекте социальном. Не снимая с личности моральной ответственности, сатирик предъявляет всякий раз суровый счет порядку вещей, способствующему развитию дурных наклонностей в человеке. Оставаясь «общественником», Салтыков-Щедрин настойчиво варьирует мысль, что лишь наличие правильных, разумных форм социальной жизни обеспечит всеобщее нравственное здоровье. Необходим такой строй жизни, при котором людям было бы не в тягость, а в радость думать и действовать достойно, независимо, честно.
Сатирик, подчеркиваем, признает важность борьбы за идеалы личной нравственности. Но эта борьба не мыслится им вне борьбы за идеалы общественные. Здесь и можно видеть отличие щедринской позиции от позиции Хвощинской и других «моралистов».
И еще. Проблема «культурных людей», как и ряд других значительных проблем, рассматривается сатириком в широком контексте самого первостепенного для него вопроса — вопроса о «мужике». Вообще, «средний человек» интересен писателю не только и, быть может, даже не столько сам по себе, сколько в качестве общественного элемента, прямо или косвенно влияющего на положение дел народных масс, на судьбу «человека, питающегося лебедой». Некоторые моменты тесной связи означенных проблем — «среднего человека» и «мужика» — заявлены у Салтыкова-Щедрина не
только идейно, но и композиционно. Так, рассказ «Сон в летнюю ночь», по собственной характеристике писателя, должен был явиться началом предполагавшихся специальных «параллелей: с одной стороны — культурные люди, с другой — мужики».
Для Хвощинской подобная связь не характерна. Проблема «культурного человека» рассматривается ею, так сказать, изолированно, преимущественно, как отмечено выше, в своих нравственно-психологических аспектах. Что касается «мужика», то он привлекает внимание писательницы в значительно меньшей степени, чем автора «Сна в летнюю ночь».
3
Категория «среднего человека» у Салтыкова-Щедрина, как мы могли наблюдать, отличается «пестротою» содержания, разноликостью ее слагаемых (молчалинствующий бюрократ, «праздношатающийся» дворянин, мегцанствующий интеллигент и т. д.). Сословно-профессиональная разноликость эта предусмотрена писателем: она помогает оттенить главную и единую для всех «пестрых людей» социально-психологическую черту, беспощадно преследуемую им, — гражданскую пассивность, оборачивающуюся пособничеством реакции. Нетрудно заметить, что в данном случае «средний человек» предстает перед судом Салтыкова-Щедрина как субъект социальной истории, как лицо, способное влиять на ее развитие. Это, однако, лишь один аспект проблемы, одна ипостась «среднего человека». Есть и другой аспект, другая ипостась, когда «средний человек» рассматривается писателем как «страдательный» объект исторического процесса, переживающего один из самых мрачных, «призрачно»-неразумных своих фазисов.
Насилие и произвол, наблюдаемые в русской общественной жизни, достигли такой степени, при которой только «исключительные натуры» (типа Буташевича-Петрашевского или Чернышевского) не подпадают под действие «принципа самосохранения». «Средние деятели современности», среди которых немало людей вполне порядочных, «честных», в этом отношении менее стойки. Они могут сочувствовать идеям обновления жизни на справедливых началах, верить в «утешительный», ведущий к победе добра ход истории, но их поведение определено сознанием того, что процесс утверждения «правды» сопряжен в настоящем с «неслыханными жертвами», что он равносилен «процессу сдирания кожи с живого организма». Добровольно подвергнуть себя этим испытаниям дано не каждому. «Самоотверженность не в нравах среднего человека, да ведь она и не обязательна. Средний человек не прочь даже, в видах самооправдания, сослаться на ненормальность самоотверженности вообще и в принципе будет, пожалуй, прав. И хотя ему можно возразить на это: так-то так, да ведь в ненормальной обстановке только ненормальные явления и могут быть нормальными, но ведь это уж будет порочный круг, вращаться в котором можно до бесконечности, не придя ни к какому выводу».
Не приходится третировать «среднего человека», ибо он — «действительный объект истории»; нельзя без должного понимания винить его в недостаточном оптимизме по части исторических «утешений», так как жизнь на каждом шагу подрывает его веру в последние. «Каким же образом ему примириться с утешениями истории, каким образом уверовать в них, когда он ежеминутно встречает осязательные доказательства, что эта самая история на каждом шагу в кровь разбивает своего собственного героя?».
«Адвокатские» тенденции относительно «заурядного человека толпы», с известным скептицизмом относящегося к «историческим утешениям», наблюдались у сатирика и ранее. Они хорошо различимы, например, в «октябрьской» (1864) хронике «Наша общественная жизнь», не опубликованной в свое время «Современником» всего вероятнее из-за внутриредакционных разногласий. По обстоятельствам писатель возвращался к этим тенденциям, делал специальный акцент на них.
Л-ра: Русская литература. – 1991. - № 2. – С. 52-67.