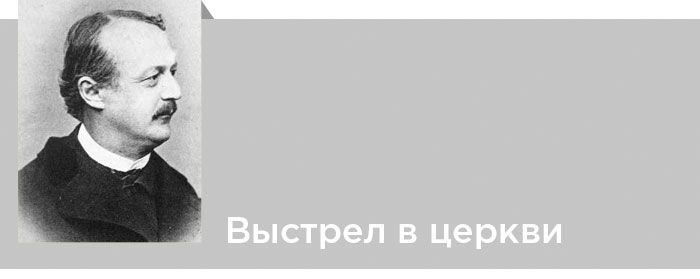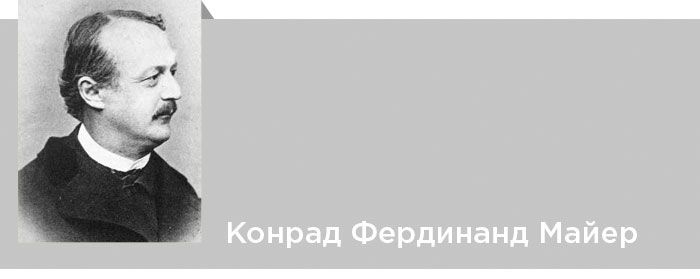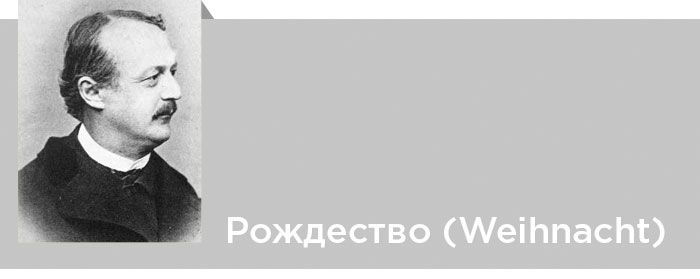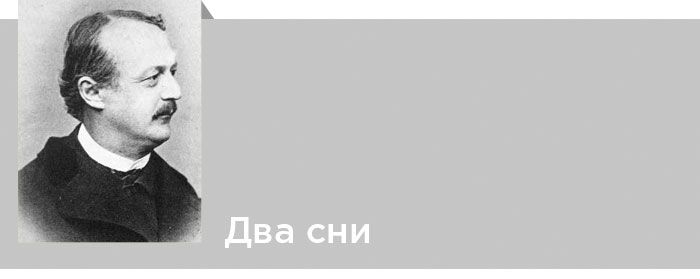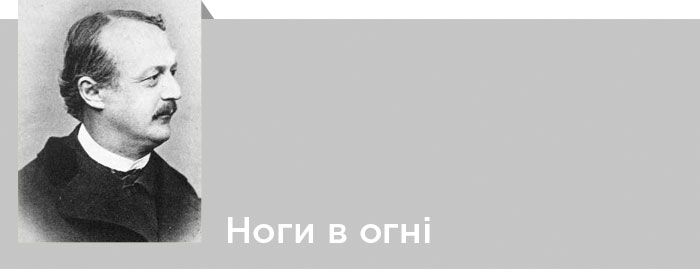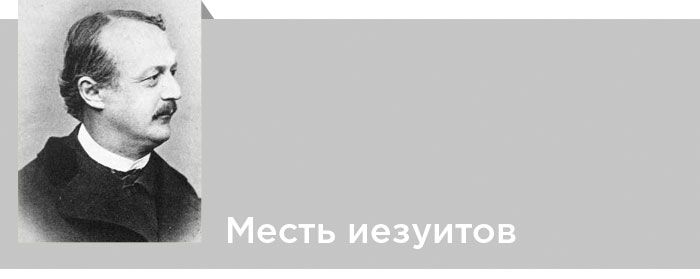Конрад Фердинанд Мейер. Паж короля
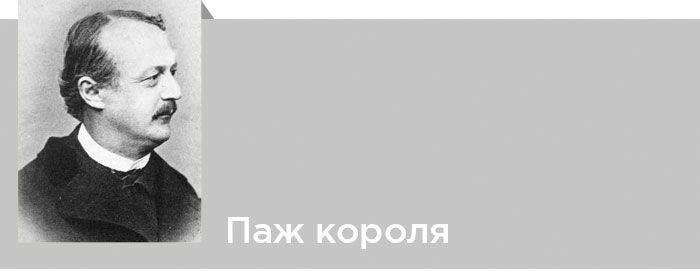
Глава I
В конторе одного нюрнбергского дома за большим письменным столом сидели друг напротив друга отец и сын и занимались подведением итогов торговой операции. Каждый из них на отдельном листе бумаги подсчитывал цифры одного и того же длинного ряда приходо-расходных статей, чтобы потом для большей достоверности сравнить результаты. Худощавый юноша, копия своего отца, первым оторвался от цифр. Он окончил работу и ждал теперь отца не без оттенка самодовольства на худом лице. Вошел слуга и подал письмо с печатью. Его доставил, по его словам, корнет из шведских карабинеров. Посланец в настоящее время был занят осмотром зала ратуши, знаменитой своей живописью, и собирался ровно через час снова явиться сюда. Почтенный купец с первого же взгляда распознал уверенный почерк его величества, шведского короля Густава Адольфа, и был несколько смущен. Чему он был обязан чести собственноручного королевского послания? У него невольно появилось опасение, как бы не вздумалось королю, которого он угощал и чествовал в своем заново отстроенном доме — прекраснейшем во всем Нюрнберге, — позаимствовать у него денег. Но так как купец был страшно богат и умел ценить по достоинству добросовестность шведского казначейства, то все же он без особого беспокойства и даже с легкой хвастливой усмешкой сломал королевскую печать. Однако едва он пробежал глазами строки письма, отличавшегося немногословностью, как лицо его приняло цвет барельефа над его головой, где было изображено принесение в жертву Исаака его собственным отцом Авраамом. Сын, в свою очередь, побледнел при виде того, как вся краска сбежала с отцовского лица; ему стало ясно, что стряслась какая-то беда. Но он еще больше опешил, когда старик, отведя взор от бумаги, с выражением скорби и нежности посмотрел на сына.
— Отец, скажите скорее, — запинаясь, произнес юноша, — что случилось?
Старый Лейбельфинг — к этому именитому купеческому роду принадлежали отец и сын — дрожащей рукой протянул сыну письмо. Тот прочел следующее:
«Любезный господин Лейбельфинг! Будучи осведомлены о желании сына Вашего поступить к Нам на службу в пажи и отнюдь не забыв о том, настоящим уведомляем, что желание это может беспрепятственно осуществиться, поскольку Наш предыдущий паж, покойный Бехайм (почтим при сем случае и память предшественника его, покойного Фолькамера, и опять-таки его предшественника, покойного Тухера) сегодня во время штурма, после того, как пушечным ядром ему оторвало обе ноги, тихо почил на Наших руках. Для нас будет радостью принять на личную службу снова одного из уроженцев имперского города Нюрнберга, пользующегося Нашим особенным расположением. Господин Лейбельфинг может быть совершенно уверен в том, что его сын будет жить в подобающих условиях.
Густав Адольф».
— Господи милосердный! — вскричал сын, не тая перед отцом своей трусости. — Мой смертный приговор теперь у меня в кармане, и именно вы, отец, виновник моей преждевременной кончины! Ибо кто, кроме вас, мог внушить королю столь ошибочное мнение о моих желаниях и помышлениях? Помилуй Бог!
— Дитя, ты разрываешь мне сердце! — ответил старик, роняя слезы. — Будь проклят лишний стакан вина, выпитый мною!
— Отец! — прервал его сын, поникшая голова которого, несмотря на беду, сохранила свою ясность. — Отец, расскажите, как случилось это несчастье?
— Август, — начал каяться старик, — ты помнишь тот пир, который я устроил в честь короля? Этот пир, между прочим, обошелся мне в кругленькую сумму!
— В триста девяносто девять гульденов одиннадцать крейцеров, отец, а мне этого угощения отведать не пришлось! — заметил юноша жалобно. — Ведь я сидел в своей комнате с холодной примочкой под глазом. — Он указал на свой правый глаз. — Это было дело рук Густы: обезумев и ошалев от радости, что ей представится случай увидеть короля, она запустила мне воланом в глаз, когда раздался трубный сигнал, и ей почудилось, что швед уже въезжает в город. Но продолжайте, отец.
— Когда кушанья были убраны и поданы фрукты и кубки, то народ в зале и внизу на площади возликовал. Всем хотелось видеть короля. Зазвенели бокалы, послышались здравицы, встреченные внизу и наверху радостными криками. И вдруг посреди всего этого шума раздался ясный, звонкий голос: «Да здравствует Густав, король Германии!» Тут наступила мертвая тишина. Дело принимало нешуточный оборот. Король прислушался и начал поглаживать бородку. «Таких вещей я не должен слышать! — сказал он. — Я поднимаю бокал в честь имперского города Нюрнберга!» Ну, тут уже ликованию не было конца. На площади началась пальба. Через некоторое время его величество как бы ненароком отвел меня в угол. «Кто это произнес слова в честь короля Германии, Лейбельфинг?» — спросил он меня, понизив голос. И тут-то меня, старого пьяного осла, одолело хвастовство… И я ответил: «Это сделал мой сын Август, ваше величество. Он днем и ночью только и мечтает стать вашим пажом!» Я знал, что должность королевского лейб-пажа уже занята Тухером и что бургомистр Фолькамер, равно как и судья Бехайм, предложили уже своих мальчиков в пажи. Да и сказал-то я это лишь для того, чтобы не ударить в грязь лицом перед соседями — старым Тухером и хвастуном Бехаймом…
— А что, если бы король тут же велел привести меня, с моим синяком под глазом?
— Все было предусмотрено, Август! В прихожей шумел продувной жулик Шарнасс. Уж три раза он докладывал о себе, и от него никак нельзя было отвязаться. Король позволил ему войти и так принялся журить посланника перед всеми нами, патрициями, что у каждого немца сердце должно было радоваться! Ни одно из этих обстоятельств не осталось незамеченным мною.
— Так умно и все же так глупо, отец, — вздохнул сын.
Затем они принялись втихомолку совещаться в поисках противоядия, как они это называли; они понизили теперь свои голоса до шепота, тогда как раньше, в своем волнении, забыли, что в соседней комнате сидели ученики и служащие. Они рассуждали и рассуждали, но все не находили никакого выхода. Тут снаружи раздался звучный альт, напевавший одну из любимых военных песен Густава Адольфа, и вслед за этим в комнату вошла стройная девушка с веселыми глазами, коротко подстриженными волосами и мальчишеской фигурой, с замашками, несколько напоминавшими кавалериста.
— Все уши хочешь нам прокричать? — накинулись на нее оба Лейбельфинга.
Она обвела всю сцену взглядом и произнесла:
— Я пришла звать вас к столу. Но что случилось, дядюшка и кузен? Вы так бледны!
Письмо, лежавшее на столе между отцом и сыном, объяснило девушке их испуг. Увидев размашистую королевскую подпись, она тут же схватила письмо и жадными глазами пробежала его.
— К столу, господа! — сказала она и направилась первая в столовую.
Однако добросердечной девушке и самой стало не по себе при виде того, как каждый кусок становился Лейбельфингам поперек горла. Она велела убрать со стола, отодвинула стул, скрестила руки, закинула ногу на ногу под юбкой, у пояса которой висела сумка и связка ключей, и попросила рассказать о злополучном происшествии. Видимо, благодаря своему бойкому нраву она обладала в этой семье немалым влиянием.
Лейбельфинг описал ей положение.
— Подумать только! — воскликнула девушка. — Знаете, кто был тот крикнувший «ура» в честь короля?
— Кто же? — спросили Лейбельфинги.
— Не кто иной, как я!
— Пропади ты пропадом, девчонка! — разозлился старик. — Наверно, ты вырядилась в тот синий шведский солдатский мундир, что висит у тебя в шкафу за передниками, и вместо того, чтобы чинно сидеть среди женщин, прокралась в столовую к своему кумиру?
— Они отвели бы мне самое последнее место, — возразила девушка обиженно, — все они, удостоившиеся поднести королю в дар от нашего города два серебряных кубка…
— И как такая скромная девушка — а ведь ты же скромна, Густа, — решилась надеть мужскую одежду? — укорял ее жеманный юноша.
— Да ведь это, — возразила девушка серьезно, — одежда моего отца, на которой возле кармана на груди виднеется заштопанная дырка, прорванная шпагой француза! Достаточно мне скосить глаза, — и она сделала это, как будто на ней уже был отцовский мундир, — чтобы увидеть место разреза, а это действует на меня, как проповедь. К тому же, — сказала она в заключение, переходя, по своему обыкновению, от серьезных речей к шутке, — женские юбки совсем не по мне. Неудивительно, что они мне не идут: я же до четырнадцати лет вместе с отцом и матерью ездила верхом по-мужски.
— Милая сестрица, — жалобно протянул молодой Лейбельфинг, — с тех пор как умер твой отец, ты была нам как родная, и вот что ты теперь наделала! Ты посылаешь двоюродного брата на смерть! Одному пажу короля прострелили лоб, другому — шею. — У него мурашки пробежали по коже. — Хоть бы дала теперь какой-нибудь добрый совет, сестрица!
— Добрый совет? — произнесла девушка многозначительно. — Я готова дать тебе его: веди себя как нюрнбержец, как Лейбельфинг.
— Лейбельфинг! — ядовито повторил старик. — По-твоему, всякий нюрнбержец и каждый Лейбельфинг должен быть непременно забиякой вроде твоего отца Руперта, царствие ему небесное? Когда мне было десять, он однажды увез меня на телеге от родителей и опрокинул по дороге; сам-то уцелел, а я сломал два ребра. Что за жизнь такая — в пятнадцать лет сбежать к шведам, в семнадцать перед барабаном вместо алтаря обвенчаться с пятнадцатилетней девицей, а к тридцати годам погибнуть в драке!
— Он пал, — вмешалась девушка, — за честь моей матери…
— Так ты ничего не можешь мне посоветовать, Густа? — настаивал на своем молодой Лейбельфинг. — Ты ведь знаешь шведскую военную службу. Какие недостатки могут освободить от нее? Под каким законным предлогом я мог бы от нее отделаться?
Девушка разразилась безудержным хохотом.
— Мы запрячем тебя среди девиц, как молодого Ахилла, изображенного на печке.
— Я не пойду, — ответил тот, разозленный этим мифологическим сравнением. — Я не тот человек, о котором отец говорил с королем.
Но тут старый Лейбельфинг, вцепившись ему в левую руку, стал плакаться:
— Ты меня, уважаемого человека, хочешь выставить в глазах короля легкомысленным хвастуном?
Девушка же, сжав правую руку двоюродного брата, воскликнула возмущенно:
— Ты хочешь своей трусостью опозорить славное имя моего отца?
— Знаешь что? — вскричал молодой Лейбельфинг, задетый за живое. — Ступай-ка ты сама пажом к королю! При твоей мальчишеской внешности и твоих замашках он вряд ли признает в тебе девушку. Давай поезжай к своему кумиру и поклоняйся ему сколько угодно! В конце концов, кто знает, не вбила ли ты уже давно эту мысль себе в голову! Ведь бредишь же ты наяву и во сне шведским королем, с которым ребенком разъезжала по свету. Когда три дня назад, направляясь в свою комнату, я проходил мимо твоей спальни и еще издали услышал, как ты разговариваешь во сне. Право, мне незачем было прикладывать ухо к замочной скважине: «Король! Стража, сюда! На караул!»
Девушка отвернулась. Яркая краска залила ей щеки и лоб. Но, подняв затем снова свои светло-карие глаза, она сказала:
— Берегись! Как бы дело не закончилось именно этим, хотя бы только для того, чтобы не одни только трусы носили имя Лейбельфинг!
Так детская мечта превратилась в нечто дерзкое, но возможное. Сказывалась отцовская кровь: удали и отваги хоть отбавляй, если бы только не девичья стыдливость и пристойность да не благоговение перед королем. Однако водоворот событий захватил девушку и увлек ее с собой.
Шведский корнет, который привез послание короля и должен был сопровождать пажа в лагерь, велел доложить о своем приходе. Вместо живописи мастера Альбрехта он решил посвятить свой досуг погребу и кубку с вином, но не пропустил, однако, боя часов. Старый Лейбельфинг в смертельном страхе за сына и за свою торговлю сделал такое движение, будто бы хотел припасть к ногам племянницы, а молодой Лейбельфинг задрожал.
Девушка с судорожным смешком высвободилась и ускользнула от них через боковую дверь за какое-нибудь мгновение до того, как в комнату вошел, позвякивая шпорами, корнет — юноша с глазами, сверкающими задором и огнем. Тем временем Августа впопыхах собиралась у себя в комнате; она достала ранец, натянула на себя мундир отца, сидевший на ее стройной фигуре как влитой, и затем бросилась на колени для короткой молитвы с мольбой о прощении и о помощи. Когда она снова спустилась в зал, корнет крикнул ей:
— Живо, товарищ, время не терпит, кони роют землю, король ждет нас. Прощайтесь с отцом и двоюродным братом!
С этими словами он опрокинул в себя содержимое поднесенного ему стакана.
Мнимый юноша, переодетый в шведский мундир, склонился к сухой руке старика, поцеловал ее дважды и принял исполненное благодарности благословение; затем, внезапно перейдя к безудержной веселости, паж схватил молодого Лейбельфинга за руку и промолвил:
— Прощайте, барышня! Прощайте, кузина!
Корнет расхохотался.
— Черт побери, вот так штуки выкидывает товарищ! С вашего позволения, мне тотчас бросилось в глаза: господин кузен — вылитая старуха, каждая черта, каждое движение! Черт меня побери!
Быстрым движением он сорвал с головы прислуживавшей горничной чепчик и напялил его на темя молодого Лейбельфинга, поросшее жидкими прядями волос. Острый нос и слаборазвитый подбородок довершили картину. Затем слегка подвыпивший корнет приятельски подхватил пажа под руку, но тот отступил от него на шаг и, опустив руку на эфес шпаги, сказал:
— Товарищ, я против всякого панибратства!
— Ах вот оно что! — произнес тот, однако посторонился и пропустил пажа вперед. Оба спустились по лестнице.
Лейбельфинги еще долго продолжали совещаться. Было ясно, что юноша, как бы потерявший собственное имя, оставаться дольше в Нюрнберге не может. Наконец отец и сын условились о том, что сын откроет отделение их торгового дома в городе Лейпциге, в то время начинавшем процветать, и не под прежним патрицианским именем, а под плебейским Лаубфингер, — и это лишь на короткий срок, пока нынешний Август фон Лейбельфинг не найдет себе смерти на поле боя, что наверняка не заставит себя ждать.
Когда после продолжительного совещания подмененный юноша поднялся с места и посмотрел в зеркало, то увидел на своей голове чепчик.
Глава II
— Послушай, паж Лейбельфинг, мне надо еще с тобой вот о чем договориться. Если в неотложных случаях тебе придется зашить королю, моему господину, распоротое платье или заменить оборвавшуюся пуговицу новой, твое пажеское достоинство от этого ничуть не пострадает. Разве в Нюрнберге тебе никогда не случалось заглядывать через плечо своей матушки или сестрицы в их рабочие корзинки? Ведь дело это нехитрое, ему может научить тебя любой шведский солдат. Ты хмуришься? Будь же умницей. Вот, держи, я дарю это тебе!
И шведская королева, бранденбургская принцесса, вручила пажу Лейбельфингу нитки, наперсток, иголки и ножницы. Побуждаемая ревностью и любовью, королева всюду следовала за королем; на этот раз она неожиданно на короткий срок приехала навестить его в лагерь под Нюрнбергом, где король жил в полуразрушенном во время войны замке. Несмотря на сопротивление пажа, она открыла футляр, который он теперь держал в руках, вынула оттуда серебряный наперсток и надела его Лейбельфингу на палец, сказав:
— Следи за тем, чтобы у короля, моего супруга, всегда все было в чистоте и исправности.
— Сам черт не разберет этих швов и пуговиц, ваше величество! — воскликнул Лейбельфинг с краской неудовольствия на лице, но вместе с тем с таким уморительным выражением и таким звучным голосом, что королева не почувствовала себя оскорбленной, а снисходительно усмехнулась и ущипнула пажа за щеку.
Добродушная женщина и не подозревала, что раздражительный паж исполнен к ней, государыне, недоброжелательного чувства.
Король, слышавший с порога комнаты эту беседу, разразился искренним смехом при виде своего пажа с длинной шпагой на левом боку и наперстком на правой руке…
— Однако же, Август, — сказал он, — ты вспоминаешь черта, словно язычник. Мне придется заняться твоим воспитанием.
Густав Адольф был прямодушен и прост. Да и с чего королю, который относился, не нарушая при этом воинской дисциплины, человечно и доброжелательно к каждому, даже самому ничтожному из своих людей, отказывать в том же пажу, благонравному юноше приятной наружности, если тот, обязанный находиться при нем неотлучно, постоянно был у него на глазах, да еще и краснел, как девушка, до корней волос по любому поводу. Король не забыл также возгласа молодого нюрнбержца в честь короля Германии на том банкете — возгласа, выразившего в краткой пророческой формуле возможность победоносного исхода для его героического замысла.
Настоящую сказку — в одно и то же время блаженную и страшную — довелось пережить пажу вблизи своего героя, а тот ничего и не подозревал об этом тайном счастье. Пажу только что исполнилось восемнадцать, и всевозможные чувства — сладостных переживаний, мучительных опасений, затаенного блаженства, сердечной боли — теснили его юную грудь, и легкомысленное сердце билось чаще, когда ему угрожала шальная пуля или постыдное разоблачение.
Когда корнет представил молодого нюрнбержца, Августа Лейбельфинга, королю, последний, погруженный в заботы, смог не более чем на одну минуту оторваться от дел, чтобы бросить взгляд на нового пажа. Таким образом, тот оказался избавлен от необходимости дерзко лгать перед королем. Густав Адольф как раз в это время собирался сесть на коня, чтобы озаботиться подготовкой ко второму безуспешному штурму позиций герцога Фридландского. Он велел пажу следовать за собой; тот не мешкая вскочил на подведенного ему рыжего коня: с детства он отлично держался в седле. Когда король, обернувшись через некоторое время, заметил на лице пажа смертельную бледность, то причиной тому были отнюдь не горячие прыжки рыжего и не отсутствие привычки к седлу: Лейбельфинг заметил в некотором отдалении от себя легкомысленную девицу, которую изловили и гнали из шведского лагеря ударами плетей по обнаженной спине; ее нагота вызывала у пажа отвращение.
День за днем Лейбельфинг, не зная страха, скакал бок о бок с королем, ибо тот с непривычным для него упрямством возобновлял свои неудачные приступы. Каждую минуту могло случиться, что пажу пришлось бы принять на руки с коня смертельно раненного короля или самому, сраженному насмерть, испустить дух на руках Густава Адольфа. Когда, бывало, после неудачи они возвращались домой, король, желая усыпить или скрыть свою озабоченность, подтрунивал над новичком, потерявшим стремена и вцепившимся в гриву своей лошади, или, напротив, журил его за отчаянную смелость. Вообще король отечески поучал пажа и при случае читал ему наставления в христианском духе.
У короля была похвальная привычка отдыхать от дел последние полчаса перед сном, отложив усилием воли в сторону все заботы, чтобы затем, с первыми лучами солнца, вновь приняться за них. Этой привычки Густав Адольф придерживался и теперь, особенно когда безуспешные приступы и человеческие жертвы расстраивали его планы, уязвляли его гордость и тревожили его христианскую совесть. Поздно вечером король удобно устраивался в своем кресле, откинувшись на спинку, а рядом с ним на скамеечке размещался паж. Они играли в шашки или в шахматы, и иной раз пажу случалось выигрывать партию. Иногда бывало, что король, находясь в добром расположении духа, рассказывал пажу безобидные истории, приходившие ему на память. Так, например, он поведал о торжественной проповеди, которую ему однажды довелось слышать в придворной церкви. Проповедник сравнивал в ней жизнь человеческую с подмостками: люди — это актеры, ангелы — зрители, а смерть, опускающая занавес, — режиссер. Такова была и невероятная история о том, как его, короля, после рождения у него ребенка сначала известили о появлении на свет сына, и он сам некоторое время верил в это. Или то были рассказы о празднествах и нарядах — в основном случаи, которые должны были забавлять девушку не меньше, если не больше, чем юношу, — словно король, не давая себе в том отчета, чувствовал обман и бессознательно улавливал живую прелесть внимающей ему женщины. На пажа нападал в таких случаях внезапный страх, он принуждал свой голос звучать более низко и отваживался на тот или иной мужской жест. Однако какое-нибудь слово, исключающее возможность двух толкований, или движение близорукого короля возвращало испуганному пажу прежнюю уверенность в том, что Густав во власти такого же ослепления, как и при рождении его дочери. Тогда паж, почувствовав себя снова в безопасности, воодушевлялся и позволял себе касаться с дерзким задором чего-либо столь личного, что его постигала кара. Так было, например, когда он, выслушав из уст Густава теплую супружескую похвалу королеве, бросил дерзкий вопрос: «А как выглядела графиня Ева в молодости?» Ева была юношеской любовью Густава, позднее супругой Делагарди, за которого она вышла замуж как за второго по храбрости человека, когда отважнейший из людей того века ускользнул от нее. У Евы были темные волосы, черные глаза и резкие черты лица; но любопытному пажу не удалось этого узнать; взамен ответа он получил довольно увесистый удар ладонью по болтливым губам, в углах которых Густаву почудился намек на лукавую усмешку.
Однажды король подарил своей
дочери Кристине кольцо с печатью. На благородном камне надлежало выгравировать,
согласно моде того времени, какое-либо изречение или девиз, который имел
задачей дать выражение личным качествам его обладателя, высказать его заветную
мысль, потребности его сердца, и притом с выразительной краткостью, вроде,
например, честолюбивого Nondum[1] юного Карла V. Густав сам бы,
конечно, придумал девиз своему ребенку, но, опять-таки согласно моде,
предстояло выбрать итальянское, французское или латинское изречение. И вот
король, склонившись над большим томом, принялся высматривать своими лучистыми,
но близорукими глазами среди тысяч собранных там изречений знаменитых или
остроумных людей девиз, которым ему хотелось наделить свою едва достигшую семи
лет Кристину. Густава Адольфа забавляли эти лаконичные фразы, в некоторых
случаях выражавшие верно, а то и поразительно метко сущность их авторов,
личностей по преимуществу исторических, хотя в иных случаях они, со
свойственными людям самообольщением и хвастливостью, указывали на их прямую
противоположность.
Вдруг чей-то палец, отбрасывая темную тень на ярко освещенную страницу, указал королю на девиз неизвестного происхождения: это паж заглянул через плечо короля в книгу; а указанный им девиз гласил: «Courte et bonne» — «Коротко и ясно», что означало: если уж выбирать жизнь, то жизнь краткую и полную наслаждения! Король прочел, задумался на минуту, с сомнением покачал головой и поймал пажа через плечо за ухо. Усадив затем Лейбельфинга на скамеечку, он собрался прочесть ему маленькую проповедь.
— Август Лейбельфинг! — начал он наставительно, откинув голову на подушки, так что полный подбородок с золотистой бородкой выдавался вперед, а лукавый взгляд полузакрытых глаз остановился на лице пажа. — Я полагаю, что это сомнительное изречение исходит от человека, преданного мирскому, от эпикурейца. Наша жизнь в руках Божьих, и поэтому мы не смеем желать ни долгой, ни краткой жизни, а должны принимать ее такой, какой нам ее дарует Господь. Хорошей? Конечно, хорошей, это просто и правильно. Но не преисполненной опьянения и помрачения, что, без сомнения, подразумевается во французском изречении. Или как ты его толкуешь, сынок?
Лейбельфинг начал робко и смущенно, но затем с каждым словом все решительнее:
— Вот как, государь: я хочу, чтобы все лучи моей жизни на протяжении одного часа соединялись в единый сноп пламени; пусть вспыхнет вместо тусклых сумерек ослепительно-яркое пламя счастья, чтобы после потухнуть, как сверкнувшая молния!
Эти речи и выражение «сверкнувшая молния», по-видимому, не понравились королю, несмотря на всю любовь того века к подобным сравнениям. Он насмешливо улыбнулся, но паж, предупреждая эти еще не успевшие слететь с уст слова порицания, в порыве страстного увлечения, воскликнул:
— Да, так я желал бы: courte et bonne!
Затем, внезапно одумавшись, он прибавил смиренно:
— Государь, возможно, что я неправильно толкую это изречение. Оно многозначно, как и большинство в этой книге, но я знаю одно, и это чистейшая правда: если бы пуля задела тебя, государь, сегодня… — он осекся, — это значило бы «коротко и ясно», ибо ты и юноша и муж и жизнь твоя яркая и прекрасная!
Король закрыл глаза и, уставший от дневных дел, погрузился в дремоту, поначалу притворную, дабы не слышать лести пажа или по крайней мере не отвечать на нее.
Так проходило время. Казалось, будто сама судьба связала влюбленного ребенка с обожаемым героем; сам рок показывал ему короля в новом свете в минуты переживаний; он заставлял пажа делить со своим господином и тягчайшее горе, какое только существует, — горе отца.
Король пользовался услугами Лейбельфинга, которому выказывал неограниченное доверие, давая ему читать письма, прибывающие в определенные дни из Стокгольма от воспитательницы его дочки; Лейбельфингу же приходилось и отвечать на эти письма. Дама писала неразборчивым мелким почерком и многословным, обстоятельным слогом, так что Густав обыкновенно сразу передавал ее длинные послания пажу; быстрые глаза и подвижные губы последнего пробегали с неменьшим проворством по строкам письма, чем его молодые ноги по бессчетным ступеням витой лестницы. Однажды Лейбельфинг заметил на уголке почтового конверта большую букву S; ее ставили в те времена для обозначения важных или секретных посланий, дабы получатель мог лично принять и вскрыть их. Черты, характерные для всякого пажа, — любопытство и бойкая дерзость — взяли верх; Лейбельфинг сломал печать, и на свет божий выплыла странная история.
Воспитательница принцессы, сообразно выработанному самим королем плану занятий, предусматривавшему раннее изучение языков, сочла своевременным пригласить к Кристине учителя итальянского. Выбор, сделанный с осмотрительностью, представлялся удачным. Швед, молодой еще человек, из хорошей семьи, знакомый со светом по своим долгим путешествиям, соединял в себе все достоинства внешние и внутренние: благородную стройность, подкупающие черты лица, приветливость в обращении, непоколебимую нравственность, одинаково далекую и от угрюмой суровости, и от смехотворного педантства, рыцарское чувство чести и христианское смирение; ко всему этому присоединялось и самое важное: подлинное лютеранство. По его собственному признанию, вера из заученных положений превратилась для него в личное непоколебимое убеждение лишь после того, как ему пришлось побывать в современном Вавилоне и столкнуться лицом к лицу с римскими мерзостями. Холодная и рассудительная воспитательница не уставала повторять в каждом из своих писем, что молодой человек ее обворожил, да и маленькая принцесса при таком наставнике стала делать быстрые успехи. Но вот однажды воспитательница поймала понятливую и обладавшую живым воображением Кристину на том, что та, втихомолку забравшись в угол, с молитвой перебирала четки из душистого кедра, поднося их время от времени к своему носу и вдыхая их аромат. «Волк в овечьей шкуре, — писала воспитательница, поставившая после этих слов несколько восклицательных знаков. — Я всплеснула руками и окаменела».
Густав Адольф побледнел, потрясенный до глубины души. Он знал, что такое господа иезуиты. Иезуит был посажен в тюрьму; согласно драконовским шведским законам, ему грозила смертная казнь, если король не проявит милосердия. Густав Адольф велел пажу немедленно написать ответ воспитательнице. С девочкой нечего тратить много слов, а следует отнестись ко всему как к ребячеству, иезуита же надлежит переправить, не поднимая шума, во избежание толков, через границу, «ибо, — диктовал король Лейбельфингу, — я не желаю делать из него мученика. Этот ослепленный человек не задумываясь дал бы себя обезглавить, дабы оказаться причисленным к сонму мучеников и попасть на небо со своей злой радостью, что ему удалось развратить душу моего ребенка».
Однако еще в продолжение многих дней король не в силах был отделаться при мысли о том «несчастии и преступлении», как он называл покушение на душу своего ребенка; в присутствии пажа он без устали далеко за полночь, пока не выгорало масло в лампе, расхаживал взад-вперед и, ведя разговор больше с самим собой, чем с пажом, высказывался на счет лжи, софистики и притворства благочестивых отцов; а паж в это время, сидя в полутьме, полный ужаса и сокрушения, стыдил себя: «И ты лгунья, и ты притворщица!»
С тех пор паж пребывал в доводившем его до полного расстройства страхе по поводу своего маскарада; самое ничтожное обстоятельство могло привести к раскрытию тайны. Чтобы избежать такого позора, бедняжка десятки раз принимал решение оседлать в вечерние сумерки или на утренней заре коня и ускакать на край света — и десятки раз какая-нибудь невинная ласка короля, не имевшего понятия о том, что возле него находится женское существо, удерживала его. Легко на душе становилось у него лишь в облаках порохового дыма; тут глаза его загорались, и он радостно скакал навстречу смертоносным пулям, бросая им вызов, чтобы разом покончить со своим жутким сном. И когда потом в вечерние часы при уютном свете лампы король, поймав пажа на каком-нибудь промахе или ошибке, с улыбкой трепал его вихры, то Лейбельфинг говорил себе, трепеща от радости и страха: «Это в последний раз!»
Так он оттягивал время и рядом со смертью вкушал высшую прелесть жизни. И король также был на короткой ноге со смертью, Лейбельфинг чувствовал это. Герцог Фридландский взял наступление в свои руки и поставил завоевателя в тягостное положение отступающего. Таким образом, герой-христианин ежедневно, даже ежечасно почти с вызовом отдавал себя на волю своего Бога; панцирь, который паж, по обыкновению, предлагал ему надеть, он упорно отвергал под предлогом плечевой раны, на которую будут давить стальные доспехи, причиняя боль. Для него сделали тончайшую кольчугу — дело рук нидерландского кузнечного мастера. Королева писала ему, что, по ее сведениям, герцог Фридландский носит такую же кольчугу и что ее государь и супруг не вправе, отправляясь на поле боя, быть менее защищенным, чем его противник. Но Густав презрительно отбросил кольчугу в сторону как символ трусости. Однажды в ночной тиши Лейбельфинг, голову которого отделяла от короля одна лишь стена, тесно к ней припав, услышал, как Густав пламенно молится и неотступно просит своего Бога забрать его в расцвете сил, когда пробьет его час, прежде чем он станет бесполезным или ненужным. Сперва у подслушивающей девушки потекли слезы из глаз, но затем ее охватила гордая радость, тайное ликование, ощущение победы, торжества от сознания сходства ее малого жребия с этим великим уделом; ей пришла на ум нелепая ребяческая мысль, что один и тот же слог заканчивает ее имя и начинает имя короля. С этой мыслью она и заснула.
Но пажа одолевали дурные сны, ибо во сне совесть его давала о себе знать; страшные образы проходили перед ним; то ему представлялось, будто король прогоняет разоблаченного обманщика; то будто королева выпроваживает его метлой, с ругательствами, какие наяву никогда не слетают с уст образованной женщины. Однажды пажу приснилось, что его кобыла понесла и бешено мчится по голой равнине, гневно освещенной красным заревом заката, к краю пропасти; король скачет за ним вдогонку, но на глазах своего спасителя или преследователя паж срывается в пропасть под раскаты адского хохота.
Глава III
Паж подскочил на постели, проснувшись от собственного крика. Брезжило утро; короля паж застал выспавшимся на славу, в самом веселом расположении духа. Было получено письмо от королевы; само оно не заключало в себе ничего спешного, но в нем была приписка, в которой королева просила своего супруга принять нужные меры по одному затруднительному делу, близко принимаемому к сердцу женщиной. Герцог Лауэнбургский, человек безнравственный, всего несколько месяцев тому назад женившийся из политических соображений на одной из многочисленных кузин королевы, давал повод к общественному неудовольствию: заскучав от белокурых кос и водянистых голубых глаз своей жены, он сократил медовый месяц и поспешил обратно в шведский лагерь, где держал при себе молоденькую славонку. Как сущий разбойник, он похитил ее при захвате обоза герцога Фридландского. И вот королева просила своего супруга положить скорый конец этому наглому надругательству над брачными узами. Ибо Лауэнбург избегает взоров одного лишь короля, перед сотоварищами же по сословию хвалится своей красивой добычей и, пользуясь тем, что он имперский государь, не смущается ни грехом, ни скандалом. Густав Адольф воспринял это поручение как простое исполнение долга и тут же отдал приказ задержать славонку — ее звали Коринной — и привести к нему в восьмом часу, когда, по его расчетам, он должен был вернуться с короткой разведки. Король намеревался обратиться к девушке со строгим и вместе с тем мягким увещеванием — зная Лауэнбурга, он приписывал Коринне меньшую долю вины, — а затем отослать ее в лагерь Валленштейна, к ее отцу. Он уехал, дав поручение пажу написать успокаивающее письмо королеве. В конце письма он собирался сделать собственноручную приписку. Восемь часов прошло, а король все не возвращался; тем временем охрана привела Коринну и передала ее пажу, который сидел над письмом в прихожей, положив рядом с собой на стол шпагу и пистолет.
С любопытством паж бросил взор поверх строк своего письма на пленницу, которую он пригласил сесть, и был поражен ее красотой. Ростом она была не выше среднего; на полных плечах и тонкой шее покоилась небольшая, прекрасная по форме голова. Черные как смоль волосы и темные, полные угрожающего блеска глаза приковывали к себе взор. Ее помятая одежда, пестрая и яркая, казалась под северным небом кричащей и назойливой. Девушка заметно волновалась. Молчание становилось для нее невыносимым.
— Где король, паж? — спросила она высоким, крикливым от волнения голосом.
— Уехал. Сейчас вернется, — ответил Лейбельфинг, постаравшись, чтобы его голос звучал как можно ниже.
— Пусть только король не воображает, что я отступлюсь от герцога, — продолжала страстная девушка с безудержной горячностью. — Я люблю его! Да и куда мне пойти? К отцу? Он изобьет меня. Я остаюсь. Король не может приказывать герцогу. Мой герцог — имперский государь.
Очевидно, перепуганная девушка повторяла в этой своей болтовне слова Лауэнбурга: тот при всей своей преступности прикрывал свои злодеяния наполовину в насмешку, наполовину серьезно герцогской мантией.
— Это не поможет ему, барышня, — возразил паж Густава Адольфа. — Будь он двадцать раз имперским государем, король его военачальник, и Лауэнбург обязан отвечать перед ним.
— Герцог самой что ни на есть благородной крови, — сердито возразила славонка, — а король ведет свой род от простого шведского мужика.
Лауэнбург, вероятно, внушил ей эту сказку. Лейбельфинг, оскорбленный, поднялся, подошел вплотную к Коринне и строго спросил:
— Ты что болтаешь?
Девушка тоже испуганно поднялась и с изменившимся выражением лица бросилась пажу на шею.
— Дорогой господин, помогите мне, вы должны мне помочь. Я люблю Лауэнбурга, я не откажусь от него!
С этими восклицаниями и мольбами она принялась прижимать к себе пажа. Вдруг девушка с выражением неописуемого изумления отступила на шаг назад, и на ее насмешливо поджатых губах заиграла улыбка. Паж смертельно побледнел.
— Сестрица, — пролепетала Коринна с хитрым взглядом, — если бы ты с твоим влиянием…
В то же мгновение паж схватил ее руку своей сильной левой рукой, принудил опуститься на колени и, выхватив пистолет, приставил его дуло к виску девушки.
— Стреляй! — вскрикнула Коринна как безумная. — Пропади мое счастье и горе!
Однако она изо всех сил старалась увернуться от дула. Тогда Лейбельфинг приставил пистолет к середине ее лба и, смертельно-бледный, но спокойный, сказал:
— Королю ничего об этом не известно, клянусь спасением своей души.
Ответом была недоверчивая улыбка.
— Королю об этом ничего не известно, — повторил паж, — и ты должна мне поклясться вот этим крестом… — Он взял крест на золотой цепочке, висевший у девушки на груди. — Откуда он у тебя? От матери, говоришь? Ты должна мне поклясться этим крестом, что ты также обо всем забудешь. Быстро, не то я выстрелю!
Но тут паж опустил свое оружие; он услышал топот коней, шум военного салюта и тяжелые шаги поднимающегося по лестнице короля. Он бросил на Коринну умоляющий взгляд, в котором можно было прочесть то, чего он никогда не решился бы сказать вслух: «Я в твоей власти! Не выдавай же меня! Я люблю короля!»
Густав Адольф вошел. Это был уже не тот человек, который выехал отсюда два часа назад; теперь он казался строгим, полным священного негодования, разгневанным, как библейский герой, призванный искоренить беззаконие. Он стал свидетелем вопиющего случая, сцены, возбуждающей отвращение: ограбления немецкими дворянами под предводительством немецкого князя толпы немецких же крестьян, бежавших от герцога Фридландского в шведский лагерь. Эти господа пьянствовали и играли в кости и в карты до рассвета в палатке одного из своих. Какой-то авантюрист опустошил их кошельки. Подозреваемого в нечестной игре — он был из дворян — после короткой ссоры отпустили невредимым как человека своего круга; зато, возвращаясь к своим палаткам, раздраженные и усталые от бессонной ночи бароны врезались в беспорядочную вереницу тяжело нагруженных телег, запрудивших одну из улиц лагеря. Лауэнбург, проезжая мимо своей палатки, распахнул ее и, найдя гнездо опустевшим, возымел сразу подозрение против короля; нагнав сотоварищей, он раззадорил в них хищнические инстинкты и подговорил взяться за дело, которое, как ему хорошо было известно, дойдя до слуха Густава Адольфа, ранит короля в самое сердце.
Но последнему суждено было увидеть злое дело собственными глазами. Посреди сумятицы взламывались ящики и сундуки, закалывались или похищались лошади, избивались беззащитные, наносились раны пытавшимся сопротивляться; когда появился король на коне, то к нему, словно к престолу Всевышнего, потянулись руки с мольбами, понеслись молитвы, хулы и проклятия. Король подавил и затаил свой гнев. Первым делом он приказал позаботиться о судьбе потерпевших беженцев, а затем вызвал к себе к девяти часам вечера всю эту дворянскую компанию. Возвращаясь домой, король остановился у двери главного палача и велел ему накинуть красный плащ и следовать за ним в некотором отдалении.
В таком состоянии духа находился король, когда перед ним предстала наложница Лауэнбурга: Он смерил взором девушку; ее дикая красота пришлась ему не по вкусу, а кричащий наряд оскорблял его взор.
— Кто твои родители? — начал он, не удостаивая ее вопроса о собственном имени или судьбе.
— Отец — офицер, мать рано умерла, — ответила девушка, избегая взгляда короля.
— Я отправлю тебя к отцу, — сказал он.
— Нет, — ответила девушка, — он меня зарежет.
Под воздействуем чувства сострадания король смягчился. Он решил свести дело к проступку, требующему меньшего наказания.
— Ты разгуливала по лагерю в мужской одежде, это запрещено, — выставил он обвинение.
— Никогда, — возразила Коринна, искренне возмущенная. — никогда я не совершала такого бесстыдства.
— Однако, — продолжал король, — ты разрушаешь брак и делаешь несчастной герцогиню.
Ревность вспыхнула в глазах девушки.
— А если он меня любит больше, любит меня одну, чем же я виновата? И какое мне дело до другой? — с презрительным упорством возразила она.
Король посмотрел на нее изумленным взором, словно спрашивая себя, учили ли ее когда-нибудь христианской вере.
— Я позабочусь о тебе, — сказал он затем. — Теперь же я тебе приказываю: ты откажешься от Лауэнбурга раз и навсегда. Твоя любовь — грех. Согласна ли ты повиноваться?
Она выдержала взгляд короля, затем отрицательно покачала головой. Король повернулся к палачу, стоявшему у двери.
— Что он сделает со мной? — спросила девушка, задрожав. — Казнит меня?
— Он острижет тебе волосы, а затем тебя доставят в Швецию, где ты будешь находиться в исправительном доме, пока не станешь верующей протестанткой.
Буря страхов и опасений поднялась в душе девушки. Швеция, ледяная страна, с ее длинными зимними ночами… Исправительный дом? Какую жестокую, изысканную пытку означало это неведомое ей слово? Протестантка? Что это, как не еретичка! Значит, вдобавок ко всему ей предстоит еще лишиться и скромной доли в царствии небесном? Ей, не нарушавшей ни одного поста и не пропускавшей ни одного церковного обряда? Она схватила крест, висевший на оборванной цепочке, и страстно поцеловала его.
Тут ее безумные глаза остановились на паже, и в них вспыхнуло мстительное пламя. Коринна раскрыла было рот, чтобы бросить королю, обвинявшему ее в прелюбодеянии, имя прелюбодея. Тот спокойно стоял в стороне, просматривая письмо, составленное пажом. Черты внимательного лица, на котором запечатлелось смешанное выражение справедливости и доброты, пугали Коринну. В нем было что-то величественное и божественное, и она чувствовала страх перед этим лицом, как перед чем-то чуждым и жутким. Девушка-дикарка, правильно и без страха разгадывавшая выражение мужского лица, охваченного простой и понятной страстью, не в силах была разобраться в этом благородном человеческом облике. Она не в состоянии была дольше смотреть на короля. «И то сказать, — думалось ей, — снежный король, быть может, человек с замерзшей кровью, он не угадывает близости женщины и не чует тайком прокравшейся к нему любви. Я могла бы погубить молодую жизнь — но зачем? Да притом она любит его».
Тут выступил на шаг вперед палач и протянул руку к Коринне. Та сочла себя погибшей; с быстротой молнии она подбежала к пажу и прошептала ему на ухо:
— Вели, сестрица, отслужить за меня десять месс, да подороже. Ты задолжала мне толстую свечу! Ну что ж, одной — счастье, а другой… — Она запустила руку в карман, выхватила оттуда кинжал, сорвала с него ножны и искусным ударом вскрыла себе жилу на шее.
Палач расстелил свой красный плащ, положил на него девушку, завернул и вынес ее через боковую дверь на руках, словно спящего ребенка. Но вот в соседней комнате послышались неуместно громкие речи. Ровно в девять часов Лейбельфинг распахнул двери, и король вышел к собравшимся немецким князьям и баронам. Они стояли тесным кружком, и их было около пятидесяти или шестидесяти человек. Эти господа вели себя не слишком почтительно, некоторые даже небрежно, как будто стыд был так же мало знаком им, как и страх: лица хитрые рядом с отважными, честолюбивые рядом с ограниченными, благочестивые рядом с дерзкими — большей частью умеющие за себя постоять люди, с которыми нельзя было не считаться. По левую руку от короля скромно стоял полковник Эрлах; ему тут, собственно, нечего было делать. Этот воин вступил под знамена Густава Адольфа как самого богобоязненного из героев своего века; часто он признавался королю, что его гнетут грехи, свидетелем которых ему приходится быть в империи: неблагодарность, притворство, козни, интриги, коварство, тайные игры, подкупы, измены — вещи совершенно невозможные в его швейцарских горах. Он пришел сюда, быть может, для того, чтобы поделиться со своим закадычным другом, французским послом, новостями, до которых так падки по своей природе французы, или, быть может, просто для того, чтобы присутствовать при торжестве добродетели над пороком. Напротив стояло воплощение греха — Лауэнбург, в роскошной одежде, в драгоценном кружевном воротнике; он демонически улыбался и, вращая глазами, беспокойно переступал с ноги на ногу. По дороге ему встретился слуга палача, которому тот передал свою ношу. Под складками плаща герцог различил очертания человеческой фигуры, подошел и отбросил покрывало.
Густав обвел собравшихся осуждающим взором, и тут разразилась гроза. Странно: король, по-видимому, раздраженный несоответствием этих высокомерных фигур и великолепных доспехов и низостью бьющихся под ними сердец, умышленно выбирал самые грубые, мужицкие обороты речи, обычно ему несвойственные:
— Разбойники все вы и воры, от первого и до последнего! Устыдитесь! Вы обкрадываете ваших земляков и единоверцев! Меня тошнит от вас! У меня сердце обливается желчью! Я истощил свою казну в борьбе за вашу свободу. Сорок тонн золота — и не взял от вас столько, сколько нужно, чтобы сшить себе рейтузы! Да я бы скорее готов был нагишом проехать, чем одеть себя на немецкие деньги! Вам я отдавал все, что попадало мне в руки, себе и свиного хлева не оставил.
Такими грубыми и резкими словами ругал король всю эту знать. Затем, переменив тон, он стал хвалить храбрость этих господ, безупречность их поведения на поле битвы и несколько раз повторил:
— Вы храбры, да, вы храбры! На ваше умение сражаться пожаловаться нельзя.
Но вслед за этим последовала вторая, еще более резкая вспышка гнева.
— Если вы намерены бунтовать против меня, — бросил он им вызов, — то я подниму своих финнов и шведов и пойду на вас!
Он закончил речь христианским увещеванием и просьбой поразмыслить над полученным уроком. Полковник Эрлах смахнул рукой слезу. Присутствующие сделали вид, что все это их не слишком задевает, однако стали держаться заметно скромнее. Некоторые казались взволнованными, даже растроганными. Немецкий нрав переносит грубую честную брань лучше, чем вялую проповедь или тонкую, язвительную насмешку.
Тут Лауэнбург позволил себе обронить бессовестные слова:
— Что за охота его величеству гневаться из-за пустого дела? Чем мы провинились, господа? Тем, что облегчили немножко карманы наших подданных!
Густав побледнел и кивнул палачу, стоявшему за дверьми.
— Положи этому господину свою руку на плечо, — приказал он ему.
Палач приблизился, но не решался исполнить приказание, ибо герцог выхватил шпагу из ножен; среди собравшихся послышался угрожающий ропот. Густав обезоружил Лауэнбурга и переломил его шпагу, пригнув ее клинок к своей ноге. Затем, взяв широкую руку палача, он силой положил ее на плечо Лауэнбурга, словно оцепеневшего, и, продержав ее там некоторое время, произнес:
— Ты, имперский государь, негодяй, и я не смею с тобой расправиться, но рука палача да будет над тобой!
Затем он повернулся и вышел, а палач размеренным шагом последовал за ним. Пажа Лейбельфинга, который был оттеснен плотно стоявшими баронами в оконную нишу, прикрытую тяжелой занавесью с гигантскими кистями, все это происшествие сначала веселило, вызывая неудержимый смех. После кончины Коринны, потрясшей и облегчившей его душу одновременно, все эти знатные господа представлялись пажу действующими лицами комедии. Так иной раз мальчик слушает с удовольствием, подавляя в себе смех, как отец, под защитой которого он находится и перед силой и влиянием которого преклоняется, распекает в его присутствии забывшего свои обязанности слугу. Но при первом слове, произнесенном Лауэнбургом, паж содрогнулся от жуткого сходства голоса этого человека со своим собственным: та же звучность, та же ясность и металлические нотки. И этот страх перешел в ужас, когда после ухода короля Лауэнбург расхохотался неестественным смехом и произнес резкие слова:
— Он ругался, как конюх, этот шведский мужик! Черт побери, ну и разозлили мы его сегодня! Да здравствуют немецкие вольности! Ну что, сыграем сегодня партию у меня в палатке, братец? Я велю раскупорить бочонок винца.
И он правой рукой взял под руку одного из князей, стоявших рядом с ним. Но тот вежливо высвободил руку и ответил со сдержанным поклоном:
— Сожалею, ваша милость, я уже приглашен.
Обратившись к другому соседу, Лауэнбург еще более весело и настойчиво стал звать его к себе:
— Ты мне не смеешь отказать, товарищ. Ты передо мной еще в долгу!
Тот повернулся к нему спиной без лишних слов. Сколько герцог ни возобновлял своих попыток, с каждым разом он получал все более короткий и резкий отпор. Перед его шагами и движениями отступали, и помещение пустело. В конце концов он остался один посредине покинутого всеми зала. Ему стало ясно, что отныне товарищи будут сторониться его. Лицо герцога исказилось. Заклейменный, он в бешенстве сжал кулак и, подняв его, погрозил им судьбе или королю. Паж не смог разобрать, что пробормотал при этом герцог, но выражение его лица было настолько дьявольским, что паж чуть не упал в обморок.
Под вечер того же дня, столь богатого событиями, королю доложили о прибытии парламентера от герцога Фридландского. Дело могло касаться либо погребения павших при последней схватке, либо соглашения по какому-нибудь другому вопросу, как водится между двумя стоящими друг против друга войсками. Паж провел офицера в приемную, как раз в то время пустовавшую, и попросил его подождать здесь, пока о нем доложат королю. Но посланец, худощавый человек с желтым лицом, остановил пажа, сказав, что ему хотелось бы отдохнуть минуту после быстрой верховой езды. Опустившись небрежно на стул, он сказал пажу, продолжавшему стоять перед ним:
— Ваш голос кажется мне знакомым, — мимоходом заметил он, — прошу вас сообщить мне ваше имя.
Лейбельфинг, уверенный, что ему никогда прежде не приходилось видеть этого холодного и повелительного лица, непринужденно ответил:
— Я паж короля. Лейбельфинг из Нюрнберга, к вашим услугам.
— Город, славящийся своим искусством, — равнодушно заметил офицер. — Доставьте мне удовольствие, молодой человек, примерьте вот эту перчатку. В юности иезуиты, мои воспитатели, привили мне как знак смирения и услужливости привычку, которая теперь плохо увязывается с моим капитанским чином, — поднимать все оброненные на дороге предметы.
Он вытащил из кармана кожаную перчатку для верховой езды, какие в то время были в моде. Но только перчатка эта отличалась исключительным изяществом и необычайно малыми размерами, так что девять десятых солдат разорвали бы ее по швам при первой попытке натянуть на пальцы.
— Я поднял ее при входе, на первой ступени лестницы.
Лейбельфинг, несколько задетый повелительным тоном капитана, взял все же перчатку и натянул на тонкие пальцы. Она села как влитая. Капитан многозначительно улыбнулся и сказал:
— Она ваша.
— Нет, капитан, — ответил несколько озадаченный паж. — Я не ношу перчаток из такой тонкой кожи.
— Ну тогда верните ее мне! — И капитан снова взял перчатку.
Затем он медленно поднялся со стула и поклонился, ибо в это время вошел король. Последний сделал несколько шагов с выражением изумления на лице и затем неуверенно обратился к гостю:
— Вы здесь, господин герцог?
Король никогда не видел в лицо герцога Фридландского, но ему часто приходилось рассматривать его изображения. Валленштейн поклоном подтвердил слова короля. Тот в ответ произнес серьезно и вежливо:
— Приветствую, ваше величество, я к вашим услугам. Что вам от меня угодно, герцог?
И король знаком велел пажу удалиться. Лейбельфинг скрылся в своей комнате; узкая и бедно обставленная, она находилась между приемной и спальней короля. Не само присутствие грозного полководца, а то жуткое, что крылось в этом позднем посещении, внушало ему страх. Неясное чувство подсказывало ему, что это посещение связано с его собственной судьбой.
Побуждаемый скорее страхом, нежели любопытством, он тихонько открыл глубокий стенной шкаф, откуда, по правде говоря, ему уже довелось однажды подглядывать в скважину за королем, чтобы всласть на него наглядеться.
Король и герцог, сидевшие друг напротив друга, некоторое время молчали. Оба знали, что в настоящее время, когда уже началась определяющая судьбы Германии шахматная партия с ее многозначительными ходами и скрытыми планами, когда игра уже завязалась по всей доске, — теперь, накануне решительной битвы, никакие переговоры неуместны и никакое соглашение невозможно. Герцог Фридландский обозначил это, а затем сказал:
— Ваше величество, я пришел по личному делу.
Густав Адольф любезно улыбнулся. Герцог продолжал:
— Я имею обыкновение читать в постели во время бессонницы; вчера или сегодня утром мне в одних французских мемуарах встретилась занимательная история. Это истинное происшествие с дословными показаниями адмирала — я имею в виду адмирала Колиньи, заслугам которого как полководца я хорошо знаю цену. С разрешения вашего величества, я сейчас изложу эту историю. Однажды к адмиралу явился некий партизан. Он упал, словно безумный, на стул и принялся говорить сам с собой, подвергая нападкам Франциска Гиза, политического и военного противника адмирала, причем высказывал намерение сжить его со света. То был бред человека невменяемого, и от адмирала зависело, придавать или не придавать ему значение. Я рекомендовал бы эту сцену вниманию драматурга — она может произвести впечатление. Адмирал промолчал, посчитав болтовню партизана пустым хвастовством, и Франциск Гиз пал, сраженный пулей.
— Если Колиньи так поступил, — прервал Валленштейна король, — то это было не по-человечески и не по-христиански. Но к делу, ваше высочество!
— Ваше величество, нечто подобное произошло сегодня со мной. Мне доложили о визите одного из ваших людей. Будучи занят, я велел провести его в соседнюю комнату. Когда я вошел туда, то застал этого человека дремавшим, при этом он громко говорил сам с собой во сне. Произнесено им было всего несколько отрывочных слов, но смысл их угадывался без труда. Если я правильно понял, вы, ваше величество, смертельно обидели его чем-то, и он решился погубить шведского короля какой бы то ни было ценой или по меньшей мере за хорошую цену. Ему тем легче это сделать, что он находится в непосредственной близости к королю и ежедневно с ним общается. Я разбудил спящего и только спросил, что ему нужно. Он хотел справиться об одном человеке, пропавшем без вести много лет тому назад на императорской службе, узнать, жив ли он еще или нет. Дело касалось наследства. Я дал справку и отпустил хитреца. Имени его я не спрашивал — он все равно назвал бы какое-нибудь вымышленное. Задерживать же его на основании отрывочных слов, произнесенных во сне, было бы неудобно и означало бы вопиющую несправедливость.
— Конечно, — согласился король.
— Государь, — сказал герцог, делая ударение на каждом слоге, — ты предупрежден!
Густав задумался.
— Я не хочу тратить время на то, чтобы отравлять себе душу в поисках правды по таким сомнительным и неясным следам. Моя жизнь в руках Господа. Имеются у вашего высочества какие-либо свидетельства или улики?
Герцог вынул перчатку.
— Мои уши и вот эта перчатка. Я забыл сказать вашему величеству, что тот спящий был строен, лицо же его было лишено всякого выражения и не говорило ничего, — очевидно, на нем была плотно прилегающая маска, какие с большим искусством делаются в Венеции. Голос его — баритон или низкий альт — отличался приятной звучностью, он не лишен сходства с голосом вашего пажа; да и перчатка, потерянная им и оставшаяся у меня, приходится ему впору.
Король искренне засмеялся.
— Я готов заснуть, положив голову на колени моего Лейбельфинга, — заверил он.
— Да и я, — возразил герцог, — не имею основания заподозрить молодого человека; у него хорошее, честное лицо, такое же задорное мальчишеское лицо, как у моих босоногих богемских крестьянских девиц. Однако, ваше величество, я не поручусь ни за одного человека. Лицо может быть обманчивым, а если бы даже оно и не обманывало, то все же я не желал бы видеть возле себя пажа — будь он даже моим любимцем, — если бы голос его звучал, как голос моего ненавистника, а рука была того же размера, как у человека, намеревающегося убить меня из-за угла. Это дело темное, роковое, здесь может таиться погибель.
Густав улыбнулся. Он, вероятно, подумал про себя, что этот выскочка, вступивший ныне по договору с Габсбургом на путь невыполнимых затей, более, чем когда-либо, склонен отдавать дань суеверию. Король, преисполненный упования на своего Бога, не желал ни единым словом, ни единым намеком касаться той области, где царило, как ему казалось, дьявольское наваждение. Он прекратил разговор и поднялся, выражая благодарность герцогу за его лояльный образ действий; при этом он все же потянулся за перчаткой, небрежно брошенной герцогом на стоявший между ними столик, и Валленштайн не смог удержаться от улыбки.
— Я вижу с удовольствием, — пошутил король, провожая герцога до дверей, — что вы, ваше высочество, заботитесь о моей невредимости.
— Как же иначе? Хотя ваше величество и я и воюем друг с другом, все же ваше величество и я, — герцог вежливо избегал слова «мы», — неразрывно связаны. Один немыслим без другого, и свались ваше величество или я с одного конца мировых качелей, — ответил он шуткой на шутку короля, — другой конец с силой ударился бы о землю.
Король снова задумался, но тут почувствовал, что атмосфера суеверия, окружавшая Валленштейна, начала заражать и его. Он снова сделал шаг по направлению к выходу.
— Ваше величество, — сказал герцог Фридландский почти добродушным тоном, — должны были бы поберечь себя по крайней мере ради своего ребенка. Принцесса учится на славу, как я слышал, и ваше величество привязаны к ней всем сердцем. Что же делать, когда не имеешь сыновей? Я ведь такой же, у меня тоже дочь!
На этом герцог откланялся.
Паж, у которого от подслушанного разговора волосы на голове стали дыбом, успел заметить, как Густав опустился в кресло и принялся играть перчаткой. На этом Лейбельфинг отвел глаза от скважины, шатаясь, вернулся к себе в комнату и бросился на колени возле постели, моля небо спасти своего героя, для которого в одном его, пажа, присутствии — как полагал герцог Фридландский и как сам паж готов был уже считать — могла таиться гибель. «Чего бы мне это ни стоило, — клялся полный отчаяния паж, — но я отстранюсь от него, я избавлю его от себя, лишь бы моя злосчастная близость не привела его к гибели».
Пажа не позвали, и он пробрался снова к королю лишь в обычные часы досуга. Часы эти прошли в большей своей части в безразличных разговорах, если не считать, что король как-то мимоходом заметил:
— Где это ты пропадал сегодня около полудня, Лейбельфинг? Я тебя звал, а тебя не было.
Паж ответил честно, что, чувствуя после утренних сцен потребность освежиться, он вскочил на коня, поскакал по направлению к лагерю Валленштейна и подъехал к нему почти на расстояние пушечного выстрела. Пажу хотелось навлечь на себя дружеский упрек короля, но такового не последовало. Наконец пробило десять часов. Тут Густав вынул рассеянным движением перчатку из кармана и, рассматривая ее, сказал:
— Это не моя. Не ты ли ее потерял, а я по ошибке засунул в свой карман? Дай-ка примерить. — Он схватил как бы играючи левую руку пажа и натянул перчатку на тонкие пальцы. — Впору.
Тогда паж бросился перед королем на колени и схватил его за руки, обливая их слезами.
— Прощай, мой повелитель, ты для меня все! Да хранит тебя Господь! — И, быстро вскочив, он, как безумный, бросился вон из комнаты.
Густав поднялся и стал звать его назад. Но в это время до него уже донесся стук копыт скачущей лошади, и — странно сказать — ни ночью, ни на следующий день король не отдавал приказа провести расследование относительно бегства своего пажа. Правда, дел у него было полно, так как он принял решение сняться с лагеря из-под Нюрнберга.
Лейбельфинг не сдерживал стремительного бега своего коня, тот сам утомился, достигнув границы лагеря. К этому времени улеглись и взволнованные чувства всадника. Месяц ярко светил; было светло как днем; конь шел шагом. Обдумав услышанный разговор, который вынудил пажа покинуть короля, беглец вдруг осознал, кто его двойник. Это был Лауэнбург. Не пришлось ли пажу стать свидетелем того, как этот человек грозил кулаком в ответ на решение королевского правосудия? Разве голос герцога, навлекшего на себя кару, не звучал, будто его собственный? Разве сам паж не заметил даже в ту ужасную минуту малых размеров сжатого герцогского кулака? Без сомнения, Лауэнбург задумал месть. И в эти-то часы жуткого преследования короля паж сам бежит от своего повелителя, над которым нависла угроза. Сжимавшая его сердце бесконечная тревога за самое для него дорогое существо теперь, при мысли о потере его, заставила его разрыдаться. Часовой, шведский мушкетер с поседелыми усами, увидев плачущего молодого всадника, усмехнулся, а затем добродушно спросил: «Верно, скучаете по дому, господин?» Лейбельфинг овладел собой и, продолжая медленно ехать дальше, решил с отвагой, свойственной ему от природы и закаленной в боях, не покидать войско. «Король снимется с лагеря, — сказал он себе, — я пристроюсь к одному из полков и во время переходов останусь незамеченным, а там — битва!»
В это время он заметил полковника, объезжающего лагерь. Месяц сиял так ярко, что можно было читать рукопись. Поэтому паж при первом же взгляде узнал в полковнике друга своего отца, Аке Тотта. Паж подъехал на своем рыжем коне к полковнику с левой стороны. Полковник, которому в последнее время часто доводилось бывать на передовых позициях, внимательно посмотрел на молодого всадника.
— Либо я ошибаюсь, либо я в самом деле видел, хотя и на некотором расстоянии, как вы ехали в качестве пажа верхом рядом с королем. Ну да, теперь я вас узнаю, хотя вы и кажетесь бледным, как луна, и печальным. — Затем, пораженный внезапным воспоминанием, он прибавил: — Не из Нюрнберга ли вы и не родня ли покойному капитану Лейбельфингу? Вы страшно похожи на него или, вернее, на его дочь Густу, разъезжавшую до пятнадцати лет вместе с нами верхом. Впрочем, лунный свет обманчив. Сойдемте с коней. Вот моя палатка. — И он передал лошадей — свою и Лейбельфинга — подбежавшему слуге, встретившему своего повелителя добродушной и глупой улыбкой.
— Пожалуйста, будьте как дома, — сказал старик, предлагая пажу походный стул и опускаясь сам на свое жесткое ложе.
Два светильника, прикрытые от ветра стеклянными колпаками, бросали на них свой дрожащий свет.
Тут полковник без церемоний запустил пажу в волосы свою широкую ладонь. На обнажившемся лбу показался старый, но глубоко врезавшийся шрам.
— Густа, глупая, думаешь, я забыл, как венгерский жеребец перебросил тебя через свою голову так, что ты полетела по воздуху? Мы все трое подобрали тебя, рыдающая мать, отец, бледный как привидение, и я сам, не на шутку перепуганный. Бравым был солдатом покойный Лейбельфинг, мой лучший начальник и закадычный друг. Только немножко шальной, как и ты, вероятно, Густа. Черт побери, дитя, сколько ты уже живешь подле короля? Выглядишь ты, впрочем, точь-в-точь как мальчишка. Сбрила себе, небось, белокурые кудряшки на затылке? Ну, ну, не воображай только, что ты единственная женщина в лагере. Взгляни на Иакова, моего денщика. — Тот как раз вошел с бутылками и стаканами. — Такой же мужчина, как и ты. Не бойся, Густа. Его невозможно было научить ни единому немецкому слову — для этого он слишком глуп. Но женщина честная до мозга костей и богобоязненная. И страшная какая! Впрочем, история эта самая простая. Семеро деток, кормилец пал, жена заняла его место. Лучше слуги не придумаешь. Я не смог бы без него обойтись!
Паж разглядывал слугу, а полковник продолжал рассуждать:
— Ловкая штука, Густа! Ты разыграла настоящую драму и бог весть чего себе вообразила, но ни одна живая душа об этом не догадалась. Ты недовольна? Сдерни король с тебя личину, он бы только сказал: «Убирайся отсюда, глупая девчонка!» — и через минуту думал бы уже о другом. А вот если бы королева тебя разоблачила? Брр!.. Вот я и говорю: не следует целовать детей. Такой поцелуй тлеет, тлеет, да и вспыхнет снова спустя годы… А что правда, то правда: король как-то взял тебя с моих рук, крестница, и поцеловал тебя… Ты ведь была бойким и красивым ребенком.
Паж ничего не помнил об этом поцелуе, но ощутил его на лице и густо покраснел.
— Ну, сорванец, что же дальше? — Полковник на минуту задумался. — Что там думать: я уступаю тебе свою вторую палатку. Ты станешь моим ординарцем, дашь мне честное слово не бежать и будешь состоять при мне до заключения мира. А там я отвезу тебя к себе домой в Швецию. Я одинок. Оба мои младших сына, Аксель и Эрик, — он смахнул слезу, — погибли за короля и отечество. Оставшийся в живых старший сын — священник в прибыльном приходе. Выбирай между нами обоими.
Паж Лейбельфинг дал полковнику обещание и вслед за тем рассказал ему обо всех своих приключениях с той потребностью в правдивости, которая заявляет о себе после долгого ношения маски. Старик, слушая его рассказ, в особенности потешался над кузеном Лейбельфингом, портрет которого он заставил пажа набросать.
— Он не виноват в том, что он баба, — философствовал полковник. — Это в крови. Мой сын, священник, тоже труслив, весь в мать пошел.
Начиная с последних летних дней вплоть до окончания сбора винограда и до первых редких снежных хлопьев, закружившихся однажды морозным утром над большой дорогой, паж Лейбельфинг разъезжал верхом бок о бок с полковником Аке Тоттом. Ему не случалось сталкиваться с королем, так как полковник в основном нес авангардную службу или прикрывая тыл войска. Но Густав Адольф неотступно стоял перед духовным взором пажа, только был теперь недосягаем; он не теребил его больше за кудри, и паж не слышал уже, как прежде, отделенный от повелителя лишь тонкой стеной, как он ворочается и кашляет по ночам.
Но однажды Лейбельфинг вновь увидел своего короля. Это случилось на рыночной площади в Наумбурге. Паж замешкался там, делая покупки, и собирался нагнать своего полковника; тот командовал на этот раз авангардом и уже покинул город. Оттесненный вместе с конем толпой к самым домам, паж увидел на узкой площади непередаваемое зрелище. Густав сидел верхом на статном боевом жеребце, окруженный военачальниками на лихих конях и в доспехах; сотни людей в страстном порыве, весь народ, охваченный бурным приливом воодушевления, толпился вокруг северного короля, хранителя его духовных благ; женщины поднимали своих детей над ликующей толпой, мужчины пытались схватить и пожать правую руку Густава; девушки стремились поцеловать хотя бы его стремя, люди простого звания бросались на колени перед королем, не страшась ударов копыт его коня, который, впрочем, шел спокойной и плавной поступью. Густав Адольф, заметно растроганный, склонился с коня к престарелому местному священнику, облобызавшему его руку на глазах у Лейбельфинга, и произнес, повысив голос:
— Люди воздают мне Божеские почести! Это свыше меры и служит мне напоминанием о моей скорой смерти. Отец мой, мне сопутствуют языческая богиня Виктория и христианский ангел смерти.
У пажа слезы полились из глаз. Но когда в окне напротив он заметил королеву и увидел, как король посылает ей нежный привет, в его груди вскипела жгучая ревность.
Около недели спустя полковнику Аке Тотту довелось ехать неподалеку от экипажа, в котором находился король. Тут Лейбельфинг увидел хищную птицу, неотвязно парившую над облаками как раз над головой короля и не желавшую улетать, несмотря на выстрелы свиты. Паж вспомнил о Лауэнбурге: не нависло ли так же его мщение над Густавом Адольфом? Бедное сердце пажа сжалось от страха. Этот страх по мере наступления ранних сумерек все возрастал, и, когда стемнело, Лейбельфинг, нарушив данное им честное слово, пришпорил коня и исчез с глаз полковника, кричавшего ему вслед: «Вероломный мальчишка!»
Непрерывным галопом паж доскакал до кареты короля и смешался с лицами его свиты; там накануне предстоящей битвы его как будто никто не заметил или не обратил на него внимания. Король собирался заночевать в карете, но холод вынудил его искать пристанища в скромной крестьянской избе. С наступлением рассвета низкая комната заполнилась ординарцами. Боевое построение шведов закончилось, теперь наступил черед немецких полков. Камердинер короля, благоволивший к Лейбельфингу, узнал его и не стал ни о чем расспрашивать; паж снова завладел скамеечкой с вышитым на ней шведским гербом — он имел обыкновение сидеть на ней возле короля — и забрался в угол, где оставался незамеченным.
Наконец король отдал последние распоряжения; медленно поднявшись, он обратился к присутствующим — это все были немцы, и среди них немало тех, кого король стыдил в лагере под Нюрнбергом в столь резких выражениях. Густав сделал знак рукой и тихо, словно в полусне, произнес едва шевелящимися губами:
— Господа и друзья, сегодня, видно, пробьет мой последний час. И вот мне хотелось бы оставить вам свое завещание. Не война меня заботит — это дело живых, — нет, наряду с помышлениями о спасении моей души меня заботит память, остающаяся по мне среди вас. Я приехал сюда из-за моря с разными намерениями, но всех их перевешивала, скажу по правде, забота о чистоте веры. После победы при Брейтенфельде я получил возможность продиктовать мир императору и, утвердив здесь евангелическую веру, вернуться со своей добычей к себе, в шведские ущелья. Но меня заботили немецкие дела. Не без помыслов о вашей короне, господа, но, скажу без утайки, заботы о государстве преобладали над честолюбием. Невозможно, чтобы Германия и впредь принадлежала Габсбургу, ибо это государство протестантское. Но вы подумаете и скажете себе: «Не должен король-чужеземец властвовать над нами». И вы правы. Но напоследок мне пришла мысль о руке моей дочери и тринадцатилетнем…
Его тихая речь была заглушена буйным солдатским пением конного Тюрингенского полка, который проходил мимо стоянки короля. Король прислушался и, не окончив речи, сказал:
— Довольно, это все. — Затем, отпустив присутствующих, он опустился на колени и стал молиться.
В это время паж в ужасе увидел, что вошел Лауэнбург. Одетый в платье простого кавалериста, он приблизился с заискивающим и подобострастным видом, простер руки к медленно поднявшемуся королю и пал перед ним ниц, обнимая его колени, рыдая и взывая к нему:
— Отец, я согрешил перед небом и тобой! Я согрешил перед небом и тобой, я недостоин больше называться твоим сыном! — И он склонил перед ним голову. Король поднял его с земли и обнял.
Перед глазами пажа брезжили, как в тумане, две обнявшихся фигуры. Правда ли это, может ли быть правдой? Святость короля оказала ли чудодейственное влияние на погибшую душу? Или это сатанинское притворство? Не употребил ли во зло бессовестнейший из лицемеров слова, слетевшие некогда с пречистых уст? Таким сомнениям предавался паж со смятенными чувствами и колотящимся в груди сердцем.
Подали коней; король потребовал себе кожаную куртку. Появился камердинер с курткой и блестящим панцирем. Тогда паж выхватил у него из рук непроницаемую броню с намерением помочь королю надеть ее. Но Густав, не выразив никакого изумления по поводу присутствия пажа, отстранил панцирь с несказанно приветливым взглядом и обычным своим движением запустил руку в кудри пажа.
— Густ, — сказал он, — не надо, он жмет. Подай куртку.
Вскоре король ускакал с Лауэнбургом по левую руку и пажом по правую.
Глава IV
В деревне Мейхен за шведской боевой линией, в пасторском доме, около полуночи за Библией сидел магистр Тоденус, вдовец; он читал своей домоправительнице, особе хрупкого телосложения и также вдове, покаянные псалмы Давида. Затем магистр, человек воинственного вида, с густыми седыми усами, который в молодости провел несколько лет на военной службе, принялся вместе с домоправительницей горячо молиться за жизнь протестантского героя, который именно сегодня вступил здесь поблизости в бой, и пастор не знал, выиграл он его или проиграл. В это время раздался стук в ворота.
К пастору, открывшему дверь, шатаясь, подошел молодой человек, бледный как смерть, с лихорадочным взглядом; его голова была непокрыта, и на лбу зияла рана. Другой человек, который шел за ним следом, снял с коня чье-то тело. Несмотря на раны, искажавшие черты убитого, пастор узнал в нем шведского короля, которого видел однажды при его вступлении в Лейпциг и гравированное изображение которого висело у него в комнате. Глубоко потрясенный пастор закрыл лицо руками и зарыдал.
С лихорадочной поспешностью раненый юноша высказал желание, чтобы короля положили в соседней церкви. Но прежде он потребовал себе теплой воды и губку, чтобы омыть окровавленную и израненную голову короля. Затем с помощью своего товарища он положил тело убитого, слишком тяжелое для его рук, на убогую лежанку, опустился перед ним на колени и с любовью стал всматриваться в бледное как воск лицо. Но только он хотел прикоснуться к нему губкой, как лишился чувств и упал ничком на труп. Товарищ поднял его и, внимательно всмотревшись, заметил кроме раны на лбу еще и другую рану, на груди. Через отверстие в платье, рядом с заштопанной дыркой повыше сердца, сочилась кровь. Шведский корнет осторожно расстегнул платье своего товарища и остановился, не веря своим глазам.
— Тьфу ты, пропасть! — пробормотал он, а домоправительница, державшая чашку с водой, покраснела до корней волос.
В это мгновение дверь распахнулась, и вошел полковник Аке Тотт. Посланный по делам продовольствия в тыл, он спешил, покончив с поручением, снова к полю битвы. Пропуская перед харчевней на деревенской улице рюмку водки, он услышал рассказ о шатавшемся в седле всаднике, державшем перед собой на коне тело убитого.
— Правда ли, возможно ли? — вскрикнул он и бросился к своему королю. Схватив его руку, он залил ее слезами. Обернувшись через некоторое время, он заметил юношу, лежавшего без чувств в кресле. — Черт побери, Густа-то снова прицепилась к королю!
— Я встретил молодого человека, моего товарища, — заметил осторожно корнет, — в то время, как тот скакал через поле битвы, держа перед собой на коне убитого короля. Он пожертвовал своей жизнью за его величество.
— Нет, за меня! — перебил его долговязый человек с лицом старой бабы.
Это был купец Лаубфингер. Намереваясь взыскать крупный долг, он отважился покинуть безопасный Лейпциг и, сам того не ведая, приблизился к полю битвы. Попав на деревенскую улицу, запруженную обозами, он пошел следом за полковником. Преисполненный чувства признательности и облегчения, он передал теперь присутствующим подробно всю свою семейную историю.
— Густа, Густа, — плакался он, — узнаешь ли ты своего двоюродного брата? Чем я отплачу тебе за то, что ты для меня сделала?
— Тем, сударь, что заткнете глотку! — огрызнулся на него полковник.
Тут вмешался пастор и произнес спокойно и серьезно:
— Господа, вы знаете, свет полон злословия. В особенности когда большой и чистый человек творит большое и чистое дело. Окажись запятнанной его память, — он указал на почившего короля, — подумайте, в какое легендарное существо не поспешила бы превратить клевета папистов вот эту, — и он указал на лежавшего в обмороке пажа, — бедную мошку, спалившую себе крылышки в лучах его славы. Я уверен не меньше, чем в собственном бытии, в том, что король ничего не знал об этой девушке.
— Согласен с вами, господин священник, — подтвердил полковник. — И я также уверен в этом не меньше, чем в том, что обрету спасение через веру, а не через дела.
— Несомненно, — подтвердил Лаубфингер. — Иначе король отослал бы девушку домой и потребовал бы меня.
— Провались я на этом месте! — заверил корнет.
— Я — служитель Божий, у вас, полковник, седина в волосах, вы, корнет, дворянин, вам, господин Лаубфингер, это будет выгодно, а за свою домоправительницу я ручаюсь. Сохраним все в тайне.
В это время паж открыл свои потухающие глаза. Обведя всех испуганным блуждающим взором, он остановил его на Аке Тотте.
— Крестный, я ослушалась тебя, я не могла, я великая грешница.
— Великий грешник, — строго сказал пастор. — Вы бредите! Вы — паж Август Лейбельфинг, законный сын нюрнбергского патриция и именитого купца Арбогаста Лейбельфинга, скончавшийся седьмого ноября тысяча шестьсот тридцать второго года от раны, полученной накануне в сражении при Лютцене. Так я велю начертать на вашей надгробной плите! А теперь да примет вас Господь с миром, ваш час пробил!
Магистр произнес это не без жестокости, ибо не мог подавить в себе неудовольствия, вызванного юной любительницей приключений, которая подвергла опасности незапятнанную славу его короля.
— Я не могу еще умереть. Мне надо многое рассказать, — прохрипел паж. — Король… в тумане… пуля Лауэнбурга… — Смерть сомкнула его уста, но не в силах была помешать ему искать потухающим взглядом лицо короля.
Каждый из присутствующих вывел свои заключения и докончил на свой лад эти слова пажа; но сохранивший присутствие духа пастор, патриотизм которого оскорбляла мысль, что спаситель Германии и дела протестантизма мог погибнуть от руки одного из немецких государей, принялся настойчиво увещевать присутствующих похоронить эти прерванные смертью слова вместе с пажом.
И вот когда Август Лейбельфинг уже свел счеты с жизнью и лежал, бездыханный, рядом со своим королем, его двоюродный брат произнес, всхлипывая:
— Теперь, после того, как сестра моя скончалась и наследование вступает в свои права, получу ли я обратно свое имя? — Он бросил вопросительный взгляд на окружающих.
Магистр Тоденус рассматривал в это время невинное лицо отважной нюрнбергской девушки, на котором запечатлелось выражение счастья. Суровым человеком овладело чувство умиления, и он решил:
— Нет, сударь, вы навсегда останетесь Лаубфингером. Ваше прежнее имя удостоится чести красоваться на могильном холме этой девушки, одаренной высокой душой, любившей до самой своей смерти славного героя. Вы же спасли высшее для вас благо — дорогую вам жизнь. Довольствуйтесь этим.
Церковь была заперта на засов, чтобы сдержать напор стекавшейся отовсюду толпы: молва о том, что здесь лежит король, быстро распространилась. Затем покойники были омыты и положены на амвоне. Тем временем рассвело. Когда церковные двери раскрылись для толпы, стремившейся туда с благоговейным нетерпением на лицах и в движениях, то оба тела лежали перед алтарем на катафалках — король повыше, паж пониже и так, что голова пажа оказалась в ногах короля. За туманным днем последовал ясный и безоблачный, и луч утреннего солнца скользил через низкое церковное окно и, озаряя лик героя, уделял частицу своего сияния кудрявой голове пажа Лейбельфинга.