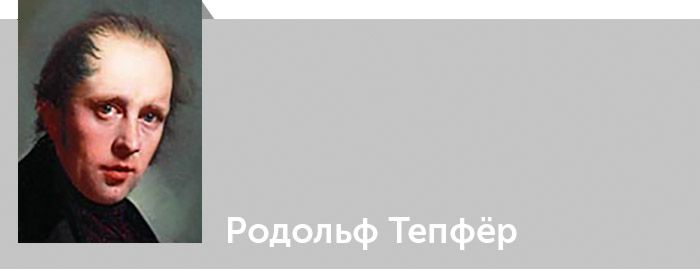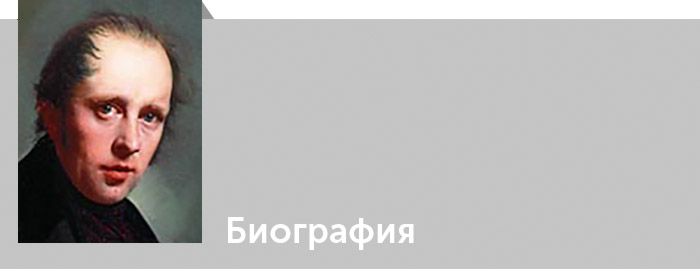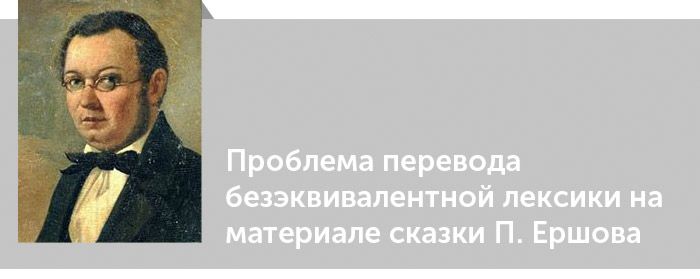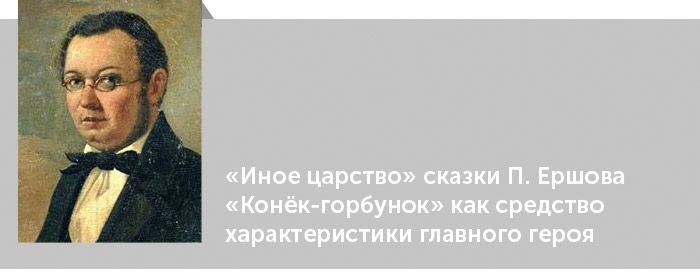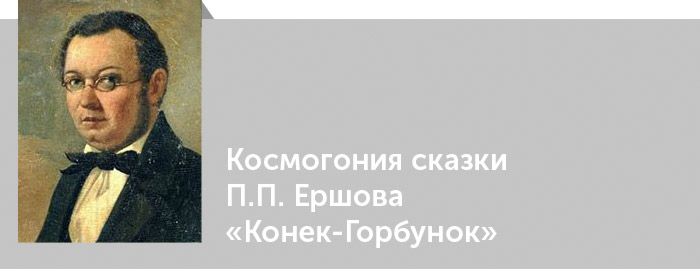Родольф Тёпфер. Библиотека моего дяди
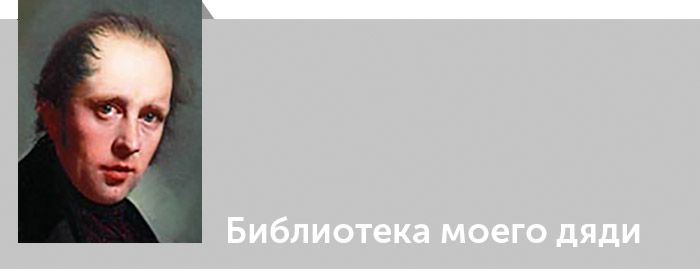
I. Два узника [1]
Я встречал людей, выросших у порога отцовской лавки: такой образ жизни сообщал им известное умение разбираться в людях, некоторую склонность к ротозейству, вкус к улице, кое-какие ходячие понятия, а также мораль и предрассудки своего квартала. Иные из них становились адвокатами, иные крупными чиновниками, и все они вносили в свои занятия немало следов жизни у порога этой лавки, – хороших ли, дурных ли, но всегда неизгладимых.
Но были и такие, которые в ту же пору – я хочу сказать лет в пятнадцать – проводили свои дни в маленьких комнатках, выходивших на тихие дворы и на пустынные крыши. Там они превращались в созерцателей, далеких от уличной суеты, но имели достаточно пищи для самостоятельных наблюдений над малым кругом соседей. Они получали знание людей менее обширное, зато более углубленное. Как часто, лишенные всяких зрелищ, они оставались наедине с собой, тогда как другие, стоя у лавок, постоянно развлекались все новыми впечатлениями и не имели ни времени, ни охоты познавать самих себя. Адвокат вы, или чиновник, не приходит ли вам в голову, что юноша, выросший в маленькой комнатке, иначе смотрит на мир, нежели тот, кто получил воспитание у порога отцовской лавки?
Да, но разве из своей комнатки этот юноша не видел прохожих, сновавших мимо его жилища, не слышал доносившийся до него с улицы шум, не замечал веселые или грустные уличные сценки, жизнь соседей, неожиданные происшествия, случавшиеся с ними? О, сколь трудное дело воспитание! Исполненные самых благих намерений, следуя советам друга или книги, вы направляете ум и сердце вашего сына к избранной вами цели, а в это время уличные сценки, уличный шум, соседи, неожиданные происшествия вступают в заговор против вас, или же играют вам на руку, и вы бессильны против их враждебного влияния или непрошенного содействия.
Правда, позднее лет после двадцати, двадцати пяти, жилище уже не играет такой роли. Оно может быть мрачным или светлым, уютным или неубранным, но теперь это школа, где учение кончилось. В этом возрасте человек уже избрал себе поприще, достиг того туманного будущего, которое еще недавно казалось ему столь отдаленным. Душа его уже не столь мечтательна и послушна: предметы отражаются в ней, но не оставляют отпечатков.
Я жил в уединенном квартале [2], в доме за собором святого Петра, расположенном близ епископской тюрьмы. Сквозь листья акации я видел стрельчатые церковные своды, подножье приземистой башни, узкое тюремное окошко, а вдалеке – в просвете между стенами – озеро с его берегами. Какими превосходными уроками все это могло служить мне, если бы я сумел ими воспользоваться! Как благосклонна была судьба, выделив меня среди юнцов, моих сверстников! Но как ни мало пользы извлек я из ее милостей, я горжусь тем, что вышел из этой школы, – более благородной, чем порог мелочной лавки, более щедрой поучениями, чем одинокая комната, – школы, где я мог бы сделаться поэтом, будь у меня лишь склонность к поэзии…
В сущности, все к лучшему, ибо я сомневаюсь, чтобы когда-нибудь жили счастливые поэты. Знаете ли вы хоть одного среди самых признанных поэтов, кто бы мог утолить свою жажду славы и почестей? Назовите мне хоть одного среди самых великих, прежде всего среди самых великих, кто был бы доволен своими творениями, узнав в них небесные образы, открывшиеся его гению? О, как много в жизни поэта обманчивых обольщений, несбывшихся надежд, разочарований! Но это лишь то, что лежит на поверхности. Сколько видится мне мучений более тяжких, разочарований более горьких, скрытых в тайниках его сердца! Поэт творит образы неземного счастья, но жизнь каждодневно ниспровергает их и рушит; он глядит в небеса, но прикован к земле; он любит богинь, но встречает лишь смертных женщин. Тассо, Петрарка, Руссо, – вы, нежные, болезненные души, истекавшие кровью не знавшие покоя сердца – скажите, какою ценой далось вам бессмертие?
Тут и причина и следствие вместе. Они страдают, потому что они поэты. Они поэты, потому что они страдают. Но в глубине их душевных борений вдруг, как молния в тучах, вспыхивает тот ослепительный свет, что так поражает нас в их стихах. Страдания открывают им радость; радость их учит страданиям. Желания их неотделимы от боли утрат. И в этом бушующем хаосе, в этих плодотворных мучениях рождаются возвышенные страницы их поэзии. Так буйные ветры извлекают столь сладостные звуки из струн одинокой арфы.
Вот почему я не очень удивился, услышав от одного рассудительного человека, что лучше быть владельцем бакалейной лавки на углу, чем прославленным на весь мир поэтом, лучше быть господином Жиро [3], чем Данте Алигъери.
Думаю, что я составил себе верное представление о поэте. Посудите сами, о чем прежде всего хлопочет тот, кто притязает на это высокое звание! Не правда ли, он пытается нас уверить, будто душа его томится тревогами и волнениями, будто в ней бушует хаос? Можно подделываться под язык добродетели, произнося священные слова; так и этот поэт подделывается под язык поэзии, изливаясь в словах, полных печали, тоски, невыразимого горя. В своих стихах он страждет, в своих стихах он вздыхает, к двадцати годам оплакивает в них увядающий остаток своей жизни и, наконец, он в них умирает. Так почти все начинают. Полно, дружок мой! Не так-то легко, как ты мнишь, быть несчастным, унылым, терзаться желаниями, упиваться восторгами, не видеть красок жизни, угасать как Мильвуа [4]! Сбрось же свою маску! Дай нам поглядеть на твое веселое лицо! Почему, мой славный толстяк, о почему не следуешь ты зову своей природы?
Какая польза для тебя вечно стонать, вечно скорбеть, чтобы прослыть мертвецом, лишенным навсегда погребения?
Впрочем, когда я говорю о плодотворных мучениях я не хочу этим сказать, что каждый великий поэт непременно вздыхает и плачет в своих стихах. Напротив, он скрывает свои самые горькие разочарования за бурными выражениями ликования и восторга. И даже, когда он увлекает нас за собой в счастливый Элизиум [5], когда он рисует небесными красками совершенную красоту, он возносится к этим блаженным высотам, чтобы оторваться от пустоты земной жизни. Поэт воспевает здоровье, потому что он болен, – жаркое лето, потому что он ощущает ледяной холод, – прохладную воду ручьев, потому что вокруг него выжженная пустыня. Недолго наслаждается несчастный своим опьянением: он и нам дает испить из этой чаши, но мы получаем нектар, а ему достается горький осадок на дне.
Однако тут я ловлю себя на постыдной мысли, которая притаилась в одной из извилин моего мозга: как хорошо, думаю я, что для моей утехи существовали эти страждущие души… что эти несчастные мучились долгие годы, чтобы оставить несколько строф, несколько страниц, которые пленяют меня и на миг приводят в волнение!… О глубокий эгоизм человеческого сердца, о жестокая потребность наслаждения, все приносящая себе в жертву! Но с другой стороны… Расин и – бакалейщик, Вергилий и – мелочной торговец! Нет, я еще недостаточно рассудителен, над моей седой головой еще не пронеслось достаточно лет. Придет время и, быть может, еще ждать недолго, когда я, более рассудительный и не менее эгоистичный, чем сейчас, повторяю те же слова юношам… И моя вздорная мысль, коснувшись их умов, ляжет тенью на их лица, но не разомкнет их уста.
В нашем мозгу гнездится множество дурных мыслей, которые прячут там из стыдливости и не высказывают из боязни себя обесчестить. Но если они порой вырываются из своих тайников, скольких порядочных людей бросает в краску! Однажды некий человек решил обследовать свой собственный мозг. Он обшарил его сверху донизу, вывернул извилины его наизнанку, забрался в их самые темные закоулки и затем, собрав все свои находки, сочинил целую книгу под названием «Максимы» [6] – верное зеркало, в котором люди увидели, что они гораздо безобразнее, чем сами о себе думали.
В данном случае герцог последовал за Сократом, призывавшим людей заглядывать в свой мозг. Гνώθτ σεαυτόν [7] (так по-древнегречески) означает именно это. Но я сомневаюсь, много ли пользы в таких постоянных наблюдениях. Чаще всего бывает полезнее не знать себя. Приглядевшись к себе попристальнее, многие от этого стали бы хуже. Увидев, что на его поле не произрастают добрые злаки, кое-кто пришел бы к мысли, что можно извлечь выгоду даже из сорняков.
Вот почему я не слишком-то часто всматриваюсь в свой мозг. Но нет для меня занятия более приятного, чем украдкой подглядывать за тем, что творится в чужой голове. При этом я пускаю в ход лупу и микроскоп, и вы не поверите, сколько любопытных мелких особенностей я открываю, не говоря уже о крупных и чудовищных несообразностях, которые видны простым глазом и поражают нас еще издали. Как неумен был Галль, пытавшийся убедить нас, будто можно судить о содержимом по тому, в чем оно содержится [8]: о вкусе апельсина – по неровности его корки, о качестве мази – по баночке, в которой она хранится. Я поступаю иначе: открываю и пробую, снимаю крышку и нюхаю.
Представьте себе, мозг у всех людей устроен одинаково! Это значит, что у всех он имеет одинаковое количество клеточек, которые содержат одинаковое количество семян, наподобие апельсинов, состоящих из равного числа одинаково расположенных долек с равным числом заключенных в них зернышек. Но, смотрите! Одни из этих семян погибают, не успев прорасти, в то время, как другие чрезмерно разрастаются. Вот отсюда и происходят те различия, которые создают многообразие характеров и делают людей столь непохожими друг на друга.
Любопытно, однако, что среди этих семян есть одно, которое никогда не гибнет, питается чем угодно или ничем, дает всходы одним из первых и исчезает последним. Это – семя тщеславия. Когда росток тщеславия отмирает, можно быть уверенным, что от человека ничего не осталось. Я узнал об этом от одного лекаря, который рассказывал мне, что, устанавливая факт смерти, он полагался лишь на этот единственный признак, считая его самым надежным. Когда лекаря призывали к усопшему, он прежде всего убеждался, что у того уже нет никакого желания кем-то казаться, нет заботы, как он выглядит, в какой он позе лежит, что о нем думают люди. В таком случае, даже не пытаясь нащупать у него пульс, лекарь давал разрешение на похороны. Поступая всегда таким образом, он не сомневался, что ни разу в своей практике не предал земле еще живого человека, что, по его словам, частенько случалось с его собратьями, следившими за пульсом, дыханием и прочими недостоверными признаками жизни. Этот же лекарь утверждал, что на прорастание семени тщеславия оказывают влияние не столько положение человека в обществе, его богатство или занятия, сколько его возраст. В младенчестве это семя дает росток не скоро; в юности этот росток развивается так же медленно, но после двадцати лет он превращается в почтенных размеров прожорливую опухоль, которая питается чем угодно.
Я забыл, что хотел рассказать о моем жилище. Я наслаждался там глубоким покоем и приятными досугами ранней юности, проводил мало времени со своим учителем, немного более с самим собой, а больше всего – в обществе Эвхарисы, Галатеи и особенно Эстеллы [9].
Есть возраст – в сущности единственный и длящийся очень недолго, – когда пасторали Флориана обладают для нас особым очарованием [10], Мне казалось, что никого нет на свете милее его юных пастушек, ничего нет простодушнее их жеманных речей и розовых чувств, ничего нет ближе к природе и сельской жизни, чем их элегантные корсажи и красивые посохи с развевающимися лентами. У самых хорошеньких городских барышень я с трудом находил и половину красоты, изящества, ума, а главное чувствительности, присущих моим дорогим покровительницам барашков. Вот почему они безраздельно владели моим сердцем, и в своем юношеском воображении я обещал вечно хранить им верность.
Ребяческая любовь, первые искорки яркого пламени, которое лишь позднее охватывает, обжигает и опаляет сердце… Но сколько прелести, радости, чистого света в этих невинных предвестниках чувства, столь чреватого бурями!
Несчастье моей страсти было в том, что я. не мог предаваться ей без опаски, и все это по причине весьма серьезной беседы, которую недавно повел со мной мой учитель. Речь шла о похвальном поведении Телемака на острове Калипсо, где он во имя добродетели покинул Эвхарису [11], что мы и переводили на весьма дурную латынь:
И он бросил Телемака в море…
Et Telemacham in mare de рurе praecipitauit,
едва я произнес эту строчку вслух, как г-н Ратен, – так звали моего учителя – перебил меня, спросив, что я думаю об этом поступке Ментора.
Вопрос поставил меня в тупик, ибо я знал, что при моем учителе нельзя порицать Ментора. Однако в глубине души я считал, что Ментор в данном случае обошелся с Телемаком слишком круто. «Я думаю, – ответил я, – что Телемак дешево отделался, напившись морской воды.
– Вы не поняли моего вопроса, – возразил г-н Ратен. – Телемак был влюблен в нимфу Эвхарису, а любовь – самая пагубная, самая презренная и наиболее противная добродетели страсть. Влюбленный юноша предается распущенности и изнеженности; он годен лишь на то, чтобы вздыхать у ног женщины, как Геракл – у ног Омфалы [12]. Поступок мудрого Ментора, удержавшего Телемака на краю пропасти, заслуживает величайшего восхищения. Вот, как вы должны были ответить на мой вопрос», – прибавил г-н Ратен.
Таким окольным путем я узнал, что сам тоже повинен в тяжком грехе и далеко отклонился от стези добродетели, ибо на мой взгляд я любил Эстеллу не меньше, чем Телемак Эвхарису. И я тоже решил побороть в себе столь преступное чувство, которое рано или поздно может привести меня к гибели, судя по тому, с какой похвалой г-н Ратен отозвался о поступке Ментора. Речь г-на Ратена произвела на меня большое впечатление, правда, не столько потому, что она была мне понятна, но скорее именно потому, что показалась неясной и загадочной. Чтобы хорошо вести себя и не упасть в пропасть, я старался погасить свой невинный пыл, но в то же время беспрестанно возвращался в мыслях к зловещим словам г-на Ратена, дабы постигнуть их смысл и сделать для себя кое-какие открытия. Такова была моя первая любовь. Она не имела никаких последствий, существуя лишь в моем воображении, но способ, каким я ее подавил, следуя наставлению г-на Ратена, наложил известный отпечаток и на другие мои увлечения, о чем можно будет узнать из моего дальнейшего рассказа.
Тюрьма, о которой я упоминал, выходила на мою сторону лишь одним своим окном. Вообще-то тюрьмы не слишком богаты окнами.
Это окно было прорублено в стене, имевшей весьма мрачный и унылый вид. Железная решетка не позволяла узнику высунуть голову наружу, а щиток, закрывавший от него улицу, пропускал очень мало дневного света в его укрытие. Я теперь вспоминаю, что при одном взгляде на это окно меня охватывали ужас и гнев. Я находил постыдным, чтобы в обществе, которое состояло, по моим понятиям, из одних только порядочных людей, кто-то мог позволить себе быть убийцей или вором. Правосудие, охраняющее безупречных людей от этих чудовищ, рисовалось мне в образе строгой святой матроны, чьи приговоры не могли быть слишком суровыми. Впоследствии я изменил свое мнение на этот счет. Правосудие уже не казалось мне столь непогрешимым, безупречные люди упали в моих глазах, а в чудовищах я слишком часто находил жертв нищеты, дурного примера, несправедливости… Итак сострадание к ним умерило мой гнев.
Детский ум судит безоговорочно, потому что он ограничен. Ему доступна лишь внешняя сторона вопроса, и поэтому все они кажутся ему очень простыми; решение их представляется прямолинейному и неопытному детскому сознанию столь же легким, как и бесспорным. Вот почему суждения самых кротких детей бывают порою беспощадными, и самые сердобольные произносят жестокие слова. Со мной это происходило нередко, тем более, что я не принадлежал к числу подобных детей. Когда я видел, как в тюрьму вели арестованного, я проникался к нему отвращением. Все мои симпатии были отданы жандармам. Это не было проявлением жестокости или душевной низости: во мне говорило мое понимание справедливости. Будь я менее непорочен, я бы возненавидел жандармов и пожалел бы их пленников.
Как-то раз один человек, которого я увидел на улице в сопровождении жандармов, возбудил во мне крайнее негодование. Он был соучастником вопиющего преступления. Вдвоем с товарищем он убил старика, чтобы завладеть его деньгами; заметив, что их преступление видит ребенок, они совершили еще одно убийство, пожелав избавиться от невинного свидетеля. Товарища этого человека приговорили к смертной казни, а его самого – то ли благодаря ловкому защитнику, то ли в силу какого-то смягчающего обстоятельства, – лишь к пожизненному заключению. Когда его вели к воротам тюрьмы, он, проходя под моим окном, С любопытством разглядывал соседние дома. Глаза его встретились с моими, и он улыбнулся мне, словно знакомому!!!
Эта улыбка произвела на меня глубокое и тяжкое впечатление. Неотвязная мысль о ней целый день преследовала меня. Я решил поговорить об этом с моим учителем, но он, воспользовавшись случаем, сделал мне выговор за то, что я трачу столько времени, глазея на улицу.
Какой же, право, чудак был, как я вспомню, мой учитель! Человек высокой нравственности и педант; почтенный и смешной, важный и комичный, он одновременно внушал и уважение к себе, и желание подшутить над ним. Однако, когда слово не расходится с делом, власть строгой честности столь велика, действие твердых убеждений столь сильно, что хотя г-н Ратен мне казался забавным, он имел на меня большее влияние, нежели мог бы иметь другой, гораздо более умелый и толковый наставник, но способный вызвать малейшее подозрение, что сам он не следует законам морали, которые проповедует мне.
Г-н Ратен был целомудрен до крайности. Читая «Телемака», мы пропускали целые страницы, нарушавшие, по его мнению, приличия. Он всеми силами стремился уберечь меня от сочувствия к влюбленной Калипсо и предупреждал, что в жизни мне встретится множество опасных женщин, похожих на нее. Он терпеть не мог Калипсо; хоть и богиня, она была ему ненавистна. Что же касается латинских авторов, то мы их читали не иначе, как в извлечениях, сделанных иезуитом Жувенси [13]; но мало этого: мы перескакивали еще и через многие пассажи, которые даже сей стыдливый иезуит считал безопасными. Вот почему у меня сложилось столь превратное представление о многих предметах: вот почему я так ужасно боялся, как бы г-н Ратен не разгадал моих невиннейших мыслей, содержавших хотя бы намек на любовь, имевших хотя бы самое отдаленное отношение к презираемой им Калипсо.
По этому поводу можно сказать немало. Такая метода воспитания скорее воспламеняет чувства, чем умеряет их; скорее подавляет, чем предотвращает; внушает больше предрассудков, чем правил; но главное следствие такого воспитания – почти неминуемая утрата душевной чистоты: этот нежный цветок может увянуть от безделицы, и ничто уже не вернет ему жизнь.
Впрочем, г-н Ратен, напичканный латынью и Древним Римом, был в сущности добряк и больше любил ораторствовать, чем наказывать. По поводу чернильной кляксы он цитировал Сенеку; укоряя меня за шалость, он ставил мне в пример Катона Утического [14]. Единственное, чего он не прощал, это беспричинного смеха. Чего только не чудилось этому человеку, когда меня разбирал неудержимый смех: он видел в нем и дух века, и мою раннюю испорченность, и предвестие моего плачевного будущего. Тут он разглагольствовал страстно и нескончаемо. Я же приписывал его гнев бородавке, сидевшей у него на носу.
Эта бородавка, величиною с турецкую горошину, была увенчана маленьким пучком очень тонких волосков, имевших к тому же большое гидрометрическое значение, ибо, как я заметил, они в зависимости от погоды то выпрямлялись, то завивались. Во время уроков я часто, – без всякой задней мысли, и без малейшего желания посмеяться, – с любопытством разглядывал этот пучок. В таких случаях г-н Ратен внезапно окликал меня и сурово распекал за рассеянность. Иногда, – впрочем, это случалось реже, – на бородавку упорно норовила сесть муха, не взирая на то, что он нетерпеливо и сердито отгонял ее; тогда он торопился с объяснением урока, чтобы я, занятый текстом книги, не заметил этой странной борьбы. Однако именно это давало мне знать, что происходит нечто интересное и, не в силах победить непреоборимое любопытство, я украдкой поднимал глаза на лицо учителя. Стоило мне взглянуть на него, как меня начинало трясти от смеха, а если муха становилась все более настойчивой, я и вовсе не мог от него удержаться. Вот тогда-то г-н Ратен, не показывая вида, что он понимает причину моего непристойного поведения, начинал метать гром и молнии против беспричинного смеха и его ужасающих последствий.
Тем не менее беспричинный смех – одно из самых приятных удовольствий среди тех, что мне известны. Ведь запретный плод так сладок! Меня излечили от него не столько торжественные увещевания моего учителя, сколько мои лета. Чтобы наслаждаться беспричинным смехом, надо быть школьником и, если возможно, иметь учителя с бородавкой на носу, украшенной тремя волосками:
… Сей возраст жалости не знает! [15]
Размышляя позднее об этой бородавке, я пришел к выводу, что все обидчивые люди наверное наделены каким-нибудь физическим или моральным недостатком, какой-нибудь видимой или невидимой бородавкой, которая заставляет их подозревать, что окружающие смеются над ними. Не смейтесь в присутствии этих людей: они подумают, что вы смеетесь над ними; никогда не говорите при них ни о прыщах, ни о волдырях на лице: они примут ваши слова за намек; никогда не упоминайте ни о Цицероне, ни о Сципионе Назике [16]: не оберетесь неприятностей.
Наступила пора майских жуков. В свое время они меня очень занимали, но я уже начинал терять к ним интерес. Как быстро стареешь однако!
Все-таки, когда я оставался один в моей комнате и смертельно скучал, корпя над уроками, я не гнушался обществом этих насекомых. Правду говоря, дело шло уже не о том, чтобы, привязав жука за ниточку, заставлять его летать, или же запрягать его в маленькую тележку; для таких ребяческих забав я был уже слишком взрослым. Но если вы думаете, что больше ничего нельзя добиться от майского жука, вы глубоко ошибаетесь. Между детскими играми и серьезными занятиями натуралиста есть еще много промежуточных ступеней.
Я держал одного майского жука под опрокинутым стаканом. Насекомое с мучительным трудом взбиралось на стеклянные стенки, чтобы тотчас же свалиться dниз, а затем снова и снова начинать все сначала. Иногда жук падал на спинку: это, как вы знаете, для него очень большое несчастье. Прежде чем прийти к нему на помощь, я наблюдал, с каким долготерпением он медленно шевелил всеми своими шестью лапками в несбыточной надежде зацепиться за что-нибудь, чего не существовало. «А верно, как глупы майские жуки!» – думал я.
Чаще всего я выручал жука из беды, протянув ему гусиное перо, что и привело меня к величайшему, замечательнейшему открытию. Можно и впрямь сказать вместе с Беркеном [17], что доброе дело никогда не остается без вознаграждения. Мой жук как-то вскарабкался на бородку пера, и я оставил его в покое, пока он не пришел в чувство, а сам я дописывал строчку, проявляя больше внимания к действиям насекомого, чем к подвигам Юлия Цезаря, которого я в данный момент переводил. Улетит жук или спустится вниз вдоль пера? Какая малость иногда решает дело! Если он изберет первый путь, поминай, как звали, мое открытие! К счастью он начал спускаться. Когда я увидел, что он приближается к чернильнице, у меня появилось предчувствие, что сейчас произойдет великое событие. Так Колумб, еще не завидев берега, уже знал, что он открыл Америку. В самом деле, жук, добравшись до кончика пера, погрузил хоботок в чернила. Скорее, скорее белый лист бумаги… наступила самая решительная минута!
Жук вползает на бумагу, оставляет на ней чернильный след и получаются восхитительные рисунки. Может быть у него разыгралась фантазия, а может быть чернила слишком жгут его, но жук ползет, то подымая, то опуская хоботок, и в результате получается множество узоров удивительно тонкой работы. Иногда, изменив свое намерение, жук поворачивает назад; потом, снова передумав, возвращается на прежнее место: так появляется буква S!… При взгляде на нее меня осеняет блестящая мысль.
Я сажаю удивительное насекомое на первую страницу моей тетради; хоботок его наполнен чернилами; затем, вооружившись соломинкой, чтобы руководить работой жука и, когда это нужно, преграждать ему путь, я заставляю его прогуливаться таким образом, чтобы он самостоятельно написал мое имя. На это ушло два часа времени, но зато какой получился шедевр!
Самое благородное завоевание человека, как сказал Бюффон [18]… это несомненно – майский жук.
Чтобы провести как следует, эту операцию, я подошел поближе к свету. Мы заканчивали вырисовывать последнюю букву, как вдруг меня кто-то тихо позвал: «Друг мой!»
Я тотчас же выглянул на улицу. Никого не было.
«Я тут! – произнес тот же голос.
– Где? – спросил я.
– В тюрьме».
Я понял, что это окликнул меня из тюремного окна тот самый злодей, чья страшная улыбка так потрясла меня. Я отскочил в глубь комнаты.
«Не бойся! – продолжал тот же голос, – с тобой говорит честный человек…
– Негодяй! – закричал я ему, – если вы еще будете говорить со мной, я позову часового!»
На мгновение узник умолк.
«Несколько дней назад, проходя по улице, – снова начал он, – я увидел ваше лицо и подумал, что у вас должно быть сердце, способное пожалеть несчастную жертву людской несправедливости.
– Замолчите! – опять крикнул я, – вы злодей, вы убили старика, убили ребенка!…
– Я вижу, что и вы ослеплены, как другие. Однако вы слишком молоды, чтобы так верить во зло».
Он замолчал, услышав на улице чьи-то шаги: прошел господин в черной одежде. Потом я узнал, что его был служащий погребальной конторы.
Когда тот удалился, узник сказал:
«Вот прошел почтенный тюремный священник. Благодарение богу, он знает, что сердце мое чисто и душа не запятнана!»
Он опять замолчал. На этот раз прошел жандарм. Я колебался, позвать ли его, чтобы передать ему слова узника. Но слова эти уже возымели свое действие на мою легковерную душу, и я не поддался первому порыву. К тому же мне казалось, что это было бы предательством по отношению к человеку, который доверился чистосердечию, написанному на моем лице. Это значило бы не заслужить похвалы, польстившей моему самолюбию. Я уже говорил, что росток тщеславия питается чем угодно; нет такой подлой руки, которая не сумела бы приятно пощекотать его.
После этого разговора, привлекшего меня к окну, узник уже больше не нарушал молчания, и я вернулся к моему жуку.
Я уверен, что побледнел, как смерть. Произошло невероятное, непоправимое бедствие! Прежде всего я схватил его виновника и выбросил в окно. Потом я с ужасом начал обдумывать свое отчаянное положение.
На странице четвертой главы «De bello gallico» [19] протянулась прямо до левого поля длинная черная полоса; здесь насекомое убедилось, что по крутому обрезу книги трудно спуститься, и повернуло назад, к правому полю; затем, поднявшись по направлению к северу, оно решило переползти на горлышко чернильницы, откуда на свою и мою беду скользнуло по гладкому и покатому склону прямо в бездну, в геенну огненную, – в чернила!
Тут, сообразив к несчастью, что он сбился с пути, жук решил пуститься в обратный путь; облаченный в траур с ног до головы, он выкарабкался из чернильницы и снова попал на четвертую главу «Dе bello gallico», где я и нашел его уже в полуобморочном состоянии.
Какие чудовищные кляксы! целые реки, целые озера чернил! длинный ряд бездарных, безвкусных закорючек… какое черное и страшное зрелище!
Увы! эта книга была Эльзевиром моего учителя, [20] Эльзевиром ин-кварто, редчайшим, дорогим, невосстановимым экземпляром, врученным мне под мою ответственность со строжайшим наказом беречь его как зеницу ока. Сомнений не было: я погиб!
С помощью промокашки я собрал чернила, потом просушил страницу, после чего стал размышлять о том, что меня ожидает.
Я испытывал скорее тревогу, чем раскаяние. Больше всего меня пугала необходимость признаться, что во всем этом деле принимал участие майский жук. Каким грозным взглядом окинет меня мой учитель, узнав, что я, достигший по его мнению сознательного возраста, так постыдно тратил время на ребяческие забавы, – опасные и весьма вероятно безнравственные! При одной этой мысли меня бросало в дрожь.
Сатана, которого я в эту минуту не остерегся, начал нашептывать мне спасительные выходы из положения. В час искушения он всегда тут как тут. Он советовал мне пойти на совсем небольшой обман. Мерзкий кот соседки мог забраться в мою комнату, когда меня не было и опрокинуть чернильницу на четвертую главу «Dе bello gallico». Выходить из дому в часы занятий мне не разрешалось, значит придется объяснить мое отсутствие необходимостью купить перо. Перья лежали в шкафу и были у меня всегда под рукой, значит придется сознаться, что ключ от шкафа я вчера потерял в бане. Правда, у меня не было разрешения пойти вчера в баню, – я и в самом деле там не был, – значит придется сказать, что я пошел туда без разрешения, и это признание придаст оттенок правдоподобия всему моему сложному построению и в то же время смягчит угрызения совести, поскольку великодушно взяв на себя вину, я почти оправдаюсь в собственных глазах…
Этот шедевр хитроумия был совсем готов, когда я услышал шаги г-на Ратена, поднимавшегося по лестнице.
В смятении я захлопнул книгу, потом открыл ее и опять закрыл, потом снова открыл в надежде, что кляксы сами заговорят о себе и избавят меня от тягостного затруднения первых признаний…
Г-н Ратен пришел дать мне урок. Не взглянув на книгу, он положил на обычное место свою шляпу, придвинул к себе стул, сел и высморкался. Чтобы набратвся храбрости, я тоже высморкался, и г-н Ратен пристально на меня посмотрел, так как мое поведение уже намекало на его нос.
Сначала я не понял, что г-н Ратен пытался проникнуть в мой замысел высморкаться почти одновременно с ним, и поэтому, вообразив, что он заметил кляксы, я опустил глаза, растерявшись больше от его испытующего молчания, чем от вопросов, которые он мог бы задать, и на которые у меня были готовы ответы.
Наконец он сказал торжественным тоном:
«Сударь, я читаю на вашем лице…
– Нет, сударь…
– Я читаю, говорю вам…
– Нет, сударь, это кот…» – перебил я его.
Тут г-н Ратен изменился в лице, настолько мой дерзкий ответ показался ему перешедшим все границы дозволенного; он уже собрался дать мне суровую отповедь, как вдруг его взгляд упал на чудовищные кляксы. Он подскочил, с ним вместе подскочил и я.
Наступила минута отвратить бурю. «Сударь… в то время, когда я вышел… кот… чтобы купить перо… кот… потому что я потерял ключ… вчера в бане… кот…»
По мере того как я говорил, взгляд г-на Ратена становился все более страшным, так что я в конце концов не выдержал и без всякого перехода сознался в своем преступлении. «Я солгал… господин Ратен… в этом несчастье виноват я».
Наступило глубокое молчание.
«Не удивляйтесь, сударь, – сказал наконец г-н Ратен торжественным тоном, – что чрезмерная степень моего негодования помешала мне выразить его сразу. Более того: у меня нет слов, чтобы назвать»… Тут муха… и на меня напал неудержимый смех.
Снова наступило глубокое молчание.
Наконец г-н Ратен встал.
«Вы не выйдете, сударь, из вашей комнаты в продолжение двух дней и поразмыслите о своем поведении; я же со своей стороны тоже подумаю, как мне поступить при столь серьезных обстоятельствах…»
Вслед за этим г-н Ратен вышел, запер дверь и унес с собой ключ.
Искреннее признание в своей вине принесло мне облегчение; уход г-на Ратена избавил меня от чувства стыда, так что первые минуты моего плена очень походили на счастливое освобождение, и если бы не обязанность размышлять в продолжение двух дней о моих проступках, я бы воспрянул духом, как это обычно бывает после крутых поворотов судьбы.
Итак я начал размышлять, но ни одна мысль не приходила мне в голову. Как ни пытался я глубже осознать свою вину, я не находил в ней ничего страшного, кроме лжи, которую я, впрочем, искупил признанием, приятным мне тем, что оно вырвалось непроизвольно. Все же для порядка, я старался раскаяться, но, видя, как это трудно дается, я начал опасаться, не стало ли мое сердце поистине дурным, – безнравственным, как говорил г-н Ратен; и с сокрушением душевным я вознамерился с этого же дня бороться с беспричинным смехом.
В это время по улице прошел пирожник. Он всегда появлялся в этот час. Мне естественно пришла мысль полакомиться пирожками; но совесть не позволяла мне поддаться плотскому соблазну, когда мне велено было размышлять о душе. Продавец напрасно ожидал, взывая ко мне во все горло: я сидел в глубине комнаты, не двигаясь с места.
Но те, кто наблюдал нравы и обычаи продавцов пирожков, знают, как цепко они держатся за своих покупателей. Видя, что я не показываюсь, мой продавец не сделал из этого для себя прискорбных выводов; напротив, он продолжал громко кричать, полный непоколебимой веры в мое чревоугодие. Он лишь прибавил к слову «пирожки» волнующий эпитет «горяченькие», который подверг мою нравственность серьезной опасности. К счастью, я спохватился и призвал себя к порядку.
Я подумал, однако, что не следует оставлять в заблуждении честного труженика и отнимать у него драгоценное время. Я подошел к окну, чтобы сообщить ему, что сегодня не возьму пирожков. «Поскорее, – сказал он, – я спешу…»
Я уже говорил, что он верил в меня больше, чем я в самого себя.
«Нет, – отвечал я, – у меня нет денег.
– Поверю в долг.
– Да я и не голоден.
– Неправда!
– Я очень занят.
– Ну, живее!
– Ко всему еще я сижу взаперти.
– Ах, вы мне надоели», – сказал он и приподнял свою корзину, словно собираясь уходить.
Этот жест произвел на меня неотразимое впечатление. «Подождите!» – закричал я.
Через несколько мгновений в шапке, искусно привязанной к веревочке, поднимались вверх два пирожка… совсем «горяченькие».
«Ну и дурак этот жук! – думал я, жуя пирожок. – Имеет четыре крыла, чтобы летать, и падает в чернильницу. Если бы не его непостижимая глупость, я бы спокойно делал уроки, хорошо бы вел себя, г-н Ратен был бы доволен, и я тоже; не надо было бы лгать, меня не заперли бы на ключ… Дурак этот жук!»
Ба! да ведь эта мысль недурна! Я нашел козла отпущения, свалил на него все свои грехи, и мало-помалу моя совесть вновь обрела блаженный покой. Этому, как я полагаю, способствовало и то, что г-н Ратен в крайнем пылу негодования совершенно забыл задать мне уроки. Два дня и ни единого урока!… Из всех возможных наказаний я бы, вероятно, выбрал именно это, как самое восхитительное.
Примирившись со своей совестью и имея в запасе два праздничных дня, я задумал привести в порядок свою комнату, для чего предпринял кое-какие меры, которые мне очень понравились. Первым делом я убрал с глаз долой Эльзевир, словарь, учебники и тетради. Проделав все это, я ощутил не только приятное, но и совершенно новое для себя чувство: с меня точно сняли оковы. Итак, я должен был попасть в заключение, чтобы впервые познать всю прелесть свободы.
Как это было чудесно! Иметь законное право спать, бездельничать, мечтать… И это в том возрасте, когда собственное общество так сладко, когда в сердце неумолчно звучат пленительные речи, а ум так легко находит наслаждения, когда воздух, небо, поля, стены – все о чем-то говорит, все чем-то волнует, когда дерево акации представляется целым миром, а майский жук – сокровищем. Ах, почему я не могу вернуть ту счастливую пору, не могу вновь пережить волшебные часы! Как тускло светит сейчас солнце! Как медленно тянется время, как безрадостен досуг!
Эта мысль беспрестанно возникает у меня под пером. Всякий раз, как я начинаю писать, она торопит меня выпустить ее на волю. Я это делал множество раз, делаю и сейчас. Хотя счастье сопутствует мне и каждый год приносит мне радости, хотя дни мои безмятежны и ясны, ничто не может изгладить из моего сердца память о прошлом. Чем старее я становлюсь, тем моложе становятся мои воспоминания, и тем больше я в них нахожу печальной услады. В настоящем я владею гораздо большим, чем желал в те времена; но я тоскую по возрасту, когда мы полны желаний. Реальные блага не кажутся мне столь заманчивыми, как те воздушные замки, что сияли мне в заоблачной дали, всегда опьяняя меня. Свежее майское утро, голубое небо, тихое озеро, – вы и сейчас еще предо мною, но… куда девался ваш блеск, что сталось с вашей чистотой? Где ваша неизъяснимая прелесть, полная радости, тайн и надежд? Вы ласкаете мой взор, но уже не трогаете душу; я холоден к вашему веселому зову; чтобы так нежно любить вас, как прежде надо возвратить невозвратимое прошлое, повернуть время вспять. Какое грустное и горькое чувство!
Это чувство мы находим во всех творениях поэзии, и не оно ли является их главным источником? Нет поэта, которого вдохновляло бы настоящее; все они обращают свои взоры к прошлому. Более того: разочарованные в жизни, они влюбляются в прошлое, видят в нем прелесть, которой не находят в действительности. Свои сожаления они преображают в красоту и наделяют ею свои воспоминания. Так, создавая по своему произволу прекрасный призрачный мир, поэты оплакивают то, чего никогда не имели.
Собственно, юность – это возраст, когда поэзия копит свои сокровища. Но этот возраст, вопреки мнению иных, еще не знает, что с ними делать. Юность ничего не может извлечь из груды чистого золота, которое громоздится вокруг нее. Но вот приходит время, и оно понемногу уносит это золото с собой; юность, вступая в бой за свое достояние, начинает понимать, чем она обладала. По потерям она судит о былом своем богатстве, по сожалениям – об утраченных радостях. Тогда-то и полнится сердце, воспламеняется воображение, освобожденная мысль воспаряет ввысь… Тогда-то и поет Вергилий!
Но что сказать о безбородых поэтах, что поют в таком возрасте, когда они – даже если они и настоящие поэты – еще не успели раскрыть себя, еще не научились чувствовать и упиваться в тиши благоуханием, которое лишь позднее смогли бы разлить в своих стихах!
Бывают рано созревшие математики, примером тому служит Паскаль [21]. Но поэтов таких не бывает. Скорее можно представить себе Гомера шестидесятилетним старцем, чем Лафонтена – дитятей [22]. До двадцатилетнего возраста еще могут проявиться вспышки таланта; но ни раньше, ни чуть позже ни один гениальный поэт не достигал своей вершины. Многие, однако, расправляют свои крылья значительно раньше; но когда крылья слабы, падение неизбежно. Начав прежде времени свой полет, эти поэты скоро падают на землю. Газеты, кружки, группировки, это ваше дело! [23] Поднимайте же их!
Лафонтен не знал самого себя до позднего возраста, быть может, даже до конца своих дней. Не в этом ли был его секрет? Прочитайте, прошу вас, его предисловия! Приходило ли ему в голову, что он отличается от всех остальных? И тут дело не в скромности: для скромности у него не хватало тщеславия. Это была натура бесхитростная и наивная, само простодушие! Он пел для своего удовольствия, а не затем, чтобы выполнить долг или достигнуть какой-нибудь цели; он пел, и поэзия струилась из его уст.
Вы знаете, как он был неразумен. Он воображал, будто Федр его учитель [24]; он забывал воздавать хвалу Людовику Великому; [25] сам того не сознавая, он задевал самолюбие маркизов, и его обходили пенсиями. Воистину он был простак по сравнению со столькими хитроумными поэтами!
Забросив в дальний угол все учебники и тетради, я немного растерялся, не зная, что же мне делать дальше. Едва я начал об этом раздумывать, как из соседней комнаты донесся шум. Я заглянул в замочную скважину. кот моей соседки сражался с огромной крысой
Сначала я принял сторону кота: он принадлежал к числу моих друзей, и я видел, что моя помощь могла быть ему полезна. С израненной мордой, он уже не так рьяно нападал на чрезвычайно смелого неприятеля. Однако, следя за ходом этой борьбы, я вскоре проникся сочувствием к более слабому противнику, к его мужеству и ловкости перед лицом столь грозного врага; поэтому я решил соблюдать строгий нейтралитет. Но скоро я понял, что мне будет очень трудно сохранять такую позицию, то есть оставаться безучастным свидетелем борьбы между котом и крысой, тем более, что крыса разделяла мое мнение насчет Эльзевиров. Теперь она окопалась в углублении, проделанном ее зубами в толстом фолианте, валявшемся на полу. Я решил спасти ее: чтобы испугать кота, я изо всей силы ударил ногой в дверь, и сделал это так успешно, что замок отскочил, и дверь распахнулась.
На поле битвы остался лишь фолиант. Враг исчез, мой союзник – также. Но сам я попал в переделку.
В этой запыленной клетушке, уставленной полками со старыми книгами, помещалась часть библиотеки моего дядюшки, бывшего в это время в отъезде. Посредине стояла полуразвалившаяся электрическая машина, рядом с ней – несколько ящиков с минералами, у окошка – старинное кресло. Чтобы я не добрался до книг, эту комнату держали всегда под замком. Когда г-н Ратен заговаривал о ней, он принимал таинственный вид, словно речь шла о каком-то подозрительном месте. И вот сейчас только случай чудесно помог удовлетворить мое любопытство.
Сначала я принялся за физические опыты, но машина не действовала; я занялся минералогией, но Вскоре вернулся к фолианту. Крыса изрядно над ним поработала; на заглавном листе можно было прочитать лишь Слое… «Словарь [26]! – подумал я – это книга неопасная. Но словарь чего?»… Я приоткрыл книгу. Вверху я увидел женское имя; под ним – какую-то тарабарщину, смешанную с латынью; еще ниже – примечания. Речь шла о любви.
Я очень удивился. В словаре! Кто бы мог подумать? В словаре – о любви! Я не мог опомниться. Но тома фолиантов тяжеловесны; я поудобнее устроился в кресле, равнодушный сейчас даже к великолепному виду, открывавшемуся из окна.
Женское имя было – Элоиза [27]. Она была женщина и писала по-латыни; она была аббатиса и имела любовника! Столь странные противоречия совсем сбили меня с толку. Женщина – и любит по-латыни. Аббатиса и имеет любовника! Я понял, что мне в руки попала очень дурная книга, и мысль, что словарь может позволить себе заниматься подобными историями, ослабила мое всегдашнее уважение к этого рода трудам, обычно столь почтенным. Ну все равно, как если бы г-н Ратен начал вдруг воспевать вино и любовь, любовь и вино.
Но все же я не отложил книгу в сторону, как это следовало бы сделать. Напротив, увлеченный началом, я прочитал всю статью; с еще большим увлечением я прочитал примечания, разобрал и латинский текст. Тут было много удивительного; кое-что трогательно, кое-что таинственно, однако части истории не хватало. Теперь я уже не был всецело на стороне крысы; мне показалось, что не мешало чем-то помочь и коту.
В изорванных книгах всегда не хватает как раз самого интересного. Пропуски в тексте возбуждают больше любопытства, чем уцелевшие страницы. Я редко поддаюсь искушению раскрыть какую-нибудь книгу, но всегда разворачиваю бумажные фунтики, чтобы прочитать, что там напечатано. Словом, я нахожу, что для автора менее печально, когда его книга кончает жизнь у бакалейщика, чем пылится на полке у книгопродавца.
Элоиза жила в средние века. В моем представлении это было время монастырей, келий, колоколов, красивых монахинь, бородатых монахов, рощиц на берегах озер и в долинах, чему свидетели Поммие и тамошнее аббатство у подножия горы Салев [28]. Мои познания о средних веках дальше не шли.
Элоиза была племянница каноника. Прекрасная и благочестивая, эта юная девушка очаровала меня столько же своими природными достоинствами, сколько и монашеской одеждой, в которой я себе ее представлял. Я как-то видел в Шамбери сестер Сакре-Кёр [29], и по их образцу рисовал себе всех послушниц, всех монахинь и даже – если понадобилось бы – папессу Иоанну [30].
В то время как в глубоком уединении расцветала никому неведомая прелесть Элоизы, кругом только и говорили, что о знаменитом ученом по имени Абеляр. Он был молод и мудр, обладал обширными познаниями и смелостью мысли. Его внешность привлекала к себе не меньше, чем его речи; красота его не уступала его славе, затмившей славу всех других ученых. Абеляр участвовал в диспутах, которые устраивали различные ученые школы по вопросам, живо трогавшим людей того времени. В этих словесных турнирах он побеждал своих противников на глазах у толпы, на глазах у женщин, теснившихся в амфитеатре, чтобы получше разглядеть красивого оратора.
В этой толпе бывала и племянница каноника. Наделенная выдающимся умом и горячим сердцем, она с волнением слушала Абеляра. Не сводя глаз с юноши, она ловила каждое его слово, следила за каждым его движением, сражалась и побеждала вместе с ним, упивалась его триумфами и сама того не сознавая пила жадными глотками из чаши пылкой и неугасимой любви. Она верила, что полюбила науку, и дядя, радуясь, что сможет развить ее природные дарования пригласил Абеляра руководить ее занятиями… Счастливые любовники! Безрассудный каноник!… Здесь начиналась работа крысы.
Я перевернул страницу; но как все переменилось! Элоиза постриглась в монахини… Я был потрясен, потому что полюбил ее и сочувствовал ее страсти. Под сводами монастыря Аржантейль [31] она, в своей печали, казалась мне еще прекраснее, еще моложе. Когда, изнемогая от страданий, Элоиза припадала к подножью алтаря, она умиляла меня еще больше… Книга вела свой рассказ старинным языком; от ветхих страниц веяло ароматом давно минувших лет; ожившее очарование прошлого сливалось с юношеской свежестью моих чувств. Укрывшись в монастыре, Элоиза пыталась погасить в потоке молитв еще пылавший огонь своего сердца; но религия, бессильная исцелить эту больную душу, лишь умножала ее скорбь. Тоска, горькие сожаления, муки совести, неодолимая любовь терзали жизнь бледной затворницы. Ее глаза не просыхали от слез; она плакала о далеком Абеляре, плакала о днях его славы, о днях своего счастья. Преступная, но какая трогательная женщина! Прекрасная и нежная грешница; ее несчастье озарило лучом поэзии весь тот далекий век!
«Абеляр, – с волнением переводил я письмо, в котором она молкла возлюбленного придать ей силы, – как много надо бороться, чтобы успокоить заблудшее сердце! Сколько раз надо каяться, чтобы снова упасть, сколько раз побеждать, чтобы тотчас же вновь покориться, сколько раз отрекаться, чтобы сразу же в упоении начинать все сначала!…
Счастливые времена! Дорогие воспоминания! Они лишают меня мужества, сокрушают мои силы. Порою слезы раскаяния приносят мне отраду, я падаю ниц перед божьим престолом, и благодать, торжествуя победу, уже готова низойти в мое сердце…, но вот… предо мною встает твой образ, Абеляр… Я хочу отогнать его, но он преследует меня, он отнимает у меня покой, ^который был так близок, он погружает меня в мучения, которые я ненавижу, но страстно люблю. О, непобедимое очарование! О, вечная борьба без надежды на победу! Когда я плачу над гробницами, когда молюсь в своей келье, когда ночами брожу под сенью деревьев, – твой образ повсюду со мной. Он исторгает из очей моих слезы, терзает мою душу тревогой и угрызениями совести!… Курится ли ладан под сводами храма, слышатся ли священные гимны, звучит ли орган, или же воцаряется молчание… Твой образ снова здесь, нарушает это молчание, разрушает это благолепие, манит меня, увлекает меня за пределы обители. Так среди непорочных дев, принятых господом в его убежище, живет твоя грешная Элоиза, разбитая бурями, утопающая в пучине жгучих мирских страстей…»
Насладившись могучим очарованием этих печальных строк, я обратился к Абеляру. Где-то я найду его? Увы! Над его головой пронеслась гроза. Он, чье имя еще так недавно блистало, был повержен в прах. Он стал изгнанником. Скитаясь в поисках пристанища, скрываясь от ярости завистников и преследователей, Абеляр влачил жалкое существование. Святоши писали на него доносы, монахи пытались отравить его, церковные соборы сжигали его книги. Измученный бедами, он поселился в глуши.
«В дни моего счастья, – писал он, – я посетил никому не ведомую необитаемую местность, где жили лишь дикие звери и раздавался хриплый клекот хищных птиц. Здесь я теперь нашел себе пристанище. Из тростника я выстроил молельню, покрыл ее крышу соломой и, стараясь забыть Элоизу, искал покоя в лоне господнем».
На том месте книги, где Абеляр представил мне картину своей пустыни, я прервал чтение. Меня поразили эти странные события давних лет, страстная сила двух человеческих жизней, поэтическое слияние любви и благочестия, славы и горести. И как это бывает, когда что-нибудь трогает сердце и пленяет воображение, я забывал о бедствиях несчастных влюбленных и думал лишь о их горячей взаимной любви, внушавшей мне зависть.
Абеляр молился в своем уединенном убежище. Но современники сожалели о его мощном голосе, скорбели о его несчастьях, и весть о его внезапном бегстве привлекла всеобщее внимание. Благодаря рвению друзей удалось напасть на его след; несколько паломников, его бывших учеников, добрались до него; вскоре толпы почитателей, нагруженные подношениями, отправились к нему в пустыню. На эти средства Абеляр воздвигнул прекрасное аббатство Параклет [32], на том самом месте, где недавно возвышалась молельня с соломенной крышей. Между тем Абеляр узнал, что монахи из аббатства Сен-Дени [33], захватив монастырь Аржантейль, изгнали из него монахинь. Тотчас же, уступив им свое убежище, Абеляр призвал туда свою дорогую Элоизу.
Молодая аббатисса прибыла в Параклет со своими подругами. Абеляр незадолго до этого удалился, и монастырь святого Гильдазия Рюиского в Ваннском епископстве стал приютом его горестной судьбы.
Монастырь этот высится на утесе, о который беспрестанно разбиваются морские волны. Ни леса, ни луга, лишь широкая бесплодная равнина вокруг, да кое где разбросанные камни на ней.' Только белесая линия крутых берегов с голыми потрескавшимися скалами нарушает однообразие угрюмого ландшафта. Из окна своей кельи отшельник видел, как эта длинная линия то огибала заливы, то вновь взбегала на высокие мысы, и, опоясывая далекое побережье, терялась за необъятным горизонтом.
Эта мрачная местность не казалась Абеляру слишком печальной: в душе у него было еще больше печали. В его душе иссякли все источники радости; дым былой славы давно от нее отлетел; даже образ Элоизы, казалось, запечатлелся в ней лишь для горьких сожалений и скорбного раскаяния. Однако в своем уединении, унылое однообразие которого не нарушалось ни одним мирским звуком, прославленный кающийся грешник беспрестанно обращался к самому себе, воскрешая в своей памяти заблуждения прошлой жизни; мало-помалу он постиг всю тщету земной славы, всю пустоту земных утех и все больше проникался сознанием ничтожества дел человеческих. Затем, тревожась за Элоизу, чьи пламенные письма говорили о том, что она не раскаялась, он стал вновь обретать свой благочестивый пыл; священная боязнь за нее пробудила в нем былую стойкость, восстановила угасавшие силы. И этот человек, столь же великий, сколь и несчастный, поставил перед собой трудную задачу: очистить свою душу, разорвать узы, еще привязывающие его к земле, и вознестись к небесным высотам, увлекая за собой свою подругу. Вот тогда-то Абеляр написал Элоизе свое знаменитое письмо, в котором, – выйдя победителем в трудной борьбе, – протянул ей руку помощи, ободрил ее усилия, поддержал ее первые шаги и сквозь пыльную завесу, нависшую над гробницами, открыл перед ее взором сияющий отрадный свет небес.
«Элоиза, в этом мире я больше не увижу тебя, – так пишет он в заключение своего письма, – но, когда предвечный, в чьих руках находятся наши дни, оборвет нить моей несчастной жизни, что по всей вероятности случится раньше, чем закончится твой земной путь… тогда, я прошу тебя, где бы ни нашел я свою смерть, сделай так, чтобы мои останки перевезли в Параклет и похоронили подле тебя. Тогда, Элоиза, после стольких страданий мы с тобой соединимся навек, не зная ни греха, ни опасностей, ибо страх, надежды, воспоминания, угрызения совести – все исчезнет, как летящая пыль, как дым, растаявший в воздухе, и от наших былых заблуждений не останется и следа. Взирая на мое мертвое тело, ты сама, Элоиза, заглянешь в свою душу и поймешь, сколь безрассудно ради греховной страсти предпочесть горстку праха, бренную плоть – презренную добычу червей – всемогущему вечному богу, который один лишь может ниспослать нам блаженство и жизнь бесконечную».
Я давно кончил чтение этой истории, но она не выходила у меня из головы. С раскрытою книгой на коленях, глядя на пейзаж, озаренный золотыми лучами заходящего солнца, я мыслями был в Параклете, бродил вокруг его стен, следил взором за мелькавшей в темных аллеях печальной Элоизой, и, полный сочувствия к Абеляру, вместе с ним всею душой любил его несчастную возлюбленную. Эти образы вскоре слились со зрелищем природы, поразившим мой взор, так что, не покидая старинного кресла, я перенесся в лучезарный мир нежных и поэтических чувств.
К мечтаниям, навеянным чтением, знойным вечерним воздухом и прекрасным видом, открывавшимся из моего окна, примешивались и другие впечатления. Сквозь невнятный шум города – шум улиц, ремесленных мастер-ких и порта – ветер доносил до моего слуха замирающие звуки шарманки. Очарование этой далекой мелодии обострило мои чувства: все, что я видел, обрело более отчетливые черты, а вечер – особенную прозрачность и чистоту; какая-то необыкновенная свежесть разлилась во всем мироздании и, воспарив в небесной лазури, я наслаждался в своем воображении ароматом тысячи разнообразных цветов.
Незаметно я отдалился от Элоизы; я покинул ее тень под старыми буками и готическими сводами; переплыв через века и потеряв из виду голубые вершины прошлого, я приблизился к более знакомым берегам, к своему времени, к людям, живущим рядом со мной. И, когда шарманка умолкла, я вернулся к действительности; увесистый том, лежавший на моих коленях, утратил для меня свой интерес и, поднявшись с кресла, я машинально поставил книгу на полку…
Как уныло тянутся часы после сильных душевных волнений, как горестно возвращаться из ослепительной страны вымысла к постылым берегам действительности! Вечер показался мне печальным, моя тюрьма – ненавистной, моя праздность – тяжким бременем.
Бедное дитя, ты жаждешь чувствовать, любить и жить, дыша воздухом поэзии, но, изнемогая от собственных усилий, ты падаешь с облаков. Как мне жаль тебя! как много разочарований тебя ждет! много раз душа твоя, чувствуя в сладостном упоении, будто у нее выросли крылья, устремится прочь от земли, чтобы взлететь в небеса; но всякий раз тяжелая цепь остановит твой полет, и так будет всегда, покуда душа твоя, наконец, не смирится и, покорившись ярму, не поплетется дальше своею житейской тропой.
К счастью, я был еще далек от этого, ибо не сойдя со своей житейской тропы, я встретил на ней молодую особу, которая, затронув все мои чувства, продлила очарование моей мечты. Я не замедлил превратить ее в мою Элоизу, но не мятущуюся, а безмятежную, не грешную, но столь же чистую, сколь и прекрасную. И словно она была рядом со мной, я обращался к ней с самыми красноречивыми и самыми пылкими тирадами…
Читатель понял, что я был влюблен. Влюблен уже целую неделю, но вот уже шесть дней, как я не видел предмета моей любви.
Как все несчастливые влюбленные, я в первые дни тешил себя надеждами. Потом я пытался развлечься, но, как это можно было заметить, весьма неудачно. Затем, попав в заточение, я с самого начала моей праздной жизни отнюдь не забывал о своих сердечных делах. Но в этот вечер моя страсть, разгоревшись под действием прочитанной мной романтической истории, не могла удовольствоваться пылкими тирадами и толкнула меня на отчаянный шаг.
Надобно знать, что мне стоило лишь проникнуть в комнату, которая была надо мной, и я мог увидеть свою любимую!… В этот час она была там одна… Окно открывало мне путь к ней по крыше.
Соблазн был неодолим, тем более, что я уже был на крыше. Я присел, чтобы набраться храбрости и освоиться со своим планом, ибо начало его исполнения так сильно меня взволновало, что я готов был вернуться обратно. Но в эту минуту самым срочным делом для меня было стать совсем незаметным, и я лег на крышу… Я увидел на улице г-на Ратена!
Немного придя в себя после этого сокрушительного удара, я осмелился поднять голову, чтобы хоть что-нибудь увидеть за выступом крыши… Г-на Ратена не было и в помине!… Верно, он поднимается сейчас по лестнице и через минуту застанет меня в поисках любовной интрижки. Ах, как я раскаивался, как огорчался, как глубоко сознавал всю чудовищность моей вины!… Но едва г-н Ратен опять показался на улице, как исчезли и мои муки совести и сознание моей чудовищной вины. Г-н Ратен перешел дорогу и спокойно зашагал, удаляясь от меня.
Скоро я потерял его из вида, но я понял, что мне;нельзя оставаться на месте, не рискуя быть замеченным из тюремного окошка, куда я со страхом заглядывал со своей высоты. Итак, торопясь, пока еще не стемнело, я снова продолжал свой путь и, сделав несколько шагов, очутился у желанного окна. Оно было открыто…
Сердце мое сильно билось, ибо я все-таки был не вполне уверен, что моя возлюбленная сейчас одна. Я еще колебался, как вдруг услышал: «Входите! не бойтесь, вас не выдадут, славный юноша!»
Это был голос узника. После первого его слова, я, совершенно растерявшись, быстро прыгнул в окно и упал на плечи красивой, богато одетой дамы, которая вместе со мной грохнулась на пол.
Не могу описать, что произошло в первую минуту после нашего падения, ибо я был потрясен. Когда я пришел в себя, меня поразило прежде всего то, что дама, распростертая лицом вниз на полу, не издала ни крика, ни стона. Я приблизился к ней почти ползком: «Сударыня», – тихо сказал я ей изменившимся голосом…
Ответа не последовало.
«Сударыня!!!»
Молчание.
Вот какое страшное произошло событие! Почтенная дама мертва.., и убил ее школьник! Мой критик скажет, что я умышленно сгущаю краски в угоду ложному новейшему вкусу. Не спеши высказываться, критик! Дама эта была манекеном. Я был в мастерской живописца. Скажи что-нибудь другое, критик!
Я начал с того, что поднял даму, но прежде, естественно, встал на ноги сам. Глупейшая улыбка не сходила с ее румяного лица, хотя нос ее серьезно пострадал. Я кое-как подправил его, но бедствие было слишком велико, чтобы я мог долго останавливаться на такой малости.
Дело в том, что дама стукнулась носом о горшок с масляной краской; потеряв равновесие, горшок упав и по комнате рассыпались кисти, пузырьки, палитра, растеклась масляная краска. Я хотел было навести порядок среди всего этого, но бедствие было слишком велико, чтобы я мог долго останавливаться на такой малости.
В самом деле горшок с масляной краской, падая, задел за ножку дуралея-мольберта, который сначала закачался и в конце концов тоже решил упасть, угодив прямо в грудь красавцу-мужчине, висевшему на гвоздике и глядевшему на нашу суету. Гвоздик полетел вслед за мужчиной, и тот – вслед за мольбертом, и все они вместе обрушились на лампу, которая разбила зеркало и опрокинула чайник.
Разгром был ужасающий, сущее столпотворение, а дама все улыбалась.
Во время этой катастрофы под воздействием столь сильных и столь неожиданных потрясений моя любовь претерпела некоторый ущерб. Пока я обдумываю свое положение, воспользуемся этим временем, чтоб рассказать, в кого я был влюблен, и как это со мной случилось.
Над моей комнатой, этажом выше, проживал живописец, весьма искусно писавший портреты. Он отличался большим талантом изображать людей похожими на себя и в то же время – красивыми. О, как хорошо тому, кто так умеет работать! Какою чудесной приманкой он обладает! На эту приманку попадаются карпы, щуки, караси и даже выдры и тюлени, попадаются по доброй воле, не жалуясь на крючок и испытывая благодарность к рыболову!
Вспомните о ростке тщеславия! Как только вы сколотили себе состояние и разбогатели, одним из первых советов, какой он вам подаст, это – не правда ли? – воспроизвести на полотне вашу интересную, оригинальную, одним словом, весьма приятную физиономию. Не говорит ли он вам, что вы должны сделать сюрприз вашей матушке, вашей супруге, вашему дяде, вашей тетке? Если их нету в живых, не говорит ли он вам, что надобно поощрять искусство и помочь бедняку заработать? Ежели бедняк этот богат, разве нельзя найти тысячу других подходящих предлогов? Украсить стену, повесить что-нибудь для симметрии… Чего же в конце концов хочет этот росток? Он хочет, чтобы вы увидели себя на картине красивым, завитым, нарядным, в тонком белье, в лайковых перчатках; но больше всего он хочет, чтобы на вас смотрели, вами любовались, узнавали ваши черты, а по ним – и ваше богатство, и ваше знатное происхождение, и ваш талант, и вашу чувствительность, и ваш ум, и вашу проницательность, и вашу щедрую благотворительность, и ваш умелый выбор чтения, и ваш тонкий вкус и множество других превосходных качеств, которые делают вас совершенно особенным существом, наделенным уймою замечательных достоинств, не считая недостатков, но даже и они являются вашими достоинствами.
Всего этого желает росток тщеславия, и нужно ли удивляться, что ради вашего отца, вашей матери, вашей супруги и ваших детей он настаивает, чтобы вы позировали, снова позировали и еще раз позировали живописцу? Я бы скорее удивился, если бы дело обстояло иначе.
Искусство портрета теснейшим образом связано с теорией ростка тщеславия, и многие живописцы, незнакомые с ней, кончали жизнь на больничной койке Они изображали щуку щукой, кита – китом. Великие живописцы, но плохие портретисты. Публика отворачивалась от них, и они умирали с голоду.
Мой живописец писал портреты всякого рода важных особ, и не проходило дня, чтобы у его дома не останавливались роскошные экипажи, подолгу дожидаясь своих хозяев. Я восхитительно проводил время, разглядывая великолепных лошадей, отгонявших от себя мух, и слушая как кучера свистят или щелкают бичами. Хотя из моего окна я не мог видеть лиц особ, выходивших и экипажей, но мне было точно известно, что дня через два или три, я смогу любоваться их чертами, сколько мне будет угодно.
Дело в том, что живописец имел обыкновение между сеансами выставлять портреты на солнце, подвешивая их к двум железным прутьям, специально для этого прибитым к его окну. Как только портреты туда попадали, мне стоило поднять глаза, чтобы оказаться в прекраснейшем обществе лордов и баронов, герцогинь и маркиз. Все эти господа, висевшие на гвоздях, смотрели друг на друга, смотрел на них и я, и все они смотрели на меня.
В прошлый понедельник, заслышав стук колес подъехавшего экипажа, я прибежал на свой пост. Это была щегольская карета: четверка лошадей, нарядная упряжь, ливрейные лакеи. Экипаж остановился, и из него вышел немощный старец, почтительно поддерживаемый двумя слугами. Чтобы узнать, его, когда он попадет в картинную галерею, я отметил, что у него голая макушка и серебристые волосы.
Вслед за стариком из кареты вышла молодая девушка. Оба лакея посторонились, и старик, опираясь на руку девушки, медленно вошел в парадный подъезд; за ними вприпрыжку побежал большой спаньель.
Эта сцена взволновала меня, однако не столько потому, что вид юной и красивой девушки, служащей опорой старости, сам по себе трогателен, сколько потому, что в этой юной нимфе, украшенной всем, что выгодно обрамляет красоту и грацию, я, – постоянно думавший о нежных чувствах, – увидел воплощение своей смутной мечты о той, к кому влеклись неясные желания и безотчетные порывы, с недавних пор тревожившие мое сердце.
Еще одна особенность, пленившая меня в этой молодой девушке, придавала ей необычное очарование: она была чрезвычайно скромно одета. Простая соломенная шляпка, простое белое платье – таков был ее наряд, хоть она и была окружена всеми признаками роскоши. Тем не менее она была так изящна и грациозна, что я думаю, очутись она где-нибудь в глуши, без этого пышного обрамления, я бы не ошибся, признав по ее осанке, походке и всему ее облику, что она богата и знатна, и даже догадался бы о самоотверженности, заставившей ее пренебречь поклонением молодых людей, чтобы заботливо водить под руки старика.
К тому же, сказать ли? Я был уже избалован тем обществом, на которое смотрел из своего окна: высокие чины, богатство, изящество, тонкий вкус, хорошие манеры, умение одеваться – все это неотразимо привлекало меня. Глядя на этих особ, я утратил всякую приязнь к обыкновенному, заурядному, к людям моего класса, к себе подобным; и если, говоря по правде, любая молодая девушка могла взволновать меня в каком бы платье она ни явилась, то внешний вид именно этой девушки должен был вдохнуть в меня пламенную, безграничную страсть.
Так оно и случилось, и я сразу влюбился в эту юную Антигону [34]. Впрочем моя страсть была столь чистой и невинной, что мне и в голову не приходило спросить себя, не была ли эта девушка одной из тех Калипсо, о которых мне постоянно толковал г-н Ратен. Как ошибаются те, кто думает, будто любовь школьника, лишенная надежды и цели, не может быть пылкой и преданной.
Такие люди никогда не были школьниками, а если и были, то сильными только в знании неизменяемых частей речи и относительных местоимений; они были школьниками с отличной памятью, весьма понятливыми, благоразумными, со спокойным сердцем, ограниченным воображением и трижды в году получали награды; они были образцовыми школьниками, образцовыми по мнению г-на Ратена, и обещали в будущем стать господами Ратенами.
Теперь они стали чиновниками, адвокатами, бакалейщиками, поэтами, учителями, продавцами табака, и где бы они ни были – в табачном ли киоске, на кафедре, в банке, или на Парнасе – они всегда являются образцовыми чиновниками, образцовыми бакалейщиками, образцовыми поэтами, образцами для подражания, только лишь образцами, не больше и не меньше, и одно это уже превосходно!
Если вы думаете, что любовь моя не была пылкой и преданной, потому что не сулила мне ничего, кроме безумных восторгов; если вы думаете, что я не пожертвовал бы для нее всем, хотя не мог ждать от нее ничего, ах! как глубоко вы ошибаетесь! За один взгляд этой прелестной девушки я бы отдал г-на Ратена; за одну ее улыбку я бы швырнул в огонь четыре экземпляра Эльзевиров, хранящихся в библиотеке Ватикана.
Они поднимались по лестнице; когда они прошли мимо моей двери, я потихоньку ее приоткрыл, и в мою комнату тотчас же устремился веселый, жизнерадостный, ласковый спаньель.
Это было чудесное животное! Не только красота и поразительной чистоты шелковистая шерсть этой собачки, все в ней – повадка, движения и даже нрав – имело в себе нечто изящное и милое; так что, позабыв о различии нашей природы, я поймал себя на том, что смотрел на нее с некоторой завистью; я смотрел на нее, как на собачку из светского общества, как на собачку, близко знакомую с особами столь высокого ранга, что они могли лишь снисходительно принимать знаки моего уважения, и, самое главное, я смотрел на нее, как на собачку, любимую прекрасной девицей, для которой я был никем. По имени, вырезанном на ошейнике, я понял, что хозяйка спаньеля была англичанка.
Когда спаньель убежал, мне осталось только прислушаться к тому, что происходило наверху, и я тихонько подошел к окну. Живописец и старик вели беседу между собой, а юная мисс молчала.
«Вам придется, сударь, – сказал старик, – изобразить очень грустное лицо, и так как этой копии суждено в довольно скором времени пережить свой оригинал, было бы желательно придать ей менее мрачное выражение, ибо мне не хотелось бы пугать моих внуков. Разумеется, – продолжал он с доброй улыбкой, – я не из тщеславия вздумал заказать свой портрет в том возрасте и в том состоянии, в каком я сейчас нахожусь; но я думаю, что большинство ваших заказчиков избирает для этого более подходящее время.
– Не всегда, сударь, – возразил живописец. – Лицо, внушающее столько почтения, как ваше, встречается быть может более редко, чем юные и свежие лица.
– Вы мне делаете комплимент, сударь, я его принимаю. Мне уже недолго осталось их выслушивать… Люси, я тебя огорчаю, мое дорогое дитя, но неужели ты не можешь смотреть в будущее так же спокойно, как твой отец. Ну, скажи, пожалуйста, кого из нас двоих придется больше жалеть, когда мы расстанемся? Призываю вас в судьи, сударь!
– Прошу прощения, сударь, но мне как и вашей дочери кажется, что разлука должна пугать вас обоих, так что лучше стараться не думать о ней.
– Вот именно это я называю слабостью, и от нее то и хотел бы исцелить мою дочь. Я извиняю эту слабость, когда смерть, обманывая законные надежды, поражает цветущую юность, похищая у нее лучшие годы. Но, когда смерть настигает нас в назначенный срок… когда она подобна сну после дневных трудов… когда отец до последнего вздоха наслаждается нежностью любимой дочери и мечтает лишь о том, чтобы заснуть у нее на руках, такая ли уж это печальная картина, чтобы стараться о ней не думать, и так ли уж требуется много сил, чтобы ее созерцать?… Люси, ну зачем эти слезы?… Постарайся, дитя мое, смотреть на все это, как я… и наши дни будут спокойны, и мы будем получать от них радость до последней минуты… и горе покажется нам не столь страшным, если посмотреть ему прямо в лицо, не отягощая его еще более всем тем зловещим и ужасным, что способны придать ему воображаемые страхи и тщетное сопротивление. Простите, сударь, – прибавил он, – но это предмет нашего вечного спора с Люси, и если бы не портрет, который опять навел меня на эти мысли, я бы не позволил себе возобновлять здесь военные действия».
Я с восторгом прислушивался к этим словам, столь поучительным для меня, и в то же время придававшим еще больше прелести молодой девушке, окружая ее ореолом печали и дочерней нежности. «Как! – думал я. – Превосходные лошади, важные лакеи, карета, – вся эта роскошь, способная удовлетворить самое непомерное тщеславие, а царица, владеющая этим богатством, проливает слезы и грустит при мысли, что она не всегда будет преданно заботиться о своем престарелом отце!»
В тот же день портрет висел в картинной галерее Это был всего лишь набросок, но я без труда узнал лицо благообразного старца… Оно занимало левую сторону полотна, с правой же стороны оставалось много свободного места, и это произвело на меня плохое впечатление.
Но когда во время второго сеанса картина исчезла с выставки, хотя на этот раз юная мисс пришла одна, я заключил, что свободное место оставлено для нее, и теперь-то наконец мне удастся увидеть ее черты.
«Вы мне обещали, мадемуазель, – сказал живописец, – принести эскиз той части парка, на фоне которого ваш отец хотел видеть свой портрет.
– Я об этом не забыла, – ответила она, – эскиз в карете».
Она подошла к окну: «John, bring me my album, if you please! [35]…Но я вижу, что Джона здесь нет», – добавила она, улыбаясь.
Действительно, ее слуги, оставив лошадей на попечении какого-то бедного малого, отправились перекусить в соседнюю кофейню.
«Позвольте, я принесу!» – сказал живописец.
Но я его опередил и уже поднимался по лестнице, прижимая к губам альбом юной мисс. Я надеялся добежать до мастерской и хоть с порога взглянуть на ее лицо, но по дороге встретил живописца. «Большое спасибо! право, ты самый чудесный мальчик на свете: такого я еще не видал». И он взял альбом у меня из рук.
Я вернулся на свой пост менее поспешно, чем покинул его и совершил большую сшибку: я пропустил слова, каждое из которых было для меня бесценно.
«…Какой любезный мальчик! Так он знает английский язык?
– Очень хорошо. Обычно он служит мне толмачом в переговорах с вашими соотечественниками… Славный юноша! Жаль, что ему не суждено стать художником, это так бы ответило его склонностям и дарованиям…»
Живописец встал. «Я хочу вам показать… – продолжал он, – вот! Это эскиз, который он однажды набросал из моего окна… взгляните: озеро, часть здания тюрьмы… истрепанная шляпа, вывешенная, чтобы прохожие бросали в нее милостыню, напоминает о несчастном узнике, для которого эта прекрасная природа невидима.
– Отличная композиция! – сказала она, – и сколько в ней чувства!… Но зачем подавляют склонность, столь ярко выраженную?
– Это его опекуны: они хотят сделать из него юриста.
– Опекуны!… Значит он сирота?
– С давних пор. Кроме старого дяди, который взял на себя заботу о его воспитании, у него никого нет.
– Бедное дитя!» – промолвила молодая англичанка голосом, полным сочувствия.
Ее слова опьянили меня. Она меня пожалела; этого было достаточно, чтобы я возгордился тем, что я сирота, и самое большое горе моей жизни превратилось для меня в блаженство.
О как бы я хотел еще задержать на себе ее внимание! Но вместо этого высшего счастья она переменила предмет разговора, и я узнал из нескольких слов, что через неделю она возвращается в Англию. Что будет со мной, когда я останусь с глазу на глаз с г-ном Ратеном? Я предался безутешной печали.
«Англия! чудесная страна, к которой плывут корабли! Свежая зелень берегов, тенистые парки, куда приходят юные мисс развеять свою грусть!… А здесь ничего не чарует моих глаз, здесь все так немило!» И я равнодушно смотрел на озеро.
«Когда она будет далеко отсюда… Когда ее увидят другие страны! Когда в полуденный час она будет ехать по пыльным дорогам, глядя на зеленые деревья, на луга… о почему не будет меня ни на этих лугах, ни под этими деревьями?… Юная мисс, вы уезжаете? Ах, почему я не держу под уздцы ее лошадей, и мне не грозит опасность быть ими растоптанным? Она бы испугалась за меня, она бы опять пожалела меня!» Мне казалось, что без ее сочувствия не стоило и жить.
Сеанс закончился. Все время думая о ней, я с жадным нетерпением ожидал, когда портрет появится в галерее; но наступил вечер, а портрета все не было, и следующие дни прошли в таком же бесплодном ожидании. И вот, очутившись однажды у окна, я не смог устоять перед желанием проникнуть в мастерскую живописца, чтобы разглядеть черты той, которая царила в моем сердце. Читатель видел, какая за этим последовала катастрофа, и как я оказался среди всех разрушений, погруженный в раздумье. Я продолжаю свой рассказ.
На этот раз я отчетливо сознавал, что погиб безвозвратно. Мало того, что я повинен во лжи и в порче Эльзевира, я вдобавок взломал дверь, читал запрещенные книги, убежал из своего заключения, вылез на крышу, учинил разгром в мастерской живописца, повалил манекен, продырявил картину!… Ужасная цепь преступлений, первое звено которой держал в своих руках г-н Ратен, а именно – мой беспричинный смех.
Что делать? Навести порядок, все исправить, поставить на место? Невозможно: содеянное зло было слишком велико. Сочинить какую-нибудь басню? Только что, когда дело коснулось майского жука, я убедился, что это не так просто. Покаяться? ни за что на свете! Пришлось бы сознаться, что я влюблен, и я уже видел, как при малейшем подозрении в подобной безнравственности, вся стыдливость г-на Ратена ударит ему в голову, и он уничтожит меня одним взглядом.
Я принял решение вернуться в свою комнату, запереть за собой дверь и приняться за учение с большим, чем когда-либо, рвением, как для того, чтобы отогнать мой навязчивый страх, так и для того, чтобы изменить о себе мнение г-»а Ратена. Он, бесспорно, будет доволен моей нравственностью, если я представлю ему обильную порцию тщательно выполненных уроков, написанных хорошим почерком и говоривших об отменном прилежании. Однако день клонился н вечеру, и я решил отложить на несколько минут мой уход, чтобы в темноте ускользнуть от взглядов узника, когда мне придется снова пройти по крыше.
Я воспользовался этими минутами, чтобы удовлетворить свое любопытство. После недолгих поисков я нашел ее портрет; он был приставлен лицом к стене; я приподнял его и поднес поближе к свету.
Портрет был почти закончен. Юная мисс сидела в грациозной позе рядом с отцом, и ее нежная ручка небрежно покоилась на шее красивого спаньеля. Древние буки бросали тень на эту сцену, а в просвете между деревьями, высоко над морем, среди зелени газонов виднелся прекрасный замок.
При виде этих изящных черт, одухотворенных трогательным выражением кротости и печали, мной овладели самые нежные чувства, но я тотчас же предался горьким сожалениям о том, что я ничто для нее, и что она скоро уедет. Не отводя от нее очарованного взгляда, я твердил ей: «Почему, почему ты не моя сестра? Какого нежного и покорного брата ты бы нашла во мне! Вместе с тобой я бы нежно заботился об этом старике! Как прекрасна зелень там, где ты!.. Как чудесны были бы пустыни, если бы мы были вместе с тобой!… Люси!… Моя Люси!… Любимая моя!»
Стемнело. Я с грустью расстался с портретом и мигом очутился в своей комнате, как раз в ту минуту, когда мне принесли ужин и свечу.
В том состоянии возбуждения, в каком я находился, я не чувствовал ни голода, ни желания спать; я хотел лишь поскорей засесть за работу, чтобы представить г-ну Ратену – в какой бы момент он меня ни застал – явные доказательства моего трудолюбия и полного исправления.
После Цезаря Вергилий; после Вергилия Бурдон [36]; после Бурдона три страницы сочинения; после трех страниц… я заснул.
Я был очень удивлен, когда на рассвете меня разбудил чей-то голос, громко распевавший псалмы. Я прислушался…, это был узник. Он продолжал петь уже несколько тише и наконец умолк. Это благочестивое занятие почти изменило мое мнение о нем в лучшую сторону. «Вы хорошо поработали этой ночью?… – спросил он меня после некоторого молчания.
– Вы так поете каждое утро? – перебил я его.
– С детства… как вы думаете, разве бы я мог без утешения религии вынести мое несчастье?
– Нет. Я только удивляюсь, что религия не удержала вас от преступления, которое привело вас в тюрьму.
– В этом преступлении я не повинен. Бог допустил, чтобы мои судьи впали в заблуждение; да свершится воля божья! Я бы покорился судьбе, – прибавил он, – если бы • кроме пищи телесной у меня был бы и хлеб для души…, но у меня нет Библии!
– Как! – воскликнул я. – Вам не позволяют иметь Библию?
– Ничего не позволяют тому, кого считают достойным презрения.
– Вы должны иметь Библию! Я хочу, чтобы у вас была Библия! Я готов принести вам свою!
– Добрый юноша, – сказал он тоном, полным признательности, – проникнуть ко мне? Невозможно. Да я бы не согласился на это. Вид моего отвратительного жилища не должен омрачить ваш взор… Но сказать ли, что побудило меня к вам обратиться? Вчера, видя, как поднимаются к вам на веревке пирожки, я подумал с завистью: «Неужели не найдется сердобольной души, которая таким же образом доставила бы хлеб жизни бедному узнику?»
И вдруг меня осенила мысль: «У вас есть веревка?
– Провидение, – подхватил он, – позволило мне иметь веревку, которую я сохранил лишь для этой единственной цели…
– У вас будет Библия! – закричал я, перебив его, – у вас будет Библия!!!»
И, ликуя при мысли, что я в самом деле могу быть полезен несчастному, я стал торопливо искать свою Библию среди книг, которые накануне затолкал в шкаф.
В то время, как я занимался поисками, мне показалось, что из тюрьмы до меня доносятся приглушенные стоны. Я прислушался. «Это вы?» – спросил я узника.
Он ничего не ответил, но стоны становились все громче и жалобнее.
«Что такое? Что с вами? – волнуясь, крикнул я.
– Ужасно больно… – отвечал он, – и ничем нельзя помочь. Кандалы на одной ноге слишком тесны, и на ней появилась опухоль. Железо врезается в нее… Ай, – вскричал он, прервав себя.
– Ну и как же вы, как же вы, бедняга?
– …и причиняет мне ужасную боль. Я не спал всю ночь и потому видел, как вы работали.
– Несчастный, и вы не попросили, чтобы вам помогли?
– Меня посещают только раз в пять дней… Ай!… еще три дня…и я попрошу их…
– О, как мне вас жалко! А не могу ли я чем-нибудь?…
– Ничем! ничем! бедное дитя… Надо было бы… но мне уже легче от того, что вы меня пожалели… надо было бы… О! Ай! Ай!…
– Что надо было бы?
– О боже милосердный!… Кровь так и льется! Если бы подпилить немного железо… ослабить…
– Напильник! – закричал я, – нужен напильник! Подождите! в моей Библии»…
У меня был напильник (при моем знании латыни я еще и столярничал подобно Эмилю) [37], и я быстро вложил его в Библию. Но, перевязав книгу бечевкой, я с отчаянием вспомнил, что я – взаперти. Между тем узник продолжал причитать самым жалобным образом, и его стоны раздирали мне сердце. Я уже подумывал взломать замок моей двери, как вдруг увидел старьевщика, проходившего по улице, и очень обрадовался.
«Слушай! – закричал я ему, – привяжи все это к веревке, ты видишь, она висит на стене. Живее! живее! надо помочь одному бедняге».
Старьевщик привязал сверток к веревке, и она быстро поднялась вверх, В это мгновение отворилась дверь. Это был г-н Ратен. Он застал меня за работой.
«Вчера, сударь, – сказал он мне, – я был так возмущен вашим поведением, что забыл задать вам уроки на эти два дня…
– Я их сделал», – сказал я весь дрожа.
Г-н Ратен просмотрел сделанные мною уроки с некоторым недоверием: уж очень это было неожиданно. Затем, убедившись, что я действительно поработал в моем заточении, он сказал:
«Я хвалю вас за то, что вы по собственному почину избежали пагубного влияния праздности. Праздный юноша способен на самые скверные поступки, ибо находится во власти дурных мыслей, которые в вашем возрасте осаждают ленивые умы. Вспомните Гракхов, которые доставляли радость их матери [38] потому лишь, что с ранних лет были благонравны и прилежны.
– Да, сударь! – сказал я.
– Вы даже не нашли времени поесть? – продолжал г-н Ратен, заметив, что моя пища осталась нетронутой.
– Нет, сударь!
– Я с радостью вижу действие глубокой печали, которую вы должны были испытывать, вспоминая о вашем вчерашнем поведении.
– Да, сударь!
– И вы серьезно размышляли по этому поводу?
– Да, сударь!
– Вы хорошо поняли, что беспричинный смех довел вас до забвения всякой почтительности?
– Да, сударь! (В эту минуту кто-то поднимался по лестнице!)
– А потом и до греха лжи… (Дверь в мастерскую живописца отворилась!)
– Да, сударь! (Послышался возглас изумления!!!)
– Что это за шум?…
– Да, сударь!» (Раздались восклицания, громкие крики, проклятия; я был близок к обмороку!!!)
Собрав, однако, все свои силы, чтобы отвлечь внимание г-на Ратена от проклятий, доносившихся сверху, я сказал ему:
«Когда вы покинули меня вчера…
– Подождите!» – перебил он меня, все внимательнее прислушиваясь к тому, что происходило в мастерской.
И верно: шум был ужасный.
– «Погибло! все погибло! – вопил живописец. – Кто-то влез в окно»… Живописец подошел к окну. «Жюль, ты со вчерашнего дня не выходил из своей комнаты?
– Нет, сударь! – ответил, выступив вперед, г-н Ратен, – и по моему приказанию.
– Черт побери! мою мастерскую разгромили, картины уничтожили, мольберт поломали!… ваш ученик должен был все это слышать…
– Не откажитесь выслушать бедного заключенного? – послышался голос из окошка епископской тюрьмы, – я все видел, я все вам расскажу.
– Говорите…
– Так знайте, сударь, вчера вечером на крыше как раз перед вашим окном собралось большое общество. Четыре кота и одна кошка. Вам известно, что когда господа коты жаждут любовных утех…
– Покороче! – сказал г-н Ратен.
– …они очень громко мяукают. А кошечка была кокетлива…
– Покороче, говорю вам, – повторил г-н Ратен, – это к делу не относится.
– Прошу прощения, сударь, но если бы не кокетство этой дамы и не ревность четырех кавалеров…
– Жюль, – сказал мне г-н Ратен, – выйдите на минуту на лестницу!»
Я не заставил себя просить.
«…Все было бы тихо и мирно, – продолжал узник. – Они как нельзя более нежно мяукали, но дама никого не слушала и бархатной лапкой наводила лоск на свою мордочку. Ни дать, ни взять Пенелопа среди женихов [39]…
– А что потом? – спросил живописец. – Немного побыстрее…
– А потом один из котов вдруг позволил себе вцепиться когтями в морду другого поклонника, тому это не понравилось, остальные вмешались, бах, трах! это был сигнал: началась война не на жизнь, а на смерть! Вce слилось в сплошной шерстяной клубок, из которого торчали когти и зубы. Это был, черт побери, настоящий кошачий концерт. Пока коты дрались, Пенелопа прыгнула в мастерскую, весь клубок за ней… Больше я ничего не видел. Но слыша, какой шабаш там происходил, я понял, что они должно быть опрокинули какой-то предмет, затем еще что-то свалили. Это было около восьми часов вечера».
Меня очень унизила услуга, которую оказал мне узник, тем более, что его наглая ложь после стольких благочестивых фраз, его шутовской тон после стольких жалоб на страдания сразу уничтожили сочувствие, которое вызвал во мне этот человек. Я уверен, что если бы не присутствие г-на Ратена, я бы нашел в себе силы тут же изобличить его и во всем признаться живописцу. Но в моем преступлении была замешана любовь, и высокая добродетель г-на Ратена казалась мне огромным зловещим утесом, о который при малейшем подозрении с его стороны, я разобьюсь вдребезги.
В то время, как все это происходило, к дому подкатила коляска; юная мисс и ее отец уже поднимались по лестнице. «Сейчас у меня должен быть сеанс! – в отчаянии вскричал живописец. – Узник, вы нам рассказываете басни! Вот этот портрет я поставил лицом к стене, а сейчас он повернут к свету. По вашему мнению коты поворачивают портреты? Ко мне влезли, ко мне влезли в окно!… Жюль, ты что-нибудь видел?
– Жюль, прогоните собаку!» – приказал мне г-н Ратен. Надобно вам сказать, что в это мгновение прекрасный спаньель обнюхивал новый дождевой зонтик г-на Ратена. Я поспешил прогнать собаку на чердак и таким образом дать живописцу время забыть его роковой вопрос.
Когда я вернулся, он и в самом деле был занят своими посетителями, извиняясь перед ними за то, что принимает их среди такого чудовищного беспорядка.
«Если бы вы не уезжали завтра, – сказал он, – я попросил бы вас отложить на следующий раз последний сеанс.
– К сожалению мы не можем отложить наш отъезд. – ответил старик, – но, ради бога, не стесняйтесь, пусть наше присутствие не помешает вам в розысках преступника». Тогда живописец сам поднялся на крышу, желая оглядеться вокруг.
К счастью г-н Ратен, – бесконечно далекий от мысли, что я мог принимать участие в этом деле, – тщательно упаковав свой зонтик в чехол, снова подошел к столу и стал перелистывать мои книги, отмечая места, которые я должен был выучить. «Принимая во внимание, работу, которую вы мне представили, – сказал он, – и ваше очевидное желание исправиться…» Тут вошел живописец и, весь поглощенный своей мыслью, спросил:
«У вас есть, кажется, еще одна комната, сударь?… А, вот она! Не были бы вы так добры открыть ее мне? Вылезть на крышу можно только оттуда, и сейчас мы посмотрим, как смогли проникнуть в мою мастерскую.
– Охотно, сударь», – ответил г-н Ратен. И, взяв ключ из ящика, он вставил его в замочную скважину, кое-как приведенную в порядок моими стараниями, тогда как я, замирая от страха, делал вид, что усердно тружусь.
В то время, как они приступили к осмотру, до меня донесся шум из тюрьмы. Раздавались возбужденные голоса, и моего слуха коснулось несколько зловещих слов; часовой стоял на страже, двое прохожих остановились узнать, чем кончится эта сцена.
«Вот веревка, – послышался чей-то голос.
– Напильник! напильник! – закричал кто-то еще. – Смотрите, вот он под камнем.
– Да, это его носовой платок! – произнес в ту же минуту г-н Ратен. – Возможно ли?… Жюль!»
Дверь была открыта. Я выбежал, спотыкаясь, желая в эту минуту лишь одного – избавиться от невыносимых мук стыда и страха. Пробежав шагов сто по улице и, оглянувшись, я увидел честного старьевщика, который входил в наш дом, показывая судебному чиновнику дорогу в мое жилище; тут я ускорил свой бег, и, свернув на соседнюю улицу, изо всех сил помчался к городским воротам, через которые проскользнул не без тайного трепета перед жандармами, спокойно стоявшими на своем посту.
Удаляясь все дальше от города, я имел время поразмыслить о своем положении, которое казалось мне безысходным. Возвратиться назад, значило наверняка попасть не только в руки г-на Ратена, но и – жандармов, и эта мысль внушала мне панический ужас. Подгоняемый этими размышлениями, я, не останавливаясь, достиг луга, граничившего с Коппе, и присел, наконец, на чужой земле [40].
Но даже в этом уединенном месте я не чувствовал себя в безопасности от преследований правосудия. Я беспрестанно поглядывал на большую дорогу и каждый раз, когда коровы, осел или телега поднимали на ней пыль, я воображал, что по моим следам уже брошена во все стороны жандармерия. Тревога моя возрастала, и я принял окончательное решение продолжать свой путь до Лозанны, где жил тогда мой дядя И я снова пустился в дорогу.
В любом возрасте грустно быть изгнанником, но каково это для ребенка, который находится так близко от отчих мест! Не более трех миль отделяло меня от родного города, но мне казалось, что затерявшись в беспредельной вселенной, я навеки лишился всякой поддержки, всякого пристанища. Итак я шёл с тяжелым сердцем по берегу озера, которое так недавно улыбалось мне, когда я глядел на него из окна. Тоскливое чувство все больше и больше овладевало мной по мере того, как я продвигался вперед и страх мой ослабевал. Раза два или три я присаживался на обочине дороги; грусть моя была так велика, что я чуть было не поддался искушению вернуться обратно и вымолить прощение у моего учителя.
Но было слишком поздно. К тому же я прошел столько, что был уже ближе к Лозанне, чем к Женеве, ближе к.моему дяде, чем к моему учителю. Последнее обстоятельство сильно меня ободрило; я успокоился и снова начал думать о юной мисс и плести кружево сладостных мечтаний, которые так пленяли меня еще вчера в тот же самый час. Среди этой волшебной природы образ моей возлюбленной казался моему сердцу еще милее; он сливался с чистотой неба, нежными красками гор, свежей.прелестью берегов, и изгнание уже не казалось таким печальным.
Сколько жизненной силы у юности! Неужели это я о себе рассказал? Неужели это я был тем мальчиком, который так легко шагал по берегу озера, глядя с любовью на лазурные волны, на зеленые склоны Савойских гор, на старинный замок Эрманс [41] и наполнял своим живым чувством все окружающее?
Когда наступили сумерки, я свернул с дороги в поисках приюта у крестьян и получил его взамен единственной монеты, которая у меня нашлась. Я разделил с ними ужин и ночлег под деревенской крышей, а на рассвете покинул их, чтобы продолжать дальше мой путь,
Я убежал из дому без фуражки. Лучи восходящего солнца обжигали мне лицо. Я останавливался под крытыми входами в дома подышать немного прохладой, но взгляды фермеров и прохожих изгоняли меня из этих убежищ. Я все время опасался, как бы причиною их любопытства не было подозрение, что я совершил нечто преступное, однако единственным поводом для этого были мой возраст и мой странный наряд.
Пройдя тихую деревеньку под названием Алламан, видишь слева великолепные дубы, образующие опушку обширного леса. Если посмотреть, сидя в тени этих деревьев, на гладь озера, то со стороны Валлиса [42] взор встречает величественные отроги Альп; если же обратиться в сторону Женевы, то видишь мягкие очертания отдаленных вершин, в конце концов сливающихся с небесною далью. Я не смог устоять перед очарованием этого тенистого уголка и присел, чтобы съесть кусок хлеба, который мне дали крестьяне.
Я думал о том, с какой радостью я скоро обниму дядю. Это желание было так велико, так сильно, что при одной мысли, что оно может не сбыться, я впадал в отчаяние.
«Дядюшка, добрый мой дядюшка! – говорил я себе, растроганный до глубины души, – только бы мне вас увидеть, только бы поговорить с вами… быть с вами вместе!»
В это мгновение по большой дороге проехала карета, запряженная шестеркой почтовых лошадей, подымавших своим галопом вихрь пыли. Кучер хлопал бичом, слуги безмятежно спали на своих сиденьях. Карета, проехаз мимо, вдруг остановилась шагах в двустах от меня, и слуга, выйдя из нее, направился в мою сторону.
Я уже собрался удирать, но узнал Джона, слугу юной мисс. «Это вы тот самый молодой человек, – спросил он, – который исчез вчера из дома, что находится близ собора святого Петра?
– Да, – сказал я.
– В таком случае, следуйте за мной!
– Куда?
– К карете. Нечего сказать, напугали же вы вашего учителя! Идите!
– А где мой учитель?
– Он вас ищет на всех дорогах. Эх вы, озорник!» Услышав это, я заподозрил, что в числе других пассажиров в карете едет и г-н Ратен; я уже было отказался пойти за Джоном, как вдруг увидел издалека белое платье, выходившее из кареты. Я тотчас же побежал навстречу к юной мисс, чтобы ей не пришлось идти по пыльной дороге; но когда я приблизился к ней, стыд и волнение замедлили мои шаги, и я остановился на некотором расстоянии от нее.
«Вы господин Жюль, не правда ли? – приветливо спросила она.
– Да, сударыня!
– О! как обожгло вас солнце! Садитесь, прошу вас, карету… Ваш учитель очень встревожен, и я так да, что мы вас встретили…
– Садитесь с нами, дружок, – сказал старик, высунув голову в дверцу кареты, – садитесь! мы немного поговорим о вашем деле… Вы наверное устали?»
Я сел в карету, и она тотчас понеслась дальше.
Я был в упоении, которое лишило меня дара речи. Счастье, замешательство, стыд заставили сильнее биться мое сердце, и мое обожженное солнцем лицо заливалось краской. В руке я еще держал ломоть черного хлеба.
«Как вижу, вы, наверное, не очень-то плотно поели, – сказал мне старик. – В какой гостинице вы переночевали?
– У крестьян, сударь, они меня приютили прошлой ночью.
– А куда собрались вы идти сегодня вечером?
– В Лозанну, сударь!
– Так далеко! – воскликнула юная мисс. – Да еще с непокрытой головой?
– Я бы пошел еще дальше! Пошел бы куда угодно, лишь бы увидеть моего дядю!» И слезы выступили у меня на глазах.
«У него больше никого нет», – сказала она своему отцу. И она остановила на мне ласковый взгляд, в котором воплотились все самые смелые мечты, каким я предавался, сидя у моего окна,
«Дитя мое, – сказал добрый старик, – вы поедете с нами до Лозанны, и там мы сдадим вас с рук на руки вашему дяде. Вы совершили безрассудный поступок, но почему вы так испугались?
– Ведь это я, сударь, дал арестанту напильник. Он ужасно мучился, поверьте мне! Я дал ему напильник только для того, чтобы он немного расслабил кандалы на ноге.
– Ну что же! Я вижу в этом лишь побуждение доброго сердца. В вашем возрасте не обязательно знать, что арестант просит напильник лишь для одной надобности. Но вы ничего не говорите о мастерской живописца. А ведь это были вы, не правда ли?
– Да, сударь. Я бы признался в этом живописцу, дяде, вам…, но, я боялся г-на Ратена.
– Г-н Ратен такой страшный человек? Но все-таки, что вы сооирались там делать? Это вы повернули портрет моей дочери?»
Я покраснел до ушей. Он засмеялся: «Ого, дело принимает серьезный оборот! Ведь не на мой же портрет вы хотели посмотреть! Люси, тебя это должно рассердить!
– Нисколько, отец! – сказала она, улыбаясь своей пленительной улыбкой. – Я знаю, что господин Жюль любит искусство. Он сам талантливо рисует. Вполне естественно, что ему захотелось посмотреть работу искусного живописца.
– Люси, – возразил старик с лукавой ноткой в голосе, – тебе тоже не обязательно знать, что когда поворачивают картину с твоим изображением, то скорее всего для того, чтобы посмотреть на тебя…»
Заметив, как я застыдился, он прибавил: «Не краснейте, дитя мое, поверьте, я уважаю вас от этого не меньше, а моя дочь прощает вас. Не правда ли Люси?»
Эти слова вызвали легкое замешательство кое у кого в карете и больше всего у меня. Но вскоре я сумел ответить на все вопросы этих славных людей. После всего сказанного, я заметил, что старик проникся еще больше сердечной веселостью, а юная мисс стала несколько сдержанней, но не утратила сочувствия к моей судьбе.
Я же не сводил с нее глаз и, глядя на нее в упоении, был на седьмом небе от восторга.
Мы приблизились к городу: «Ваш дядюшка станет бранить вас? – спросил меня старик.
– О, нет, сударь!… И потом, я буду так счастлив, увидев его, что меня это не огорчит.
– Милый ребенок! – сказала Люси по-английски.
– Тем не менее я сам хочу сдать вас ему с рук на руки! Улица Дубов, вы говорите? Джон1 Остановите на улице Дубов, № 3!»
Больше всего я боялся, что мы не застанем моего дядю Тома. Но, когда карета остановилась, маленький мальчик, стоявший на улице, сообщил, что он сейчас дома. «Попроси его спуститься к нам, – сказал я мальчику.
– Нет, мы сами поднимемся к нему, – возразил старик.
– Это высоко?
– На втором этаже», – ответил мальчик.
И так же, как это было у жилища живописца, юная мисс взяла отца под руку и вошла с ним в подъезд. Я же в это мгновение готов был целовать следы ее ног. Мой дядя только что вернулся домой. Едва увидев его, я подбежал к нему и бросился в его объятия. «Это ты, Жюль!» – воскликнул он. Но, осыпая его ласками, я не в силах был ответить.
«Ты явился без фуражки, дитя мое, но, как я вижу, в хорошем обществе. Сударыня и сударь, соблаговолите присесть!» Я отпустил руку дядюшки, чтобы придвинуть гостям стулья.
«Мы хотим лишь, сударь, – сказал старик, – с почтением передать в ваши руки этого ребенка, виновного, по правде говоря, в легкомыслии, но чистого душой. Он сам вам расскажет, благодаря каким обстоятельствам он стал, к нашему удовольствию, нашим дорожным товарищем, и почему мы взяли на себя смелость представиться вам. Прощайте, мой друг, – сказал он, протянув мне руку, – вот вам моя визитная карточка, чтобы вы знали, где меня найти, если когда-нибудь доставите мне удовольствие, прибегнув к моей дружбе.
– Прощайте, господин Жюль…» – прибавила милая молодая девушка. И подала мне руку.
Со слезами на глазах смотрел я им вслед.
Вот каким образом я вновь обрел моего доброго дядю Тома. Через несколько дней мы вернулись в Женеву и дядя избавил меня от г-на Ратена. Так началась моя юность. В следующей главе я расскажу о том, как три года спустя она окончилась.
II. Библиотека [43]
Чтобы я с пользой провел каникулы, дядя посоветовал мне прочитать сначала Гроция [44], потом – Пуффендорфа [45], а затем приняться за Бурламаки [46], затерявшегося в данный момент в дядиной библиотеке. Итак, утром я поднимаюсь, подхожу к столу, усаживаюсь, кладу ногу на ногу, потом открываю книгу на том месте, где… и вот что со мной происходит.
Через полчаса мысли мои, так же, как и взоры, начинают блуждать, обращаясь то влево, то вправо. Сначала они задерживаются на полях тома ин-кварто; я стираю с них желтое пятнышко, сдуваю пылинку, с великими предосторожностями снимаю соломинку; затем я обращаю внимание на крышечку от чернильницы: в ней столько достопримечательных особенностей, и каждая из них так меня занимает, что я, положив перо на подставку, начинаю вертеть эту крышечку во все стороны, от чего получаю невыразимое удовольствие. Потом я удобно прислоняюсь к спинке моего кресла и, скрестив руки над головой, вытягиваю вперед ноги. Сидя в такой позе, мне трудно не насвистывать какой-нибудь мотивчик и в то же время не следить вполглаза за мухой, которая бьется об оконное стекло, стремясь вылететь на свободу.
Однако, когда мои суставы начинают деревянеть, я встаю и, заложив руки в карманы, совершаю прогулку, которая заводит меня в глубь комнаты. Натолкнувшись на темную стенку, я, естественно, направляюсь обратно к окну и необыкновенно искусно выбиваю кончиками пальцев барабанную дробь на стекле. Вон проехала телега, залаяла собака, или же вообще ничего не произошло; но я должен все видеть. Я открываю окно… Очутившись у окна, я остаюсь там надолго.
Смотреть в окно! Вот подходящее занятие для студента! Я имею в виду – прилежного студента, который не посещает кабачков, не якшается с лоботрясами. О какой это славный студент! Он – надежда своих родителей, они знают, как он благоразумен, как усидчив; он не мозолит глаза своим учителям, шатаясь по улицам и площадям, они не видят его за карточным столом и с удовлетворением предсказывают, что этот юноша пойдет далеко. В ожидании этого будущего, он не отходит от окна.
Он… скажу без ложной скромности, это – я. У окна я провожу целые дни, и если бы я посмел утверждать… Нет, ни мои учителя, ни Гроций, ни Пуффендорф не дали мне и сотой доли того, чему я научился вот здесь, глядя на улицу.
Тем не менее и здесь, как и повсюду, все делается не сразу, а постепенно. Сначала просто бездельничаешь, глазеешь вокруг, обращаешь внимание на соломинку, дуешь на перышко, любуешься паутиной или метишь плевками в какую-нибудь из плит мостовой. Эти занятия отнимают, смотря на степени их значительности, целые часы. Я не шучу. Представьте себе человека, который через это не прошел. Кто он? Кем он может стать? Глупцом, расчетливым материалистом, лишенным мысли и чуждым поэзии, который идет без остановки по жизненному пути, никогда с него не сбиваясь, ни разу не оглянувшись, не свернув в сторону. Это автомат, шагающий от колыбели до могилы, подобно паровой машине, которая движется от Ливерпуля до Манчестера [47]. Да, проводить время в безделии необходимо, хоть бы раз в жизни, особенно в восемнадцать лет, когда только что кончил школу. Это занятие освежает душу, иссохшую над книгами. Душа делает остановку, чтобы заглянуть в себя; она перестает жить чужой жизнью, чтобы начать жить своей собственной. Да, лето, проведенное таким образом, не кажется мне бесполезным в системе заботливого воспитания. Возможно даже, что одного лета недостаточно, чтобы стать великим человеком. Сократ бездельничал годами; Руссо – до сорока лет; Лафонтен – всю жизнь.
Однако я не нашел этого правила ни в одном труде, посвященном делу воспитания.
Занятие, о котором я говорил, является основой всякого солидного, хорошо поставленного обучения. В самом деле, чувства находят в нем свою невинную пищу, ум сначала обретает успокоение, а потом – склонность наблюдать.
Что же делать, глазея, если не наблюдать? [48]
Затем мало-помалу, сам того не ведая, ум усваивает привычку классифицировать, согласовывать, обобщать. И вот он самостоятельно вступает на путь философии, рекомендованный Бэконом [49], и по которому последовал Ньютон, когда, прогуливаясь без цели по саду, он увидел падающее яблоко и открыл закон всемирного тяготения.
Студент, стоя у окна, поступает таким же образом; он не открывает закона всемирного тяготения, но когда он смотрит на улицу, ему приходит в голову множество идей, и какие бы они ни были, – новые или уже всем известные, – для него по крайней мере они новые, следовательно, он не потерял времени даром.
И когда они сталкиваются со старыми, заимствованными идеями, в голове у студента рождаются открытия; и так как по самой натуре своей он не может долго колебаться между всеми, особенно между противоречивыми идеями, он, все еще уставясь на соломинку, сравнивает, выбирает и прямо на глазах становится умнее.
Что за чудесный способ трудиться, теряя таким образом время!
Но, хотя на худой конец достаточно и соломинки, чтобы с пользой бездельничать, я должен сказать, что никогда этим не ограничиваюсь: мое окно дает мне превосходное поле обзора.
Напротив меня находится больница. Это огромное здание, откуда никто не выходит и куда никто не входит, не заплатив мне дани. Я занимаюсь исследованием людских намерений, догадываюсь об их причинах и вникаю в их следствия. Я редко ошибаюсь, ибо, вглядываясь в физиономию привратника, я в каждом отдельном случае читаю на ней множество, интересных сведений о посетителях больницы. Ничто так верно не отмечает тонкие социальные различия, как лицо привратника. Это удивительное зеркало, где отражаются все оттенки низкого раболепства, угодливой любезности или же грубого презрения, смотря по тому, кто перед ним: могущественный ли начальник, мелкий служащий, или же нищий найденыш. Поминутно изменяющееся, но какое верное зеркало!
Напротив моего окна, но чуть повыше, одна из больничных палат. С того места, где я работаю, мне виден лишь темный потолок, а иногда и угрюмый санитар, который, прижав нос к оконному стеклу, смотрит на улицу. Если– я взбираюсь на стол, я вижу скорбное убежище, где страдания, агония и смерть уложили свои жертвы на два ряда постелей. Мрачное зрелище, но меня влечет к нему какое-то унылое сочувствие, и при виде несчастного умирающего воображение мое витает вокруг его изголовья, то погружаясь в прошлое этой угасающей жизни, то в ее неведомое будущее, и, проникаясь меланхолическим очарованием, всегда сопутствующим тайне человеческой судьбы.
Слева, в конце улицы я вижу церковь, пустую в будни и переполненную по воскресеньям, когда в ней звучат божественные песнопения. И здесь я также вижу всех, кто входит туда и выходит оттуда, и также строю догадки, но с меньшей уверенностью. Здесь нету привратника, но если бы он даже и был, он бы мне немногим помог. Ведь привратник судит людей по одежде: вне этого он слеп, глух и нем, и на его физиономии ничего не отражается. Меня же интересуют души тех, кто посещает церковь; к несчастью их души прячутся под одеждой: под жилетом, под рубашкой, а то и – под кожей. А часто бывает, что душ-то вовсе здесь нет: они где-то странствуют, пока священник читает проповедь. Но я все-таки ищу, спотыкаюсь, колеблясь, но чувствую себя от этого не хуже: ведь именно неясное, туманное, зыбкое придает прелесть бездельничанью.
Справа виден источник; собравшись у его голубых струй, судачат служанки, подмастерья булочника, слуги, кумушки. Наполняя ведра водой, здесь нашептывают друг другу любезности, жалуются на грубое обращение хозяев, на постылую службу, выбалтывают семейные тайны. Это моя газета, тем более занимательная, что я не все слышу и вынужден о многом только догадываться.
Наверху между крышами я вижу небо, то глубокое и синее, то серое, покрытое бегущими облаками. Порой его пересекают длинные вереницы перелетных птиц: они летят над нашими селами и городами в далекие края. Небо соединяет меня с внешним миром, с бесконечным пространством. Подперев кулаком подбородок, я погружаюсь взором и мыслью в эту бездонную глубину.
Когда я устаю смотреть ввысь, я перевожу взгляд на крыши. Здесь в сезон любви мяукают тощие страстные коты; здесь, ленивые и жирные, они моют рыльца на августовском солнце. Под крышей ютятся ласточки со своими птенцами; они улетают осенью, возвращаются весной и неустанно порхают взад и вперед в поисках пищи для своих крикливых выводков. Я их всех знаю, и они знают меня; они боятся меня не больше вазы с настурциями, стоящей на окне ниже моего этажа.
Наконец, улица – это всегда новое, беспрерывно меняющееся зрелище: миловидные молочницы, почтенные члены муниципального совета, проказливые школьники; собаки, которые ворчат, или неистово весело скачут; быки, которые жуют и пережевывают сено, меж тем как их хозяин ушел пропустить стаканчик. А вы думаете, что я теряю время, когда идет дождь? Ничуть не бывало: никогда нет у меня больше дела. Множество мелких ручейков сливаются в один мощный ручей; он растет, раздувается, ревет и увлекает в своем быстром течении всяческий сор, за прыжками которого я с превеликим интересом слежу. А вот какой-то старый разбитый горшок, собравший за своим широким брюхом все, что бежит по волнам, вздумал сопротивляться ярости потока. Камешки, кости, щепки запрудили середину ручья, но с боков прибывает вода, образуется море и начинается борьба. Я почти всегда принимаю сторону разбитого горшка; я смотрю в даль, не плывет ли подкрепление, трепещу за его правый фланг, уже готовый сдаться, дрожу за его левый фланг, в котором появилась брешь… а в это время бравый ветеран, окруженный отборными войсками, все еще держится, хотя вода уже заливает его по макушку. Но кто может бороться с разверзшимися хлябями небесными? Дождь удваивает свою силу и ливень… Ливень! минуты, предшествующие ливню, вот самое замечательное, самое лучшее из всех моих невинных удовольствий! Однако, когда дамы перешагивают через ручей, показывая свои стройные ножки, я оставляю ливень без внимания и не свожу глаз с белых чулок, пока они не повернут за угол. А ведь это лишь малая доля всех чудес, какие можно увидеть из моего окна.
Вот почему я нахожу, что дни очень коротки, и за недостатком времени я очень много теряю.
Над моей комнатой находится кабинет дяди Тома. Сидя в своем вращающемся кресле, согнув спину над столом, он – пока дневной свет скользит по его серебристым волосам – читает, составляет примечания, компилирует, формулирует свои соображения и собирает в своем мозгу квинтэссенцию тысячи томов, которыми уставлена его комната.
Не в пример своему племяннику, мой дядя знает все, чему учат книги, и не знает ничего, чему учит улица.
Поэтому он больше верит наукам, чем жизни. Он скорее готов усомниться в собственном существовании, чем в безоговорочно принятой им какой-нибудь туманной философской доктрине. Впрочем, он добр и наивен как ребенок, потому что никогда не жил среди людей.
Три вида звуков извещают меня почти обо всем, что делает мой дядя. Когда он поднимается с кресла, визжит винт; когда он хочет достать книгу с полки, к ней подкатывает лесенка на колесиках; когда он развлекается понюшкой табака, его табакерка стучит об стол.
Эти звуки обычно следуют один за другим, и я так с ними свыкся, что они не отрывают меня от работы, но однажды…
Однажды винт завизжал, но лесенка не подкатила, стука табакерки я не дождался. Я очнулся от своих мечтаний, подобно мельнику, который просыпается, когда умолкает мельничное колесо. Я прислушиваюсь: мой дядя Том разговаривает, мой дядя Том смеется… слышен чей-то другой голос… «Вот оно как», – говорю я себе, очень взволнованный.
Надобно вам сказать, что, когда я работаю у окна, я не всегда занимаюсь общими вопросами. С некоторых пор меня особенно увлекает один предмет, и он очень ослабил мой интерес ко всему остальному. Появились даже известные признаки, которые говорят о том, что изменилось направление моих трудов.
С утра я жду. В два часа пополудни у меня начинает биться сердце. Она прошла мимо, и день для меня кончился.
Раньше мне никогда не приходило в голову, что я один; да разве не были мы вместе: мой дядя, и я, и ручей, и ласточки, и весь белый свет? А сегодня я чувствую, что я один, совсем один, но только– не в три часа дня, когда все оживает вокруг меня и во мне.
Я уже говорил вам, как сладко текли мои часы раньше, а сегодня я не могу ни чем-нибудь заняться, ни праздно проводить время, ни бездельничать, что вовсе не одно и то же. Ведь вот до чего дошло: как-то на днях перед самым моим носом медленно кружилось пушистое перышко, а мне даже не пришло в голову подуть на него.
Подобных примеров я могу привести сотни. Вместо этого я вижу сны наяву. Я мечтаю о том, что она знакома со мной, улыбается мне, благоволит ко мне; найдя путь и возможность кем-то стать для нее, я с ней встретился; мы с ней путешествуем, я забочусь о ней, охраняю и спасаю от опасности, держа в своих объятиях; я глубоко сожалею, что мы не находимся с ней вдвоем в темном лесу, где на нас напали страшные разбойники, которых я обратил в бегство, хотя получил рану, защищая ее.
Но пора рассказать, кто он – предмет моей любви. Я не знаю, как я справлюсь с этой задачей, ибо словами так трудно описать первую девушку, заставившую биться ваше сердце. Для этих свежих и живых впечатлений нужен совсем особый, совсем юный язык.
Скажу только, что каждый день около трех часов она выходит из соседнего дома, спускается по улице и проходит мимо моего окна.
На ней голубенькое платье, и оно такое простое, что никто, даже я, не смог бы его различить среди стольких голубых платьев, проходящих по улице, но я нахожу, что оно с необыкновенным изяществом облегает ее юную талию; и мне кажется, что именно скромность этой девушки, на которую так приятно смотреть, при дает особую прелесть ее облику. И я не могу поверить, чтобы какое-нибудь другое платье, даже сшитое самой искусной портнихой на сто миль в окружности, пришлось бы мне больше по вкусу.
Итак, когда это платье появляется на моем горизонте, все вокруг меня улыбается и становится прекрасным. Когда же оно исчезает, для моих грез о счастье не хватает именно этого голубенького платья.
В тот день я увидел, как она, по своему обыкновению, шла по улице, приближаясь к моему окну, и уже приготовился следовать за ней глазами до угла, а в мыслях – еще дальше, но она вдруг сделала поворот и вошла в подъезд, находившийся подо мной. Я был так поражен, что отдернул голову, словно она вошла прямо в мою комнату. Только я было подумал, что она прошла на другую улицу, как в библиотеке дяди Тома случилось нечто невероятное, возбудившее во мне волнение, о котором я уже упоминал: «Как? Она говорит с дядей!…» Я делал необычайные усилия, чтобы уловить хоть несколько слов из их разговора, как вдруг неожиданное событие потрясло вселенную, уже начавшую создаваться вокруг меня.
Это столь важное событие было в сущности пустяковым. К полкам подкатила лестница, и я услышал, как дядя, продолжая говорить, поднимался по ступенькам. Я расслышал даже, как с его уст слетело слово «древнееврейский». Из этого явственно следовало, что мой дядя беседовал с каким-то ученым гебраистом, подвергавшим разбору вместе с ним какую-то мелочь древней премудрости. Ибо невозможно было вообразить, чтобы ее молодая головка была занята ученым вздором, а хорошенькая ручка перелистывала пыльный фолиант. Нот, это было немыслимо!
Глубоко разочарованный, я машинально вернулся к окну, и смотрел, ничего не видя, как это бывает, когда какая-нибудь мысль выбивает вас из колеи. Но прямо напротив меня на солнцепеке философствовали два осла, привязанные вместе к железному крюку. После довольно продолжительного времени одному из них пришло в голову весьма важное соображение, что можно было узнать по едва заметной дрожи его левого уха; затем он вытянул голову и с влюбленным видом показал другому ослу свои старые зубы. Тот понял знак, сделал то же самое, и оба принялись за дело. Они чесали друг другу шеи с такой готовностью оказать товарищу услугу, с такой беспечной нежностью и так пленительно лениво, что я не мог не проникнуться к ним симпатией и не пожелать присоединиться третьим к их компании. Со мной такое случилось впервые с тех пор, как меня стал занимать исключительно один предмет. В наивности некоторых зрелищ есть какая-то неотразимая трогательная сила; она как бы поднимает душу над самою собой и заставляет изменять своим самым сладостным мыслям. Я уже готов был увлечься тем, что увидел, как вдруг из двери моего дома вышло голубенькое платье. Это была она. «Ах!» – невольно воскликнул я.
Услышав это, девушка подняла голову и из-под полей шляпки устремила на меня свои прекрасные глаза, которые привели меня в замешательство, наполнили стыдом и быстрой, как молния, радостью. Она покраснела и пошла дальше.
Особая прелесть этого возраста заключается в том, ч.то можно покраснеть от дуновения ветерка и шороха былинки; но покраснеть из-за меня – казалось мне не-сказанною милостью, обстоятельством, круто меняющим мое положение; впервые между мною и ею что-то произошло.
Моя радость, однако, скоро уменьшилась, потому что я тотчас же оглянулся на себя. Когда я воскликнул «Ах!», она увидела мой разинутый рот, мои одурелые глаза и выражение идиота, уронившего шапку в реку. Мысль о первом впечатлении, которое я должен был произвести на нее, меня очень огорчила.
Но как вы думаете, что она держала под мышкой? Том ин-октаво в пергаментном переплете с серебряной застежкой – жалкую старую книгу, которую я сотни раз видел где угодно в комнате моего дяди, но теперь казавшуюся мне книгою книг, когда она несла ее, легко прижав к себе… Я впервые понял, что старая книга может быть на что-нибудь пригодна. Как мудр был дядя Том, собиравший их всю свою жизнь! Каким глупцом оказался я, не обладавший этой благословенной книгой, названия которой я не знал.
Она перешла улицу, направляясь к больнице. У входа она сказала несколько слов привратнику, который, как мне показалось, знал ее и уделил ей не больше внимания, чем это требовалось, чтобы она осмелилась войти в здание. Хоть меня и возмутило поведение этого грубияна, я все же был доволен, что девушка, о которой я мечтал, не настолько богата и знатна, чтобы желания, зарождавшиеся в моем сердце, не делали меня смешным в моих собственных глазах.
Я испытывал большое удовольствие от сознания, что она находится так близко от меня, потому что боялся, что потеряю ее до завтрашнего дня. Я страстно хотел узнать, что привело ее к моему дяде и что ей было надо в больнице. Охваченный желанием увидеть ее, когда она выйдет оттуда, я решил дожидаться ее у окна, но наступила ночь, и, потеряв на это всякую надежду, я поспешил подняться к дяде Тому.
Он уже зажег лампу и внимательно разглядывал на свет склянку с голубоватой жидкостью.
«Добрый вечер, Жюль, – сказал он, не прерывая своего занятия, – садись вот тут, я сейчас кончу».
Я сел, с нетерпением ожидая, когда смогу расспросить дядю, и оглядывал библиотеку, показавшуюся мне теперь совсем иной. С величайшим уважением смотрел я на почтенные книги, на сестер той, которую я увидел у нее под мышкой, и все предметы вокруг и самый воздух, каким я дышал, показались мне совсем другими, словно, девушка, побывавшая здесь, оставила на всем свой след.
«Ну вот! – сказал дядя, – кстати, ты не знаешь…
– Нет, дядюшка!…
– Поблагодари девушку,.которая приходила сюда…» с этими словами он подошел к столу, меж тем. как у меня в ожидании забилось сердце.
«Догадайся!…» – сказал он, повернувшись ко мне, словно наслаждаясь моим удивлением.
Я ни о чем не способен был догадаться.
«Она говорила вам что-нибудь обо мне? – спросил я, все больше волнуясь.
– Лучше того, – возразил дядюшка с лукавой миной.
– Что же это, дядюшка, умоляю вас!
– Ну, гляди, нашелся мой Бурламаки!»
Я упал с облаков, но из почтения к дядюшке внутренне посылал проклятия не ему, а Бурламаки.
«Я искал для нее книгу и нашел другую, которую считал уже утерянной.., Что за милая девушка! – продолжал он, – право, она стоит по крайней мере дюжины твоих учителей».
Я был того же мнения, и восклицание дяди Тома несколько примирило меня с ним.
«Она читает по древнееврейски, как ангел!»
Я опять ничего не понимал. «Она читает по древнееврейски? Но, дядюшка…» Мысль о подобной учености была мне неприятна.
«Я получил истинное удовольствие, заставив ее прочитать XLVIII псалом в издании Буксторфа [50]. Я ей объяснил, сравнивая с ним варианты того же псалма в издании Крезия [51], насколько текст Буксторфа предпочтительнее.
– И вы ей это сказали?
– Ну, конечно, раз я с ней говорил.
– Она была здесь с вами, и вы могли с ней об этом говорить?
– Ну да, впрочем, вряд ли это можно сказать кому-нибудь, кроме еврейки.
– Значит она еврейка?»
Неужели и с другими бывает такое? Еврейка! красавица и еврейка! Мне она от этого показалась в десять раз красивее, и я полюбил ее в десять раз сильнее.
Это не слишком-то по-христиански; однако, уверяю вас, очарование, какое я в ней находил, стало для меня еще более живым, словно достоинства, за которые я ее полюбил, озарились совсем новым светом.
Я знаю, что в моих рассуждениях было мало смысла, и что всякий человек, наделенный самым слабым умением логически мыслить, доказал бы мне всю их нелепость, а тем более – дядя Том; поэтому я ему ничего не сказал: мои заблуждения были мне дороже, чем логика.
Но чувства мои были именно таковы… К тому же… Можно ли влюбиться в сестру? Нет. В соотечественницу? Скорее. А в чужестранку? Еще скорее. А в прекрасную еврейку? Быть может она всеми покинута? Быть может на нее косо смотрят добрые люди?… В моих глазах это было ее преимуществом и словно приближало ее ко мне.
«Она хочет изучать древнееврейских авторов? – спросил я дядю Тома.
– Нет, хотя я ее всячески уговаривал. Речь идет о бедном умирающем старике. Она взяла у меня Библию на древнееврейском языке, чтобы почитать ему что-нибудь благочестивое.
– И она больше не придет сюда?
– Придет завтра в десять часов утра, чтобы вернуть мне книгу».
И дядюшка опять начал рассматривать склянку, а я погрузился в свои мысли. «Завтра она будет здесь, она будет в этой комнате, так близко от меня. А я для нее ничего не значу, меньше даже, чем дядя Том и его склянка». И я с грустью спустился к себе.
К моему большому удивлению моя комната была озарена слабым светом! Я сообразил, что это был отблеск огня, зажженного напротив в больничной палате, где в этот час бывало обычно темно. Я поднялся на стул и сначала увидел тень на стене в глубине палаты. Любопытство мое было возбуждено: вытянув голову и выглянув в окно с высоты моего стула, я смог различить женскую шляпку, висевшую на стене. «Это она!» – закричал я. Поставить стул на стол, подложить под стул Гроция и Пуффендорфа и самому влезть на все это, было делом одной минуты. И я затаил дыхание, чтобы насладиться открывшимся мне зрелищем.
У изголовья бледного больного старика сидела она, сосредоточенная, задумчивая, благочестивая, – сияющая юностью и свежестью рядом с болезнью и старостью. Она опустила прекрасные ресницы на книгу моего дядюшки и читала вслух слова утешения. Порой она останавливалась, чтобы дать отдых больному, поправляла ему подушку или же с любовью брала его за руку, глядя на него с состраданием, казавшимся мне ангельским.
«Счастливый умирающий старик! – говорил я себе. – Как должны быть ласковы ее слова, как сладостные заботы!… О! с какой радостью я бы отдал мою юность и мои силы за твой преклонный возраст и твои страдания!…»
Я не знаю, громко ли я высказал свои пожелания, или же это произошло случайно, но девушка, прервав чтение, подняла в эту минуту голову и пристально посмотрела в мою сторону. Я был так взволнован, словно она могла увидеть меня в темноте, что, резко повернувшись, упал, увлекая за собой стул, стол, Гроция и Пуффендорфа.
Раздался страшный шум, и некоторое время, оглушенный падением, я не двигался с места. Едва я собрался встать, как появился дядя Том со свечою в руке.
«Что случилось, Жюль? – с испугом спросил он меня.
– Ничего, дядюшка, это потолок… (дядя взглянул на потолок). Я хотел повесить… (дядя посмотрел во круг, чтобы увидеть, что именно я хотел повесить)… а потом, в то время как… тогда я упал… а затем… я упал.
– Очнись, очнись, мой дружок, – сказал дядя Том добрым голосом. – Падение, очевидно, задело твои мозговые клетки и в этом причина несвязности твоей речи».
Он усадил меня и поспешил поднять с пола оба фолианта, поврежденные переплеты которых, несомненно, причинили ему больше волнения, чем разговор с прекрасной еврейкой. Он осторожно положил книги на стол и, повернувшись ко мне, взял меня за руку. Быстро нащупав указательным пальцем мой пульс, он спросил: «А что же ты хотел повесить?»
Этот вопрос страшно смутил меня, потому что, если сказать правду, в комнате не было ничего такого, что можно было бы повесить. Поэтому, зная мягкий и снисходительный нрав доброго дяди Тома, я уже готов был в эту минуту все рассказать, но воздержался.
Для тайны, которая жила у меня в душе, одной снисходительности было мало. Я нуждался в сочувствии, а мой дядя испытывал его только к отвлеченным научным идеям. Вот почему я не захотел открыть ему мое сердце: я боялся, что погибнет чувство, которое я ревниво желал сохранить для себя.
«Я хотел повесить… Ах, боже мой, уже!
– Ну?
– Ах, дядюшка, все кончилось!
– Что кончилось?»
В это мгновение в комнате умирающего погас свет и вместе с ним – все мои надежды.
Мое восклицание внушило дяде мысль, что состояние мое весьма тяжелое; он уложил меня в постель и внимательно осмотрел, а я между тем думал о девушке, которой мне не удалось налюбоваться.
Дядя Том не подозревал о причине моей болезни. Однако, прощупав и выстукав меня, он проникся убеждением, делающим честь его медицинским познаниям, что мои кости в полном порядке. Успокоившись на этот счет, он занялся исследованием моего дыхания, кровообращения и прочих жизненных отправлений; перейдя к внешним симптомам, он, казалось, удовлетворил свое любопытство и с видом человека, которому есть о чем подумать, покинул меня.
Было около полуночи. Я остался один, весь уйдя в свои мысли, как вдруг стук лесенки, подкатившей к книжным полкам, заставил меня встрепенуться. Немного погодя, я заснул.
Я был очень возбужден. Перед моими глазами, без всякой связи с предметом моих дум, проносились тысячи образов, кружась и обгоняя друг друга. Это не было ни сном, ни явью, и меньше всего – покоем. Наконец волнение сменилось дремотой. Вскоре мои сновидения, на время прервавшись, снова вернулись ко мне, однако, приняв совсем иную окраску.
Мне снилось, будто я, печальный, но спокойный, проникнутый каким-то неведомым мне пленительным чувством, брожу по безмолвному лесу. Кругом ни души, – ничего, что могло бы напомнить об обыденной жизни. Это, конечно, был я, но наделенный красотою, изяществом и всем, о чем я мечтал наяву.
Усталый, я присел на пустынной поляне. Ко мне кто-то приблизился; незнакомые черты дышали грустью и добротой. Постепенно я стал узнавать это лицо… наконец передо мной оказалась моя дорогая еврейка. Она тоже была наделена всем, чем я желал ее наградить; казалось, ей было приятно смотреть на меня, и хоть она и молчала, взгляд ее говорил языком, который затрагивал самые нежные струны моего сердца. Я видел, как ее красивая головка склонилась надо мной, я почувствовал ее свежее дыхание и, наконец, рука ее очутилась в моей руке.
Волнение мое возрастало, мой сон мало-помалу стал неспокоен. Видения сделались неясными, неуловимыми, и среди множества мелькавших предо мною лиц, я различил лишь лицо дяди Тома: он держал мою руку, щупал мне пульс и, наклонившись, внимательно разглядывал меня сквозь очки.
О, каким ужасным показалось мне в это мгновение его лицо. Я люблю его, я очень люблю моего дядю Тома. Однако увидеть дядю вместо любимой девушки и вернуться из страны сладостных снов к холодной действительности! Этого более, чем достаточно, чтобы опротивели и жизнь, и даже дядюшка.
«Успокойся, Жюль, – сказал он, – я напал на след твоей болезни». И, пристально всматриваясь в меня, он листал при этом старый ин-кварто, видимо, в поисках лекарства, которое соответствовало бы симптомам
моего недуга.
«О я вовсе не болен, вы ошибаетесь, дядюшка! Плохо только то, что вы меня разбудили. Ах, я был так счастлив!
– Значит тебе было хорошо, ты был спокоен, счастлив?
– Да, я был на небесах! Но зачем вы меня разбудили?»
На лице моего дяди появилось выражение живой радости, смешанной с гордостью и удовлетворенным самолюбием ученого, и я услышал, как он сказал:
«Вот и хорошо! значит лекарство действует.
– Что вы со мной сделали? – спросил я у него.
– Узнаешь после. Вот здесь описан, твой случай: Гиппократ, страница 64, Гаагское издание [52]. А сейчас тебе необходим только покой!
– Но, дядюшка…
– Что, Жюль?»
Я не знал, как вызвать дядюшку на разговор о молодой еврейке, и в то же время не выдать моих чувств к ней. Я решил осторожно навести его на этот путь.
«Вы мне сказали, что завтра… – и я умолк.
– Что завтра?
– Она к вам придет.
– Кто она?»
Я испугался, что слишком много сказал. «Горячка…
– Горячка?»
Мои вопросы и ответы показались ему до крайности бессвязными и, пробормотав «он бредит», дядюшка удалился. Вскоре послышался стук подкатившей лесенки, и это было все, что напоминало мне о только что пережитом. Я делал невероятные усилия, чтобы заснуть и снова увидеть мой сон, но тщетно. Я не мог даже вызвать в воображении ту действительность, какой я довольствовался раньше. Сон все стер из памяти и ничего нельзя было сделать. Кругом стало пусто. И только мысль о завтрашнем утре помогла мне воскресить прежний образ молодой еврейки, являвшийся мне до моего сна. На всевозможные лады я представлял себе, как она придет к дяде, и беспрестанно думая, каким образом увидеть ее и познакомиться с ней, я составил до безрассудства смелый план.
Увести куда-нибудь дядюшку, встретить ее… поговорить с ней… Но о чем? Надобно знать, о чем с ней говорить – это главное условие выполнения моего плана. Я был в большом затруднении, впервые мне предстояло объясняться в любви. У меня не было других руководств, кроме двух-трех прочитанных романов, но в них, на мой взгляд, так замечательно говорилось о любви, что я не мог и мечтать о подобном совершенстве.
«О если бы я сумел открыть ей мое сердце! – думал я. – Мне кажется, что нет на свете девушки, которая не ответила бы на мое чувство». И я вскочил с постели, чтобы подготовиться к объяснению.
Я зажег свечу, сосредоточился на мгновение и, обратившись к стулу, который я поставил перед собой, начал так:
«Мадемуазель!»
Мадемуазель? Мне не понравилось это обращение. Ну, а как обратиться к ней иначе? Я не знал. По имени? Я не знал ее имени. Я решил, что надо как следует подумать… Я думал долго, но ничего не мог придумать, кроме «мадемуазель». Вот уже сразу и появилось затруднение.
А принадлежит ли она к тому кругу, где девиц обычно так величают? Да полно, разве она для меня такая же девица, как все? Мадемуазель! О нет, невозможно! Не достает только снять шляпу и представиться: «Честь имею…» и так далее. Обескураженный, я опустился на постель.
Раз десять я вновь принимался за свой монолог, но другого начала так и не сумел найти. Наконец, я решил вовсе убрать обращение и тем самым обойти первую трудность.
«Перед вами тот, – продолжал я пылко, – кто живет только вами, кто к вам пылает любовью, чье сердце клянется вечно…
Господи, боже мой! да это же получится четверостишие, того и гляди на крыльях прилетит подходящая рифма». В сильном смущении я снова сел на постель. «Как все-таки трудно выразить словами то, что чувствуешь! – с горечью думал я. – Что же со мной будет? Она станет смеяться надо мной, а еще, пожалуй, пожалеет меня за глупость, и тогда я погиб!» Мысль эта терзала меня, и я чуть было не отступился от моего плана.
Между тем самые разнообразные чувства теснили мою грудь точно в поисках выхода. Множество пылких фраз, возражений, уверений в беспорядке громоздились у меня в голове. Мучимый этим кошмаром, я совсем ослабел.
Чтобы найти какое-то облегчение, я встал и заходил по комнате, изредка роняя отрывистые фразы и слова:
…«Вы не знаете меня, но я живу только вами… только ваш образ… Зачем я пришел сюда?… Я хотел вас увидеть… Я хотел, даже рискуя навлечь на себя ваше неудовольствие, рассказать вам, что есть юноша, который думает только о вас… Зачем я пришел сюда? Я хотел сложить к вашим ногам мою любовь, мою судьбу, мою жизнь… Вы еврейка? Что из того! Вы еврейка, но я буду вас обожать; вы еврейка, но я буду всюду следовать за вами… О, моя дорогая! Где вы еще найдете человека, который будет любить вас, как я? Где вы еще найдете столь нежное и преданное сердце, способное дать вам счастье? Ах, если бы вы могли хоть наполовину разделить мои чувства, вы благословили бы день, когда увидели меня у ваших ног. Вы подарили бы мне надежду, что я не напрасно говорил с вами!»
Я замолчал и вздохнул свободнее. Я излил почти все, что накопилось у меня в душе. В пылу своих признаний я уже представил себе, как молодая девушка краснеет и волнуется, мне уже казалось, что мои слова доходят до ее сердца. Затем, приложив руку к своему сердцу, я прибавил: «О, сжальтесь над несчастным, не повергайте меня, не толкайте меня в бездну. Я могу жить только там, где вы! Ах!… Что это, черт побери? О, дядюшка, дядюшка!»-
Все погибло, погибло безвозвратно, и я чуть не заплакал горькими слезами. Моя страсть возвысила меня в собственных глазах; на некоторое время исчезло все, что отравляло мои мечты: неуверенность в себе, недовольство собой, вечные страхи. Я уже чувствовал себя почти равным моему божеству.
Когда я произнес последние слова признания, я снова приложил руку к сердцу, горевшему так сильно, что оно, казалось, прожигало мою кожу, как вдруг… Нет, я с меньшим отвращением дотронулся бы до холодной змеи, до мокрой жабы… Я оторвал чудовище от моей груди и отбросил его подальше от себя.
В эту минуту, невозмутимый как само Время, в комнату вошел дядя Том. В руке он держал пузырек, подмышкой – книгу. «Да будет проклят ваш Гиппократ! – закричал я в ярости. – Да будут прокляты ваши книги и все, кто… Что вы со мной сделали?… Вы дважды испортили лучшие минуты моей жизни! Чего еще вам надо? Вы пришли отравить меня?»
Ничуть не рассердившись на мою гневную тираду, дядя Том погрузился в свои умозаключения, цепочку которых он оборвал в прошлый раз. Снова убедившись, что я продолжаю бредить, он принял вид тонкого и зоркого наблюдателя. Не придавая значения смыслу моих слов, он стал пристально следить за мной. По моим жестам, срывающемуся голосу и горящим глазам он изучал характер и ход моей болезни, отмечая про себя ее малейшие симптомы, чтобы как можно скорее победить ее.
«Он сорвал пластырь! – прошептал дядя. – Жюль!
– Что, дядя?
– Ложись, мой дружок, ложись, Жюль! Сделай мне одолжение!»
Поразмыслив, я лег в постель; не мог же я доказать дяде, что я не безумец, не открыв ему мой секрет: ведь это разрушило бы мой план, нисколько не убедив его, что я в здравом уме.
«Вот я принес тебе питье. Выпей, дружок!» Я взял пузырек и, притворившись, будто пью из него, вылил лекарство в промежуток между стеной и кроватью. Дядюшка повязал мне голову своим платком, укрыл до самых глаз одеялом, задернул полог над кроватью, закрыл ставни и, вынув часы, сказал: «Сейчас три часа ночи, он должен спать до десяти утра; я приду к нему без четверти десять». И он оставил меня.
Изнемогая от усталости, я на несколько минут задремал. Но возбуждение мое было так велико, что я тотчас проснулся. Я вскочил и стал готовиться к выполнению моего плана. Я смастерил из простыни чучело, по возможности напоминавшее своими очертаниями мою фигуру, повязал ему голову дядюшкиным платком и укрыл одеялом. Затем я вновь задернул полог над кроватью, так как я твердо был уверен, что дядюшка, не отдернет его до десяти утра, как того требовал авторитет Гиппократа. Проделав все это, я подошел к окну.
На улице уже показались молочницы; привратник открыл двери больницы; ласточки принялись за работу. Утренний свет, прохлада, знакомые предметы – все это немного отрезвило меня. Моя затея уже не казалась мне столь заманчивой, и я заколебался. Однако, вспомнив свой сон, я подумал, что, отказавшись от моего замысла, я навсегда потеряю то, чего нет прекраснее на свете, и прежняя решимость вернулась ко мне.
Между тем время шло, послышался скрип дядюшкиного кресла. Я вынул часы: было без четверти десять. Я опрометью выбежал из комнаты, предоставив дяде остаться наедине с чучелом, пока я буду находиться в тиши библиотеки.
Я тихонько вошел в библиотеку и кинулся к окну. Глядя сквозь оконные стекла на тот конец улицы, где должна была появиться она, я почувствовал, что меня трясет лихорадка. К довершению этой беды, я заметил, что заготовленная речь почти вся вылетела у меня из головы. Стараясь удержать кое-какие клочки моего красноречия, я составил в уме нечто столь нелепое, что от волнения у меня перехватило дыхание. Было ясно: я пропал. В страшном испуге я принялся насвистывать, словно желая вдохнуть в себя бодрость. В эту минуту начали бить часы. У меня появилась надежда, что сегодня она не придет в назначенное время. Я принялся считать удары часов, и каждый из них заставлял себя ждать целую вечность. Наконец пробил десятый удар, и мне стало легче.
Мало-помалу я приходил в себя, как вдруг показалось голубенькое платье. Это была она!!! Сердце мое подпрыгнуло, речи моей и след простыл. Всеми силами души я желал лишь одного: чтобы она шла не сюда. В неописуемой тревоге я ожидал, пройдет ли она мимо моего дома, или же повернет и войдет в него. Я зорко следил за каждым ее шагом, и выводы, которые я извлекал из моих наблюдений, то успокаивали, то ужасали меня. Слабую надежду мне внушало лишь то, что она шла по другую сторону ручья.
Она перебралась через ручей! Я не мог следить за ней дальше из закрытого окна и потерял ее из виду. Но тотчас же я почувствовал, что она вошла в дом, и утратив всякое присутствие духа, я ринулся к двери, чтобы спастись бегством. Однако, услышав ее шаги в прихожей, отдававшиеся эхом в пустынном дворе, я сообразил, что бегу ей навстречу. Я остановился. Она была здесь… Когда звякнул колокольчик, в глазах у меня помутилось; я зашатался и сел, твердо решив не отпирать дверь.
В эту минуту дядюшкина кошка, выскочив из слухового окна, вспрыгнула на подоконник. Я задрожал всем телом, как будто внезапно отворилась дверь. Кошка узнала меня, и я в страхе ожидал, что она замяукает; она замяукала… Я не сомневался: тайна моего появления здесь немедленно будет открыта. Я опустил глаза и почувствовал, что краска заливает мне лицо. Колокольчик прозвенел еще раз и добил меня окончательно.
Я то вставал, то садился, потом снова вставал и не сводил глаз с колокольчика, с трепетом ожидая, что он вот-вот опять зазвенит. Я слушал внимательно, надеясь, что она уйдет. Но тут мой слух поразили другие звуки: то были шаги дяди Тома, который расхаживал по моей комнате. Больше всего на свете я боялся, что он обнаружит мой обман в присутствии молодой девицы, и в своей тревоге я предпочел скорее устремиться навстречу опасности, нежели дожидаться ее. Я тихонько пошел обратно и, сделав вид, будто выхожу из библиотеки, сначала кашлянул, потом твердым шагом приблизился к двери и отворил ее… В полусвете лестницы вырисовывались очертания ее грациозной фигуры.
«Г-н Том дома?» – спросила она.
Это были первые слова, которые я услышал из уст прекрасной еврейки. Они до сих пор еще звучат в моих ушах: столько прелести было для меня в ее голосе! Хотя она задала мне не слишком трудный вопрос, я ничего не ответил, – конечно, от смущения, а не намеренно. Я неловко прошел вперед в библиотеку, она последовала за мной.
Не оглядываясь, я направился к дядюшкиному письменному столу. Мне хотелось, чтобы он стоял в самом дальнем углу комнаты, так я боялся встретиться с ней взглядом. Наконец я посмотрел на нее. Она узнала меня и покраснела. Куда девалась моя речь? Умчалась за тридевять земель. Я молчал, покраснев еще сильнее, чем она; положение становилось невыносимым, и я начал так:
«Мадемуазель… – и остановился.
– Г-н Том… – подхватила она. – Если его нет дома, – стараясь преодолеть свое замешательство, продолжала она, – я приду в другой раз».
Слегка кивнув мне головой, она ушла, а я так оробел, что догадался пойти проводить ее, лишь когда она переступила через порог библиотеки. Она была смущена, и я тоже; когда мы в темной прихожей искали вместе выходную дверь, наши руки на мгновение встретились, и приятная дрожь пробежала по моему телу. Она вышла, и я остался один, один в целом свете.
Как только она удалилась, моя речь целиком вернулась ко мне. Я проклинал мою неловкость, глупость и застенчивость. Я еще не знал тогда, что с некоторыми женщинами неловкость и застенчивость говорят своим красноречивым языком, который труднее всего подделать. Вскоре, однако, вспомнив выражение ее лица, ее взгляд и смущение, я уже не так был недоволен собой. Я собирался снова занять свое место у окна, чтобы еще раз увидеть ее на улице, как вдруг услышал, что отворилась дверь. Я едва успел вскочить на дядину кровать и спрятаться за старым зеленым пологом.
«– Но, мое милое дитя, то, что вы мне говорите…
– Молодой человек, уверяю вас, господин Том!
– Молодой человек? Здесь! Ах, бесстыдник! А какой у него вид?
– У него вид… он не показался мне бесстыдником, сударь!
– А как же иначе назвать его?… подумать только! пробраться сюда…
– Быть может, это кто-нибудь из ваших знакомых?
– Кроме меня и моего племянника, здесь никого не могло быть.
– Я думаю все-таки, что это был он… – тихо сказала она, опустив глаза.
– Он? да я сию минуту оставил его внизу, в его комнате… А разве вы знаете моего племянника?»
Наступила пауза, показавшаяся мне вечностью.
«Вы краснеете, милое дитя! Поверьте: вы могли встретить не такого порядочного, не такого вежливого молодого человека… Но скажите, откуда вы его знаете?…
– Сударь… вы сказали, что он живет в комнате под вами. Я видела его несколько раз у окна… вот этот самый молодой человек и встретил меня здесь.
– Это невозможно, говорю вам. Да, конечно, вы видели моего племянника у окна: он всю свою жизнь проводит у окна. Но мой милый Жюль на этот раз ни при чем. Он не мог пробраться сюда, и я вам скажу почему. Вчера, около девяти вечера этот ветрогон взобрался на возвышение, которое он соорудил на столе, не пойму для какой цели, разве только он захотел выкинуть штуку, заглянув в больничную палату напротив (тут молодая девушка, смутившись еще больше, повернула голову в мою сторону, чтобы скрыть от дядюшки краску, залившую ее лицо). А потом я вдруг услышал страшный шум и треск! Я прибежал и увидел Жюля на полу в таком состоянии, что сразу уложил его в постель, он лежит еще и сейчас… Но позвольте, вот что я подозреваю. За молодой особой с вашей внешностью часто ходят по пятам молодые люди… Кто-нибудь из них, V наиболее дерзкий… вы меня понимаете… мог опередить вас. Не надо стыдиться, дочь моя, не надо стыдиться того, что вы так хороши собой… Ну оставим этот разговор, если он вас так смущает. В другой раз я буду лучше запирать дверь. Поговорим о другом. Вы принесли мою книгу! Что вы скажете об этом тексте? Ну хорошо! Положите книгу вот сюда и подождите минутку. Я хочу… подождите».
И он вошел в кабинет, смежный с библиотекой. Я задрожал, ибо этот кабинет, обычно запертый, сообщался с моей комнатой внутренней лестницей.
Я остался с ней наедине. Я был единственным свидетелем, видевшим ее в эти минуты, и мне казалось, что благодаря бесценному дару судьбы, я словно приобщился к ее тайне. В ее чертах, в ее позе, во всех ее движениях мне чудилось нечто подобное тому, что испытывал я сам. О полные загадочности минуты! О минуты блаженного покоя, когда сердце вновь обретает наяву то, что привиделось ему во сне!
Впервые я видел ее так близко, и я упивался ее очарованием. О почему я не могу обрисовать в этих строчках ее образ таким, каким он мне явился тогда. Мне казалось, что библиотека дяди Тома была чудесной рамкой, оттенявшей ее блистательную красоту. Мудрые книги на пыльных полках, запечатлевшие в себе вереницу веков, аромат старины, тишина ученых занятий, и среди всего этого – весенний цветок, полный свежести и жизни… Возможно ли это выразить словами?
Она довольно долго стояла, потом подошла к окну и села в дядюшкино кресло. Опершись щекой на свою прелестную ручку, она задумчиво и грустно смотрела на небо, и легкая улыбка мелькала у нее на губах. Потом она рассеянно взглянула на раскрытый фолиант, брошенный дядей на столе. Мало-помалу книга приковала ее внимание, и на ее лице, покрывшемся ярким румянцем, появилось выражение живого интереса. «Нашел!» – послышался голос дяди Тома. Она встала, но не отрывала глаз от книги, пока дядя не вошел в комнату.
«Вот она! Я с трудом ее нашел! Я дарю ее вам за вашу любовь к древнееврейскому языку. Другой экземпляр с более ценным для меня текстом я оставлю себе. А эта книга, в сафьяновом переплете, больше подходит к вашим нежным пальчикам. Возьмите ее себе и не забывайте доктора Тома!
– Вы очень добры, сударь! Я принимаю ваш прекрасный подарок и никогда вас не забуду, даже если бы не надеялась увидеться с вами еще раз.
– А когда вы придете ко мне, – сказал дядя, улыбаясь, – берегитесь племянников! Да, я совсем забыл о моем племянника… Прощайте… до свидания».
Он пошел проводить ее. Тотчас же фолиант, привлекший ее взор, очутился у меня в руках, но я трепетал, боясь, что дядюшка не даст мне времени скрыться. К счастью он оставил дверь в кабинет открытой. Я бросился туда. В мгновение ока книга была надежно спрятана, чучело оказалось под кроватью, а я, в ожидании моего доброго дядюшки Тома – в кровати.
«О, да ты уже встал! – сказал он, – в котором часу ты проснулся?
– Ровно в десять, дядюшка!»
На его лице выразилось полное удовлетворение. Он был очень рад моему выздоровлению, но еще больше тому, что оно принесло честь его науке. «Жюль, – произнес он торжественным тоном, – теперь я скажу тебе, чем ты был болен: гемицефалъгией! [53]
– Вы так думаете, дядюшка?
– Не думаю, а знаю, Жюль! И знаю точно, ибо ни на йоту не отступил от Гиппократа. Твое падение произвело сотрясение мозжечка и вызвало излияние внутренних секретов мозговой оболочки. А знаешь, в каком состоянии я тебя нашел? учащенный пульс, неподвижный взгляд и совершеннейший бред. Тут я применил…, пластырь…
– Ах, дядюшка, не говорите больше о нем и никому не рассказывайте!
– Пластырь вызвал легкую транссудацию и наступило улучшение. Однако бред продолжался, и тогда я прибегнул к микстуре.
– Да, дядюшка!
– А затем – спокойный сон.
– О, конечно, дядюшка, восхитительный сон!
– Сон, заранее предвиденный, предугаданный, предсказанный: от часу пополуночи до десяти утра. И вот теперь ты выздоравливаешь!
– Я уже выздоровел, дядюшка!
– Еще не совсем. Особенно надо остерегаться рецидива. Лежи спокойно, я тебе поставлю горчичник, а там мы посмотрим. Отдыхай и не работай сегодня. Обещаешь?
– Можете не сомневаться, дядюшка!»
Как только дядюшка вышел, я набросился на книгу и сразу натолкнулся на новое затруднение. В книге было две тысячи страниц, а я впопыхах забыл отметить одну страницу, единственную, которая могла мне быть интересна. Что делать? Перелистать всю эту гору! Там быть может скрывается лишь одна фраза, одно слово, которое ее тронуло. Как отыскать это слово среди миллионов других? Однако непобедимое любопытство толкало меня на поиски, словно от этого зависела моя судьба.
Я принялся за работу. О какая тарабарщина замелькала перед моими глазами! Но зато какая охота появилась у меня к ученым занятиям! Если бы меня увидел сейчас мой дядя, или хотя бы мой учитель! «Прилежный юноша! – заявил бы он мне, – пощадите себя, вы слишком усердно трудитесь!»
Это был сборник средневековых хроник, в которых рассказывалось о многих любовных и сказочных приключениях; там же приводились сведения о геральдике, разного рода статьи законов, всякие документы, одним словом, – пестрая смесь во вкусе моего дяди. Впрочем, я нашел там много такого, что можно было бы применить и к ней и ко мне, правда, не больше, чем ко всем остальным людям. Таким образом я добрался до двухсотой страницы.
Между тем заскрипело кресло, покатилась лесенка, в дядиной комнате происходило нечто небывалое. Очевидно, пока я предавался ученым занятиям, дядя попусту тратил время. Вдруг мне пришла в голову мысль… Я побежал наверх.
Так оно и было: дядя был в состоянии крайнего отчаяния, подобно львице, у которой… Он метался по комнате в поисках какой-то книги, обращаясь то к ящикам, то к столу, то взывая к небесам; в его спокойных, тихих владениях царил полный разгром.
«Меня ограбили! Жюль, меня ограбили!… Я погиб (он объяснил мне, в чем было дело). Это бесценная книга, редчайшая книга. Я уже был почти у цели; на той самой странице… но теперь мне не на что сослаться. О Либаний! Ты будешь торжествовать! [54]
– Быть не может! Надо непременно… но погодите… а на какой странице, дядя?
– Ах, да разве я помню? Три года заниматься дискуссией по поводу буллы Unigenitus [55] и потерпеть крушение почти достигнув цели!
– Булла? вы говорите…
– Unigenitus.
– Unigenitus! Правда, это ужасно! А что там такое на этой странице?
– Изложение буллы в таком варианте, какого больше нигде не найдешь!
– И это все?
– А ты считаешь, что этого мало! Я бы отдал все, что у меня есть, за одну эту страницу. Но я найду эту книгу: только один человек мог совершить такое преступление. Она должна мне сказать, кто этот негодяй, который ворует книги. Я иду.»
И мой добрый дядюшка поправил свой парик, взял в руку старую трость, надел треуголку и вышел. Я тотчас спустился вниз, все время тихо повторяя, чтобы не забыть: «Булла Unigenitus, булла Unigenitus».
«Булла Unigenitus, булла Unigenitus, – бормотал я, роясь в моей книге, – булла Unigenitus… А вот она, большими буквами». Но она была напечатана по латыни. Какое ужасное разочарование! С этой минуты я навсегда получил отвращение к латыни, хотя, по правде сказать, не очень любил ее и раньше. Заметив, однако, что булла начинается на середине страницы, я бросил взгляд на первую половину, и вот что я прочитал:
«Каким образом владения д'Ангривуа стали достоянием рода Шовэнов, благодаря браку мессира де Сентре с Генриеттой д'Антраг».
«Юный дворянин еще никогда не любил [56]. Но однажды, когда у него едва начал пробиваться пушок на подбородке, случилось ему увидеть во дворе замка Генриетту, и он не мог налюбоваться ею – так она была мила, так прелестно было ее лицо. Любовь сразила его, и с тех пор он денно и нощно думал только о ней. Но будучи неопытен в языке любви, он не знал, как ей открыться в этом. Ловкий и отважный среди юношей, он с ней становился робок и застенчив. Итак, влюбляясь все больше и больше, он как-то раз набрался храбрости и спрятался в горнице ее деда, через которую она должна была пройти. В руках он держал букет цветов – чудесный знак его пламенной любви, зажженной ее прекрасными очами. И пока ее не было, он с удивительным красноречием говорил с ней, изящно преподнося ей букет. Но как только Генриетта вошла в горницу, он поспешно бросил цветы под стол, а сам онемел и окаменел, словно виноватый слуга, застигнутый хозяином врасплох на месте преступления. Генриетта же, увидя рассыпавшийся букет, покраснела до корней волос, и стоя друг перед дружкой, оба алые, как полевые маки, не могли вымолвить ни слова. И так они стояли, покуда не вошел ее дед и не спросил: «Что вы здесь делаете?…» И т. д.
Я без конца читал и перечитывал эту страничку. Я был вне себя от восторга. Сравнивая наивные события, рассказанные в этой истории, с тем, что я прочитал на лице моей еврейки, я имел основание думать, что мои робость и неловкость не были ей противны; я также мог заключить из ее разговора с дядюшкой, что моя физиономия и мои занятия у окна не остались незамеченными ею. Итак, мы понимали друг друга; итак, мои надежды на успех были неизмеримо большими, чем я предполагал, и я мог свободно предаваться своей сердечной склонности, не опасаясь трудности первого шага, и того, что я ей совсем чужой. Первым делом я переписал дорогие для меня строчки; потом, чувствуя свою вину перед дядюшкой, которого я так сильно огорчил, я воспользовался его отсутствием и поставил книгу на полку в такое место, чтобы он подумал, будто сам ее туда засунул.
Я заперся у себя в комнате, чтобы без помех насладиться необычайно приятными для меня мыслями; я неустанно перебирал в уме одни и те же события, рассматривая их все с новой и новой стороны, пока, наконец, не утомился и стал думать не о том, что произошло, а о том, что будет дальше, ибо отныне единственной целью моей жизни стало соединить мою судьбу с ее судьбой.
Мне было восемнадцать лет. Я был студентом, не имел положения в обществе, а средствами к существованию был обязан лишь доброте моего дядюшки. Но эти трудности меня не пугали; в мыслях я легко расправлялся с ними, черпая мужество в силе первой любви. Честолюбие, самоотверженность, неясное желание славы – все это поднимало меня в собственных глазах, возвышало до уровня моей еврейки, и я получал ее руку и сердце, предлагая ей судьбу, достойную ее. Или же, сознавая, как я далек от столь блестящего будущего, я желал, чтобы она была бедна, никому не известна, всеми покинута, и в таком случае наш союз был бы для нее счастьем. Презрительная мина привратника, приходившая мне на память, становилась единственной моей надеждой.
Было воскресенье. Колокола призывали верующих к молитве, и равномерный церковный звон вселял мир в мою душу. Колокола стихли, и безмолвие улиц, побуждая к мечтаниям, уносило меня далеко от житейских тревог и волнений. Вскоре гармоничные звуки божественных песнопений и торжественной музыки органа неприметно слились с моими грезами, и я вообразил себя в толпе верующих; я наслаждался спокойным счастьем рядом с подругой, опустившей прекрасные ресницы на молитвенник; мы с ней вместе читали один и тот же псалом и, смешивая наши дыхания, разделяли блаженство на этой земле в ожидании блаженства в ином мире.
Как? Еврейка и в церкви!… Мысль, что это невозможно, не приходила мне в голову. Влюбленное сердце допускает в своих мечтах лишь то, к чему влекут его желания и воображение – эти нежные снисходительные друзья, которые никогда не нарушают его радости. Увы! Я давно уже вернулся на землю и шагаю по дороге жизни под строгим надсмотром здравого смысла и холодного рассудка; но никто из этих непреклонных наставников не подарил мне ни одного мгновения, которое можно было бы сравнить с восхитительными волнениями прошлого. Зачем они так быстротечны, зачем нельзя их вернуть?
Я не знал ни имени, ни дома, где жила та, что завладела всей моей жизнью. Все с большим нетерпением ожидал я понедельника. Но она не пришла; не пришла ни во вторник, ни в среду. Я узнал, что больной, за кем она ходила, два дня тому назад умер. В пятницу, потеряв терпение, я поднялся к дяде. В дверь постучался незнакомец и протянул ему пакет.
«Распечатай, Жюль!» – сказал мне дядя.
Я распечатал пакет. Там была книга. На внутренней стороне сафьянового переплета были написаны следующие слова:
«Если я умру, то прошу передать эту книгу г-ну Тому, от которого я ее получила».
И ниже:
«Г-н Том сделает мне одолжение, если отдаст эту книгу своему племяннику на память о той, кого он встретил в библиотеке».
«Если она умрет! – воскликнул я. – Ей умереть!
– Бедное дитя! – сказал дядя Том, – Что могло с ней случиться?
– Дядя, где она живет?
– Пойдем вместе, узнаем, что с ней».
Через минуту мы были на улице. Шел дождь. Кроме нас почти никого не было. На повороте улицы мы увидели толпу. Дядюшка замедлил шаг…
«Что это значит? – спросил я. – Не идем ли мы на…
– Бедный Жюль, мы пришли слишком поздно»…
То была похоронная процессия: два дня назад ее унесла черная оспа.
С этого дня я снова предался безделью. То было безделье, полное горечи и внутренней пустоты, ничтожных досугов, отвращения к миру, к людям, – даже к самой жизни, если бы не прелесть некоторых воспоминаний. Моим единственным товарищем и другом осталась маленькая книжка, и когда я перечитывал строчку, предназначенную мне, сердце мое сжималось от горя, пока слезы, струившиеся из моих глаз, не приносили мне некоторого облегчения.
Вторым моим другом был дядя Том. Я рассказал ему все; и когда я открыл ему мою хитрость, то нашел в его сердце лишь снисходительность и доброту. Тронутый моей печалью, он разделил ее со мной, хоть и не совсем ее понимал. По вечерам, видя как я мрачен, он тихо придвигал ко мне свой стул, и мы молча сидели, занятые одною и тою же мыслью, и время от времени он простодушно повторял: «Такая умница, такая красивая, такая молодая!» И при свете камина я замечал слезы на его поредевших ресницах.
Наконец, на помощь мне пришло время! Оно принесло мне покой и другие радости, но те, что были, уже никогда не возвращались: я похоронил свою юность.
III. Генриетта [57]
Каким верным бывает сердце, когда оно еще молодо и чисто! Как оно нежно и искренне! Как я любил эту девушку, которую видел только мельком, и тотчас же потерял! Какое ангельское видение является предо мной, когда я вспоминаю об этом хрупком создании, так дивно сочетавшем в себе грацию, невинность и красоту.
Мысль о смерти приходит не скоро. В начале жизни это слово лишено содержания. Детям кажется, что все кругом родилось, расцвело и возникло только вчера; юношам кажется, что все исполнено силы, молодости, жизни, бьющей через край; правда, некоторые люди исчезают из их глаз, но не умирают… умереть! Это значит навсегда утратить радость, не видеть больше благодатных полей, неба! Утратить даже мысль об этом, мысль, таящую в себе столько блестящих надежд, хоть порою и призрачных, но таких близких и живых.
Умереть! Это значит видеть, как твое тело, налитое силой, согретое жизнью, напоенное алой кровью, струящейся в жилах, начинает– слабеть, холодеть, покрываться ужасающей бледностью.
Проникнуть внутрь земли, приподнять погребальный покров, бросить взгляд на разложившуюся плоть, на рассыпавшиеся в прах кости… Старцам знакомы такие картины, они отгоняют их от себя; но юношам они даже не приходят в голову.
Он потерял ту, которую любил; он знает, что никогда ее не увидит; он встречает похоронную процессию; он знает, что любимая здесь, под этой гробовой доской, но это еще она, она ничуть не изменилась; она, как всегда, прекрасна и чиста, она чарует своей стыдливой улыбкой, своим робким взором, своим волнующим голосом.
Он потерял ту, которую любил; сердце его сжимается и содрогается в бурных рыданиях; он ищет, он зовет ту, которой лишился; он говорит с ней и, наделив ее тень своей жизнью, Согрев ее своей любовью, он видит ее перед собою… это еще она, она ничуть не изменилась, она, как всегда, прекрасна и чиста, она чарует своей стыдливой улыбкой, своим робким взором, своим волнующим голосом.
Он потерял ту, которую любил; нет, он с ней лишь расстался, она где-то в другом месте, и это место украшено ее присутствием; оно
освящено ее шагами, озарено ее очами [58]
Там все сияет красотой и нежностью, залито мягким светом, исполнено целомудренной тайны…
И все же там, где она, – царство ночи, холода, сырости, и смерть со своими гнусными приспешниками делает свое дело.
Мысль о смерти приходит не скоро. Но, проникнув однажды в сознание человека, уже не покидает его. До этого будущим была для него жизнь; теперь все его планы завершаются смертью. Теперь смерть вмешивается во все его дела; он думает о ней, когда наполняет верном свои амбары; он совещается с ней, когда покупает имение; она сопровождает его, когда он заключает договор на аренду; она запирается вместе с ним в уединенном кабинете и вместе с ним ставит свою подпись на завещании.
Юность великодушна, чувствительна, смела… а старики говорят, что она расточительна, легкомысленна, дерзка.
Старость бережлива, благоразумна, осторожна… а юноши говорят, что она скупа, себялюбива, труслива.
Но зачем же они судят друг друга? И как могут они друг друга судить? Ведь у них нет общего мерила. Одни принимают свои решения, располагая жить, другие – собираясь умереть.
Трудно приходится человеку, когда изменяются его взгляды на мир. Эти необъятные, некогда столь далекие воздушные дали теперь словно бы сблизились. Эти волшебные блистающие облака стали непроницаемыми и неподвижными; небеса, усеянные золотом, означают лишь то, что короткие сумерки сменились ночью. О как преобразилось пребывание человека на земле! Как мало смысла он находит в том, что делал когда-то! Как он понимает теперь своего задумчивого отца и строгого деда, когда он по вечерам уходит оттуда, где начинаются игрища!
Он становится беспокойным. Непривычная мысль о смерти тревожит его душу, будит воспоминания о стольких речах и поступках; лишь теперь постигает он их мрачный смысл или же утешительное очарование.
Как-то раз в ранней юности, в один из воскресных дней, он увидел в беседке, увитой виноградными листьями, пирующую компанию друзей. Они славили жизнь и издевались над смертью. Они пили и смеялись, празднуя быстротечные мгновения радости, и песня, доносившаяся из беседки, весело взлетала ввысь:
Ждет нас темная могила – смертен каждый человек.
Попадешь туда, друг милый, и останешься навек.
А раз так – грустить не станем: как умрем – не все ль равно?
Будем пить и веселиться, и да здравствует вино!
А коль смерть в кабак заглянет, мы безносой скажем: «Стой!»
Вот допьем свою бутылку и отправимся с тобой.
Из подвальчика в могилу путь и прям, и недалек.
А пока, друзья, за кружку – пусть один, да наш денек!»
И хор подхватывал мужественную и залихватскую мелодию:
А коль смерть в кабак заглянет, мы безносой скажем: «Стой!
Вот допьем свою бутылку и отправимся с тобой.
Из подвальчика в могилу путь и прям, и недалек.
А пока, друзья, за кружку – пусть один, да наш денек!»
В другой раз, задолго до того дня, он увидел, как немощный старец, согнувшись под тяжестью труда, обрабатывал клочок каменистой земли. Под палящими лучами солнца, он вскапывал бесплодную почву. Пот ручьями лился с его лысого лба, кирка дрожала в его иссохших руках.
В это время вдоль ограды проезжал всадник. Заметив старика, он придержал своего коня. «Тебе, верно, очень тяжело, дружище?» – спросил он. Старик, остановившись, знаком показал, что ему тяжело, но тотчас же снова взялся за кирку. «Чтобы попасть на небо, – сказал он, – надо иметь терпение».
Далекие, но какие яркие воспоминания! И в каждом из них таится свой особый росток. Какому же из них было суждено распуститься?…
Но вечно ли длится ночь, наступившая после коротких сумерек? О, когда так, то чокнемся, веселые друзья! Вместе с вами я готов славить жизнь и смеяться над безносой… Пока я жив, мне все подвластно: честь, добродетель, человечность, богатство. Ибо мой бог – это я; моя вечность – мой единственный день; мою долю счастья я вырву у других, мое счастье в том, что может усладить Мое тело, ублажить мою плоть. Я честен, когда я силен, богат и обласкан судьбою; но я честен и тогда, когда я слаб – и хитрю, когда я беден – и ворую чужое добро, когда я обездолен – и совершаю убийство в ночи ради моей доли наследства, ибо ночь моя близится, и я имею право, как и все, на радости жизни.
…А коль смерть в кабак заглянет, мы безносой скажем: «Стой!»
Веселая песенка, ты мне кажешься такою печальной! Ты напоминаешь плодоносную почву, под которой скрывается изъеденный червями скелет!…
А что, если ночь, наступившая после коротких сумерек, проходит? если ночь – это лишь плотная завеса, за которой прячется сияющее беспредельное небо?…
О тогда, старик, позволь мне приблизиться к тебе, твое рубище манит меня, я хочу идти твоей дорогой. Как спокойно у меня на душе, как прояснились мои мысли! У нас с тобой одна общая цель, один бог, одна вечность. Пойдем же, брат мой, меня трогает твоя нищета, мое золото обременит меня, если я не разделю его с тобой. Страдание и смирение, богатство и милосердие уже не пустые слова, а средства исцеления, путь к истинной жизни.
Итак, зло есть зло; а путь добра мы вольны избирать и не сходить с него. Правосудие свято, человеколюбие благословенно; у слабого есть свои права, у сильного свои цепи. Могущественный человек или убогий – оба жалки, если они совершили преступление… Чувственные утехи, наслаждения, богатство, у вас есть свои уродливые стороны, и за них надо расплачиваться. Лишения, горести, тревоги, у вас есть свои добрые стороны, и они приносят утешения. Смерть! я не боюсь и не презираю тебя; только бы я был готов к тому, чтобы увидеть безбрежные дали, которые ты мне откроешь!
Старик! Ты мне кажешься таким здоровым, богатым, дарующим утешение! Ты похож на развалины, где в потаенных местах скрываются сокровища.
Так в зависимости от взгляда на жизнь меняется сущность вещей. В ту значительную для человека минуту, когда им овладевает всепоглощающая мысль о смерти, перед ним открываются две разные дороги.
Если бы человек был существом чисто логическим, то можно было бы увидеть, как он, подчиняясь властной роковой необходимости, начинает шагать по одной из этих дорог – от логической посылки до логического следствия. К счастью, человек, независимо от всякой доктрины, ценит порядок, справедливость, добро; однажды вкусив добродетели, он неотступно влечется к ней. Однако, хоть он и любит рассуждать, он слаб, нерешителен, терзается страстями; поглощенный насущными нуждами, он не имеет ни сил, ни досуга, чтобы стать либо злодеем, либо великим человеком… Все-таки, следите за толпой, наблюдайте за теми, кто из нее выделился, чтобы стать ее благодетелем или же бичом – вы встретите и тех и других среди самых решительных, самых убежденных людей и увидите, как одни, не впадая в гордыню, идут дорогой добродетели, а другие, не зная угрызений совести, идут дорогой преступлений.
Все же моя милая песенка, я не осуждаю тебя. В тебе не было ничего дурного: ведь и пить хорошо, и петь хорошо. От радости ширится душа. И когда при звоне бокалов из беседки, увитой виноградными лозами, удаляются степенные и суровые люди, ты взлетаешь на крыльях веселья и шалости.
И твоя ли в том вина, что твой задорный припев, доносившийся из густой зеленой листвы, поразил слух юноши, который поднимался со своим дядюшкой по косогору?
Мы возвращались с прогулки. Мой дядя, хоть сам не брал в рот и капли вина, любил смотреть, как добрые люди, пропуская стаканчик, забывают о трудах и горестях рабочей недели. Не в его привычках было принимать участие в этих пирушках, но он радовался чужому веселью, и добрая улыбка освещала его лицо.
В тот воскресный вечер мы прохаживались с ним в окрестностях города, – но не в местах общественных гуляний и не в уединенных уголках, а там, где в тени беседок отдыхали простые люди со своими семьями.
Я и сейчас там бываю, может быть потому, что и сам остался человеком из народа, а может быть и потому, что меня влечет туда мое искусство живописца.
Вот я и сообщил тебе две новости, читатель! Первая произведет, на тебя, – кто бы ты ни был, – дурное впечатление, а вторая удивит, если ты еще не догадался, читая мою историю, что Остаде [59] и Теньерс [60] должны были привлекать меня больше, чем Гроций и Пуффендорф. Но я разделю свое сообщение на две части и о каждой поговорю особо.
А ты еще не забыл о ростке тщеславия, который прячется и в твоей и в моей голове? Я позволю себе напомнить о нем. Так знай же: никто не признается в своем простом происхождении, никто не бывает им доволен, никто не ищет себе друзей среди народа. А я, разве не стал я в некотором роде твоим другом? И кем бы ты ни был, в твоих устах человек из народа – это тот, кто занимает более низкую ступень общественной лестницы, чем та, которую занимаешь ты. Конечно, ты не причисляешь себя к таким людям, и за исключением случаев, когда твоему самолюбию это может польстить (опять тот же росток), ты не станешь гордиться, что вышел из народа, хотя бы это в самом деле было так. Знай же это!
Правда, когда твой росток, задетый заносчивостью какой-нибудь важной особы, пожелает ответить ей тем же, может случиться, что в это мгновение ты сочтешь нужным похвалиться своей принадлежностью к народу, хотя бы это и было не так. Однако эта мысль мелькнет у тебя лишь на мгновение, и ты захочешь только сказать, что житейская мудрость и достойная манера держаться присущи скорее людям из народа, чем важной особе, почитающей их неизмеримо ниже себя!
Опять-таки, когда твой росток захочет увидеть тебя председателем клуба, душою восстания, главою партии, редактором популярного газетного листка, тебе остается только одно: гордиться, что ты человек из народа, что ты вышел из недр народа, что ты хочешь умереть на груди у народа и, если возможно, отдать жизнь за народ. Но твои белые перчатки, твой изящный костюм, твое свежее белье, твоя тросточка, твой лорнет, без которого ты не можешь обойтись, свидетельствуют против твоих уверений. Ты называешь себя сыном народа, но ты оскорбился бы, если бы тебя поймали на слове [61].
Как видишь, исключения подтверждают правила.
Итак, я как был, так и остался человеком из народа. Я стараюсь ни хвалиться своим происхождением, ни стыдиться его, хотя это нелегко.
Перехожу ко второй части моего сообщения. Мой дядюшка Том был весьма предубежден против звания художника. Он считал, что занятия живописью недостойны мыслящего существа, и уж совершенно непригодны, чтобы дать возможность этому существу есть и пить, а главное – жениться. Всего более странным было то, что презирая звание художника, он чтил искусство, поскольку оно входит в область науки и служит предметом исследований и мемуаров. Дядюшка сам написал два тома, посвященные греческой глиптике [62].
Но меня мало трогала греческая глиптика. Я был еще очень юн, и пленявшая меня своей таинственной прелестью красота – свежая зелень лесов, синева горных вершин, благородство человеческих лиц, грация женщин, серебряные бороды стариков – казалась мне еще более волнующей и живой, когда я видел ее воспроизведение на бумаге или на полотне. Множество неумелых набросков, рассеянных на страницах моих тетрадей и книг, говорили о том, с какой неизъяснимой радостью я сам занимался этим. Я и сейчас вспоминаю, как в долгие часы ученья я с наслаждением царапал пером обворожительные картинки, навеянные мне плохо понятыми или совсем не понятыми стихами Вергилия. Я рисовал Ди-дону [63]; я рисовал Ярбу [64]; я рисовал даже Венеру [65],
Virginis os habitumque gerens et virginis arma
Spartanae: vel qualis equos Threissa fatigat
Harpalyce, volucremque gufa praevertitur Eurum.
Namque humeris de more habilem suspenderat arcum
Venatrix, dederatque comam diffundere ventis,
Nuda genu, nodoque sinus collecta f luentes. [66]
Сначала дядя Том улыбался, глядя на мое маранье, но потом он уже перестал поощрять мою склонность, отвлекавшую меня от серьезных занятий. Тем не менее, когда он по воскресеньям брал меня с собой на загородную прогулку, он, сам того не зная, давал пищу той самой склонности, которую хотел искоренить. Под сенью густой листвы беседок я вновь находил чудесную игру света и тени, оживленные красочные группы людей и эти лица, с таким разнообразием отражавшие удовольствие, покой, опьянение, привычные заботы, детскую веселость и стыдливую сдержанность. Я, как и дядя, тоже любил эти прогулки, но мы искали в них не одни и те же радости. Однако, когда в моих тетрадях лица Ярбы и Дидоны постепенно стали сменяться более обыкновенными, но зато более живыми физиономиями, прогулки эти прекратились.
Тогда мой добрый дядюшка наперекор своим привычкам и несмотря на свой возраст, стал уводить меня из города в самые далекие места. Иногда мы забирались туда, где под скалистыми склонами горы Салев змеится по зеленой равнине река Арва, омывая пустынные островки и отражая в своих водах нежный свет заходящего солнца. С того места, где мы отдыхали, нам была видна старая барка, перевозившая на другой берег деревенских жителей; а еще дальше виднелась длинная вереница коров, которые переходили реку вброд, перебираясь с островков, где они паслись, на сушу. За ними следовал пастух верхом на старой кобылице, с двумя ребятишками, сидевшими у него за спиной. Постепенно мычание, доносившееся до нас, становилось еле слышным, и длинная вереница коров терялась в голубоватых сумерках.
Эти зрелища восхищали меня. Я уходил оттуда с взволнованным сердцем, с душой, переполненной восторгом, томимый желанием поскорее перенести на бумагу что-нибудь из увиденных мною чудес. Возвратившись домой, я употреблял на это занятие целый вечер, и, подчиняясь сладостной, вечно возрождающейся иллюзии, украшал мои бесформенные рисунки всеми блестящими сочетаниями красок, переполнявшими мое воображение, и я трепетал, охваченный самой невинной, но и самой живой радостью.
Хотя мой добрый дядюшка писал о глиптике и знал на память произведения Фидия [67] и три манеры Рафаэля, он мало понимал в искусстве рисунка и живописи. Он расхваливал прекрасную эпоху Ренессанса, но вкусы его склонялись к медальонам Лепранса и пасторалям Буше [68], которыми он украсил свою библиотеку.
Однако над его постелью висела картина в источенной червями рамочке, которую мы с ним любили больше всех других картин, хотя и по причинам совершенно разным: он питал к ней слабость за то, что, написанная в дорафаэлевские времена, она бросала яркий свет на вопрос о появлении масляной живописи, я же был от нее без ума потому, что именно она открыла мне таинственную власть прекрасного.
Это был образ мадонны с младенцем Иисусом на руках. Золотой ореол окружал целомудренный лоб Марии; ее волосы падали ей на плечи, голубая туника с широкими рукавами позволяла разглядеть в ее позе и во всей ее осанке наивную грацию и нежность молодой матери. Эта картина, очень простая по композиции, отмеченная глубокой печатью набожного века раннего Ренессанса, покоряла меня своим непобедимым очарованием. Все мое восхищение, моя вера и любовь принадлежали юной мадонне. Когда я поднимался к дядюшке, я бросал на нее мой первый и мой последний взгляд.
Тем не менее дядя, которому казалось, что подобное увлечение картиной несовместимо с серьезным изучением права, снял ее со стены и куда-то убрал.
Изучение права от этого не стало успешнее; у меня не было к нему никакого интереса, а с тех пор, как я потерял мою еврейку, я совсем перестал работать. Во мне не осталось ни тени честолюбия, ничто меня не увлекало. Я забросил карандаши и книги, кроме одной, которую не выпускал из рук. Так проходили недели и месяцы, мой бедный дядюшка очень огорчался, но я не слыхал от него ни слова упрека.
Однажды я вошел к нему и по обыкновению уселся рядом с его письменным столом. Он сидел, обложившись книгами, и выписывал какую-то цитату. Я заметил, что у него дрожала рука; в этот день ее движения были особенно неуверенными, а буквы, которые он выводил, – нечеткими. Все более ощутимые признаки незаметно приближавшейся к нему старости вызвали у меня грусть, уже становившуюся привычной, и за неимением другого предмета мои мысли обратились в эту сторону.
Ведь дядя, на которого я смотрел, был моим провидением, и сколько я себя помнил, кроме него у меня не было в жизни опоры, и никто кроме него не дарил меня своей отеческой привязанностью. Это нетрудно заключить из моего предыдущего рассказа; но, если кто-нибудь уже заметил, что я еще не посвятил моему доброму дяде ни единой странички, которая дала бы возможность поближе его узнать, то надеюсь, меня извинят, когда я доставлю себе удовольствие поговорить о нем сейчас.
Мой дядя Том известен среди ученых, особенно среди тех, кто занимается греческой глиптикой и буллой Unigenitus; имя его значится в каталогах публичных библиотек; труды его занимают место на особых книжных полках. Наше семейство, вышедшее из Германии, обосновалось в Женеве в прошлом веке; около 1720 года в этом городе появился на свет и мой дядя – в старом доме, расположенном по соседству с бывшим монастырем Пюи-Сен-Пьер, на котором еще и теперь сохранилась угловая башня. Вот и все, что я знаю о дядиных предках и о первых годах его жизни. Я предполагаю, что, закончив курс учения и достигнув академических степеней, он посвятил себя науке и безбрачию и вскоре поселился в доме французского благотворительного общества – тоже бывшем монастыре, где и завершил свой долгий жизненный путь.
Моего дядю, проводившего жизнь среди книг и не имевшего никаких связей с городом, известного отдельным иностранным эрудитам и главным образом в Германии, почти никто не знал в его собственном квартале. В его жилище никогда не было слышно шума, его привычки никогда не нарушались, его старинная манера одеваться никогда не менялась. Поэтому, подобно всему, что однообразно и неизменно одинаково, – как дома, как дорожные столбы, – его видели, но не замечали. Правда, раза два или три меня останавливали на улице и спрашивали, кто этот старик; но то были иностранцы, пораженные его осанкой, или же костюмом, разительно отличавшим его от прочих прохожих. «Это мой дядя!» – отвечал я, гордясь их любопытством.
Подобный образ жизни и подобные вкусы порождали известные умственные привычки. Если мой дядя, человек науки, чуждался общества, то, с другой стороны, полный веры в знание, он черпал в книгах свои теории и мнения, проявляя при этом выборе не сомнительное беспристрастие философа, но спокойствие разума, который далек от страстей и увлечений света, а потому не спешит с заключениями и не имеет причин предпочитать какое-либо из них. Ему были известны все дерзания философской мысли; он с неменьшим усердием обсуждал и самые острые теологические вопросы; однако трудно было отгадать, каких религиозных взглядов придерживался в сущности он сам. Что касается вопросов морали, то изучая их, он также проявлял свойственную ему широкую эрудицию, но скорее затем, чтобы только знакомиться с ними, а не сравнивать их между собой. Таким образом было столь же трудно распознать, какими моральными принципами руководился он сам в своем поведении. В области верований, как и в области принципов ничто не удивляло его и не раздражало; и если убеждения его не были твердыми, зато терпимость его была безгранична.
Портрет, который я здесь набросал, наверное, лишит дядю расположения многих моих читателей, а может быть, и уважения. Меня это огорчает, тем более, что из-за этого и мои дружеские чувства к ним также ослабеют. По правде говоря, если бы дело шло только о том, хорош или дурен сам по себе тот род скептицизма, который я приписываю моему дяде, я бы, возможно, и смог согласиться с моими читателями. Но я отступаюсь от них, как только они, осуждая доктрину, лишают симпатии и уважения доброго и честного человека, который ее исповедует.
Впрочем, мои читатели заслуживают снисхождения, ибо их взгляды берут начало в почтенном источнике. Несомненно, большинство людей, – я имею в виду тех, кто делает честь роду человеческому, – нередко бывает вынуждено на собственном опыте признать, сколь недостаточно одних добрых наклонностей, чтобы всегда идти по пути добра, и как часто они терпят поражение, вступая в борьбу с наклонностями менее добрыми. Отсюда и убежденность в необходимости принципов и верований, этих могучих руководителей человека, единственно способных обеспечить победу добру. Отсюда и недоверие к тем, кто не признает подобных ручательств.
Ведь именно в этой убежденности, которую я в сущности разделяю, я нахожу в некотором роде ключ к характеру моего дяди и к противоречиям, какие на первый взгляд можно усмотреть между его воззрениями и жизнью. Этот человек был от природы так честен, так добр и благожелателен, что он никогда, может быть, не чувствовал, подобно упомянутым мною читателям, необходимости в руководителях, указывающих ему путь к добру, и еще менее – удерживающих его от совершения зла. Врожденная порядочность уберегла его от какой-либо распущенности; наивная робость и одинокая жизнь сохранили в нем старинную простоту; в то же время его сердце, скорее человеколюбивое, чем чувствительное, скорее великодушное, чем пылкое, не иссушенное разочарованиями и обманом, сохранило юношескую свежесть, проявлявшуюся во всех его чувствах и поступках. И как это бывает, когда добродетель дается без усилий, в нем не было ни гордости, ни холодности; истинная скромность, искренняя доброта и особое очарование невинности украшали этого прекрасного старика.
Итак, несмотря на более или менее странные и противоречивые убеждения, которые бродили в его голове, иногда уживаясь друг с другом, а иногда вступая между собою в борьбу, вопреки принципам морали или поведения, которые могли логически проистекать из этих убеждений, его образ жизни носил печать строжайшей честности и неподдельной доброты. Он проводил неделю в кропотливых разысканиях, занимавших целиком его время, зато воскресенье посвящал пристойному и спокойному отдыху. С утра старый цирюльник, его сверстник, сбривал ему бороду и приводил в порядок его парик; затем, надев новое, хотя и старомодного покроя платье каштанового цвета, он отправлялся в церковь своего прихода, опираясь на трость с золотым набалдашником и держа под мышкой аккуратно переплетенный в шагреневую кожу молитвенник с серебряными застежками. Усевшись на свое обычное место, дядя внимательно, стараясь не пропустить ни одного слова, выслушивал проповедь священника и, нет сомнения, никто с таким простодушием не извлекал для себя уроки из нее. Он вторил своим надтреснутым голосом церковному хору; затем, опустив в кружку для пожертвований свое щедрое и всегда неизменное даяние, он возвращался домой. Мы вместе обедали, а вечер посвящали мирным прогулкам, о которых я уже говорил.
Эти штрихи, рисующие лишь одну из дядиных привычек, дают достаточное представление о полной достоинства простоте, присущей всему укладу его уединенной жизни; но никакой мерой нельзя измерить доброту его столь же простого сердца, и мне очень трудно описать ее, сохранив все ее обаяние и не рискуя выдать за добродетель то, что было его натурой, смыслом его существования.
Надо ли упомянуть, что сделавшись моим опекуном после смерти моих родителей, оставивших не совсем упорядоченное состояние, он ни разу не задумался над тем, что затрачивать на меня собственные скромные средства вовсе не было его прямою обязанностью? Надо ли еще прибавить, что ни на минуту ему не приходило в голову спросить себя, имею ли я право на подобные жертвы с его стороны, всегда ли я заслуживаю их, слушаюсь ли я его наставлений, признателен ли я ему за его благодеяния? Некоторые смогут увидеть во всем этом лишь исполнение известного долга, и поэтому, быть может, дядюшкина доброта сказывалась заметнее всего в менее значительных поступках.
Таково мое мнение. Вот почему я сожалею, что старая служанка, которая тридцать пять лет вела маленькое хозяйство моего дяди, не взялась за перо вместо меня. Не столь немощный, как она, он считал, что проще ему самому заменять ее, когда она не могла справиться со своей работой, чем найти ей преемницу; и вместо того, чтобы досадовать, он обычно ободрял ее веселыми и ласковыми словами. Правда, он порой ссорился с нею, но это случалось лишь когда она не слушалась его предписаний; так, тираня ее Гиппократом, мой славный дядюшка как бы менялся с ней ролями и становился ее слугою. В последние месяцы жизни этой женщины он подарил ей свое любимое вращающееся кресло; и каждый день после того, как мы вместе с ним переносили ее в это кресло, я видел, как он сам перестилал постель своей старой служанки, вызывая при этом улыбку на ее бескровных губах.
Как-то вечером, когда она испытывала особенно жестокие муки, дядя, с величайшей обстоятельностью расспросив бедную женщину о ее состоянии, справился со своей книгой и, сочинив чудодейственное лекарство, пошел к аптекарю, чтобы тот у него на глазах приготовил это снадобье. Дядя что-то долго не возвращался. Маргарита позвала меня, чтобы поделиться со мною своей тревогой. Я поспешно оделся и побежал к аптекарю самым коротким путем. Оказалось, что дядя ушел от него за несколько минут до моего прихода. Успокоенный этим сообщением, я зашагал по улице старого города, где должен был пройти и дядя.
Я прошел уже половину пути, круто спускающегося под гору, как вдруг невдалеке заметил одинокую фигуру, по чьим движениям сначала не узнал моего дядю. Он с большим усилием тащил какой-то тяжелый предмет и раза два опускал его на землю, по-видимому, для того, чтобы передохнуть. Добравшись до конца улицы, он поставил свою поклажу в угол, образованный выступами двух домов, и дотронулся до нее палкой, чтобы убедиться, что она не скатится на дорогу.
Тут я узнал дядю. Он крайне удивился, увидев меня. Когда я объяснил ему, почему я здесь очутился, он сказал: «Я бы уже был дома, если бы не этот огромный булыжник, о который я очень больно ушибся». И, прихрамывая, он ускорил свой шаг.
Подобный штрих, как мне кажется, верно рисует этого благородного человека. Хромая и торопясь, старик в одиночку отнес тяжелый камень в такое место, где он уже никому не мог повредить. Но именно это обстоятельство дядя бы забыл, если бы потом вспоминал этот случай.
Теперь можно легче понять, почему я в тот день с такой грустью смотрел как дрожала его рука. Еще один знак, который я вместе с другими знаками – возрастающей воздержанностью в пище, все более короткими прогулками, сонливостью, с которой он усиленно боролся по воскресеньям в церкви – объяснял все той же причиной.
Но в то время как я предавался этим грустным мыслям, мой взгляд встретил мадонну… Она возвратилась на свое место. Я был удивлен, потому что думал, что дядя продал ее некоему еврею, который давно хотел купить эту картину. Я машинально встал, чтобы на нее посмотреть.
«Эта мадонна…» – сказал дядя. И тут голос его дрогнул от волнения.
Единственное, чему дядя косвенным образом сопротивлялся, – а каким именно, читатель уже видел, – это моей склонности к искусству. Только неоценимое значение, какое он придавал тому, чтобы последний отпрыск его семьи вступил на славное поприще науки, могло побудить его применить приемы, которые, при всей их невинности, бесконечно дорого стоили его прямой и доброй натуре; и, несомненно, он упрекал себя в жестокости, убрав с глаз моих мадонну. Немного же надо было, чтобы смущение и стыд взволновали его простую и ясную душу.
«Эту мадонну, – сказал дядя, – я убрал отсюда по соображениям… Я не должен был ее убирать… Я тебе ее дарю. Отнеси ее к себе».
Он говорил, и к нему мало-помалу возвращалось обычное спокойствие. Я же опечаленный словами сожаления, сопровождавшими его щедрый дар, в свою очередь почувствовал себя смущенным и взволнованным.
«Но за то, – продолжал он, улыбаясь, – ты мне вернешь мои книги. Мой Гроций у тебя скучает… мой Пуффендорф дремлет. Старуха мне говорила, что пауки протянули между ними свою паутину… В конце концов пусть каждый следует своим путем…
Конечно, юриспруденция – почтенное занятие! Ну и что же? В занятиях искусством тоже есть свои преимущества… Рисуешь красоты природы, набрасываешь разные сценки, создаешь себе имя… От этого не разбогатеешь; но, в конце концов, скромно прожить можно… Экономить, иметь кое-какие заработки, небольшую помощь… Скоро, когда меня не будет, мое маленькое состояние…»
Тут, не в силах сдержать слезы, я разрыдался, предавшись горести, вызванной этими словами.
Дядя умолк, но ошибочно поняв причину моих слез, сначала и не пытался меня утешить; однако после некоторого молчания, приблизившись ко мне, он сказал:
«Такая умная девушка!… Такая красивая… «Такая молодая!
– Я плачу не о ней, добрый дядюшка! Вы говорите о таких грустных вещах… Что станет со мной, когда вас больше не будет?»
Эти слова, выведя дядю из заблуждения, так облегчили его душу, что к нему сразу вернулась его обычная веселость.
«О, мой славный Жюль, так ты обо мне плачешь? Ну хорошо, хорошо! Об этом и не стоит говорить, дитя мое, мы еще поживем… в восемьдесят четыре года знаешь как это делается… А потом у меня есть мой Гиппократ… Не надо плакать, дитя мое! Речь идет об изящных искусствах…, больше ни о чем… да еще о твоей судьбе. Видишь ли, годы идут, как у меня, так и у тебя… Ты не хочешь заниматься правом? Можно и так! Ну, что ж, займись искусством… Ведь верно, надо любить свое дело. Ты возьмешь мадонну; мы найдем тебе мастерскую… Ты начнешь учиться здесь, а закончишь в Риме. Так будет лучше всего. Хуже всего прозябать. А когда имеешь цель перед собою, работаешь, двигаешься вперед, растешь, женишься…
– Никогда, дядюшка! – перебил я его.
– Никогда? Пусть. Можно и так…, но почему ты хочешь быть холостяком?
– Потому что» – ответил я, смущаясь, – я дал себе клятву, когда…
– Бедная девушка!… такая умница… Ну, что ж, будь верен своему решению, можно и так, прожил ведь я и без этого. Самое главное, чтобы ты выбрал себе занятие, и мы этим займемся»,
Я сделал усилие, чтобы казаться веселым оттого, что покинул занятия правом ради искусства; но в моем сердце, переполненном грустью и благодарностью, не было места для других чувств. Через несколько минут, нежно обняв дядюшку, я оставил его.
Вот в чем смысл и значение моего второго сообщения. Теперь ты понимаешь, читатель, почему я, 'сделавшись художником и оставшись по-прежнему человеком из народа, вдвойне полюбил прогулки за городом, почему меня тянет к виноградным беседкам. Но для этого есть еще одна причина. Мне приятно бывать в тех местах, где я гулял когда-то с дядюшкой. Я сажусь за длинный стол и представляю себе, как он прохаживается в тени ветвистых деревьев, порой останавливаясь, чтобы послушать, о чем говорят и поглядеть по сторонам. Его улыбка ласкает меня, как дуновение ветерка, его образ живее встает в моей памяти.
Меня влечет сюда не только мое искусство, которое находит себе в этих местах обильную пищу. Я наблюдаю, с какой искренней радостью и вместе с тем с каким достоинством развлекается здесь народ. В этих развлечениях, столь излюбленных в семейном кругу, царит благопристойность, простота придает им особое очарование. Как сладостна невинная радость той минуты, когда в конце недели, занятой подчас неблагодарным трудом, всей семьей отправляются за город – вместе с семьей друга или соседа, – чтобы наслаждаться приятным досугом под сенью буков в долине, или же под сенью каштанов в горах! Как ярко светит солнце в воскресенье, как ослепительно сияет синева неба! После утренней службы в церкви, освящающей весь этот день, часам к двенадцати, – ибо полдневный зной не в тягость тем, кому весело на душе, – многочисленные семейства высыпают за городские ворота. И как идут к радостным лицам гуляющих живые краски их праздничных нарядов! Неторопливая поступь родителей и деда, если он еще принимает участие в этих удовольствиях, сдерживает быстрые шаги молодежи, что, однако, никому не мешает свободно веселиться; и если юная девушка, опекаемая взором матери, повинуется своей непобедимой склонности нравиться, ее не сковывают ни напускная строгость, ни жеманство недотроги. Смех, игры, задорные шутки, лукавое поддразнивание объединяют и оживляют шаловливую молодую толпу. Родители беседуют между собой под ее радостный гул; слушая шум развлечений нового поколения, приободряется и дедушка, шествующий чуть позади.
Но все это пока лишь преддверие праздника. Вот наконец дошли до места, где под купою буков всех ожидают желанная прохлада, отдых и накрытый стол; и каковы бы ни были яства на этом столе, аппетит и хорошее настроение служат им наилучшей приправой. Даже если в деревенской стряпне и случаются досадные неудачи, они становятся лишь предметом для шуток, еще одним поводом для всеобщего веселья. Дедушку окружают всеми знаками внимания: для него создают необходимые его возрасту удобства, стараются поменьше шуметь, и каждый юноша почитает за честь для себя оказать старику уважение и бывает счастлив, если этим ему удается снискать расположение внучки.
Затем наступают едва ли не самые восхитительные минуты. Молодежь группками разбредается кто куда, на зеленых лужайках мелькают белые платья, близится вечер, нестройный громкий говор застолья сменяется тихими задушевными разговорами; сладостная непринужденность в обращении и сознание, что праздник скоро кончится, делают эти минуты еще более драгоценными. Итак я не стану отрицать, что пока родители беседуют за столом, или дремлют в укромном уголке, юноши и девушки обмениваются нежными словами; что, отделившись от толпы, они ощущают острую радость, полную трепетного предчувствия счастья, и что, раздавшийся наконец из-под буков призыв собираться домой, вызывает в них досаду. И что же в том дурного? Как иначе смогли бы они познакомиться, полюбить друг друга, найти себе спутников жизни? Да, родители, которые беседуют между собой, или где-нибудь дремлют, имеют все основания не бояться того, на что. они, впрочем, смотрят сквозь пальцы! Порукою им служит память о собственной добропорядочности; они знают, что там, где собрались семьею, все чисто, что семья в сборе – это святилище, откуда изгнан порок.
Так развлекались наши отцы; следы этих развлечений еще кое-где сохранились, но они исчезают под натиском всеобщего изменения нравов, утративших вместе со старинной простотой и старинное добросердечие; взамен простых радостей, завоеванных трудом, сладостным чувством братства и священной силой семейных уз, приходит все растущее благосостояние, лишенное, однако, души и всякого вкуса.
Но наибольшие опустошения среди простых и сердечных радостей производит во все времена все тот же непобедимый росток тщеславия. Он виною тому, что редеют ряды почтенных и славных людей, которые любят прогулки на лоне природы: он не терпит этих скромных развлечений, не требующих особых затрат; он настаивает, чтобы человек красовался на городской площади, советует ему обзавестись усами и шпорами, которые больше всего ценятся у входа в кофейни и на мостовой фешенебельных улиц; он требует, чтобы человек по воскресеньям избегал свой квартал, свою лавку, свои родные места и даже – родного отца; он внушает человеку, что нет ничего приятнее клячи, которая тащит его в разбитом фиакре, – пожелтевшем от времени, как отворот старого сапога, – в какой-нибудь продымленный трактир; и не столько ради удовольствия, сколько в угоду этому самому ростку, человек отдаляется от своих близких и учится бесстыдному тону и непристойным словечкам, которые так забавляют его новых друзей!
Да, тщеславие правит человеком! Не этим манером, так иным оно забирает себе тем большую власть, чем успешней человек делает карьеру. Тщеславие искажает радость, притупляет ум, развращает сердце. Если житейские бури и волнения, частные или народные бедствия не заглушают голос тщеславия, оно становится властелином и повелителем человека и общества. Нравы и обычаи, чувства всех и каждого – все подчиняется ему, все изменяется по малейшей его прихоти. Люди ищут уединения, или, напротив, объединяются, но не для борьбы с подлинным злом, не для служения священной цели, а ради жалких привилегий, ради фальшивого блеска, которым они себя окружают, ради убогой мишуры, которой они прикрывают пустоту своих душ. Одержимые единственным желанием – обогнать тех, кто опередил их, они отворачиваются от себе равных; на смену братству приходит равнодушие, на смену сочувствию – зависть; жить – это больше не значит – любить, наслаждаться, это значит – казаться.
И если времена, подобные нашим, особенно способствуют торжеству тщеславия, виною тому не только изнеженные и бесцветные нравы, порожденные благосостоянием, не только душевная дряблость и ничтожность убеждений, но и обманчивая приманка принципа равенства, которым питаются вожделения безумного общества. Как много простора для безмерного роста тщеславия в тех сердцах, где не теплится ни искры огня, где нет почвы для каких бы то ни было верований, где никогда не шевельнется глубокая страсть! Какое обширное поле действия открывает тщеславию современный принцип равенства, который по-своему толкуют и проповедуют те, кто его не понимает, не признает, не верит в него, но за который жадно цепляются, видя в нем лишь право и долг человека неудержимо рваться вперед, чтобы сравняться с вышестоящими! Смотрите, как все устремляются на это ристалище, где пиная, толкая, калеча друг друга, одни попадают в первые ряды, а другим достаются последние… Вместо того, чтоб оставаться на своем месте и стараться украсить его, они гнушаются им, попирают его ногами и, горя нетерпением захватить местечко получше, жаждут по примеру других распустить там свой павлиний хвост. Как ничтожны эти люди без сердца, как опутаны они тонкими, но бесчисленными сетями самой мелкой из страстей человеческих – тщеславия!
Что ни говори, а росток тщеславия – дурной советчик и жалкий владыка! Если невозможно вырвать его с корнем, то каждый разумный человек должен хотя бы постоянно бороться с ним и задерживать рост его молодых побегов, как только станет заметно, что они пробились наружу.
Вот уже лет двадцать, как я занимаюсь этим делом и, кажется, мне иногда удавалось останавливать рост этих побегов. Но могу ли я сказать о себе, что полностью сумел уничтожить свой росток тщеславия? Нет, это было бы ложью. Я ощущаю его в себе; быть может, он не так уж прожорлив, но все же еще достаточно жирен, чтобы при первой возможности распуститься пышным цветом и заглушить те добрые семена, которым я дал место, оттеснив его самого на задний план. Но странное дело! Перейдя известный предел, ваши усилия обращаются против вас же самих: желая уничтожить росток тщеславия, вы тут же создаете другой. Вы говорите: «я могу похвалиться, что мне чуждо тщеславие», а ведь это не что иное, как то же тщеславие. Итак, не умея добиться всего, я ограничиваюсь необходимым. Я оставляю ростку для забавы свои картины и свои книги, но запрещаю ему касаться моих предисловий к ним, хоть он и советует мне этого не делать. Но кроме предисловий, есть нечто гораздо более серьезное, что я берегу от его покушений.
Прежде всего я берегу мои дружеские связи. Я хочу, чтобы мой росток не находил в них добычи. Я хочу, чтобы союз мой с друзьями был свободным и крепким; я хочу, чтобы источник дружбы был глубоким, всегда свежим и чистым, защищенным и от дуновения ветерка и от бурь; я хочу, чтобы он не был подобен изменчивому ручейку, который несется с любого склона, разливается при любом повороте, омывает то теплой, то остывшей волной все цветы, впитывает в себя все встречные ароматы и меняется вместе со своим песчаным руслом в зависимости от цвета неба. Я хочу любить моего друга за его привязанность ко мне, за радость, которую я испытываю, нежно заботясь о нем, за наши общие воспоминания, наши общие надежды, наши задушевные разговоры, за его сердце, столь близкое моему, за его достоинства, которые пленяют мою душу, за его таланты, которые услаждают мой ум, но вовсе не за его карету, его особняк, положение в обществе, служебный пост, могущество и известность. Так я хочу, росток, – прочь от меня!
Потом я хочу уберечь от него мои удовольствия. Я хочу искать их там, куда влекут меня мои склонности, не взирая на то, как там одеты люди и позолочена ли обшивка их стен. Я хочу наслаждаться, насколько мне это доступно, простыми, но неизменно истинными радостями, в которых участвуют сердце и ум, прелестью искренних отношений, невинными победами над злом; над леностью и эгоизмом; я хочу радоваться чужой радости больше, чем своей собственной, ибо наивысшая радость – та, которая разделяется другими, ширится, множится и наполняет сердце восторгом. Итак, прочь от меня, росток! Оставь меня здесь под буками с этими славными людьми! «Но тебя видят! – Мне нет дела до этого! – Но ты в одной рубашке без сюртука! – Мне так прохладнее! – Но у тебя такой вид, будто ты с ними в одной компании! – Так оно и есть. – Но вон едет экипаж. – Пусть себе едет. – А ведь там твои городские знакомые! – Кланяйся им и прочь от меня, росток!»
И наконец я хочу уберечь мой здравый смысл и не только мой образ мыслей, но и мои суждения о людях: какие достоинства я в них ценю, за что я их уважаю. Прочь от меня, росток! Ты отец глупости, если не сама глупость! Прочь! Я вижу, на кого ты мне указываешь, с кем ты хочешь меня сблизить. Иной раз под внешней оболочкой, которая тебя соблазняет, бывает нечто добрее и хорошее, но доброе и хорошее живет и под грубой одеждой, которую ты презираешь. Прежде чем выносить приговор этим людям, позволь мне снять платье и с тех, и с других. Слушай, росток, у меня был дядя, которым ты бы не гордился! Ты бы скорее стыдился его… Я любил еврейку, а ты на нее бросил бы лишь презрительный взгляд… Прочь от меня, росток, оставь меня навсегда!
Кроме моего дяди Тома, меня и живописца, о котором я говорил, в нашем доме были и другие жильцы. Я перечислю их всех, – сначала обитателей нижних этажей, а потом верхних, – пока не доберусь до того, кто жил ближе всех к небесам и отправился туда в описываемое время, оставив свободной прекрасную мансарду на северной стороне, которую я и занял.
Не спрашивай меня, читатель, что будут делать в моей истории эти новые персонажи! Быть может, ничего! Но если ты до сих пор был моим спутником, что для тебя значит еще одно отступление! Ты к этому привык, а я вызову к жизни образы, которые мне дороги, как и все, что напоминает о юных годах. Итак, ко мне, старые жильцы, ко мне мои бывшие соседи, вы исчезли ныне со сцены жизни, но память о вас я нежно храню в моем сердце!
Начнем с того, кто жил на том же этаже, что и мы. Это был отошедший от дел школьный учитель, старый добряк, главной заботой которого было как можно приятнее прожить на пенсию, заработанную сорокалетним трудом, По утрам этот безмятежный, веселый эпикуреец поливал цветы в своем садике; в полдень он неизменно почивал, а после обеда блаженствовал, дыша свежим вечерним воздухом в обществе выращенных им канареек, которые порхали вокруг него, или клевали свою пищу. Однако он не совсем порвал со своим прежним делом и самым любимым его развлечением было применять ко всем предметам и людям, попадавшимся ему на глаза, сентенции, почерпнутые из его воспоминаний о классической литературе. Когда-то я тоже прошел через его руки и был не совсем равнодушен к просодическим красотам его афоризмов; поэтому он благоволил ко мне и не упускал случая при встрече на свой лад приветствовать меня:
Puer, si qua fata aspera rumpas,
Tu Marcellus eris [69].
При этом его круглое брюшко колыхалось от долгого и благодушного смеха, вызывавшего во мне зависть, хотя я не разделял веселости старика. Если его бывшая служанка приносила ему из деревни гостинец, имея при этом некую корыстную цель, он говорил:
Timeo Danaos, et dona ferenles [70].
И его брюшко опять ходило ходуном. Когда же речь заходила о его супруге, он не умолкал:
Dum communtur, dum moliuntur, annus est [71]
… variu met mutabile semper femina! [72]
… notumque furens quid femina possit! [73]
И еще много других изречений. Тем временем жена его варила компот; она находила отвратительной его манеру выражаться, на что он потихоньку роптал:
Melius nil coelibe vita! [74]
Этажом выше жил угрюмый и ворчливый восьмидесятилетний старик, бывший государственный чиновник. Летом он проводил время у окна, сидя в глубоком кресле, и со скорбным видом наблюдал улицу, всюду усматривая упадок государства и разложение нравов: в свежевыбеленных домах, в свежеоштукатуренных стенах, в круглых шляпах вместо почти исчезнувших париков с косичками и, самое главное, в молодости молодых людей:
…cuncta terrarum mutata
Praeter atrocem animum Catonis [75].
говорил школьный учитель. Зимой, засунув тощие ноги в домашние сапоги, старик коротал дни у камина и лишь раз в месяц покидал свое место, чтобы подойти к дверям – все в тех же сапогах – и подать милостыню нескольким нищим, людям его поколения, уже превратившимся в развалины, но в них он еще различал следы доброго старого времени, – жалкие остатки старинной республики, ныне столь изменившейся, столь низко павшей.
Над этим угрюмым стариком жила чрезвычайно замкнуто многочисленная семья землемера, служившего по кадастру [76]. Этот человек днем не расставался с измерительным прибором, а часть ночи проводил, склонившись над бумагами. Насколько я помню, в нем была гордость трудолюбивой и независимой бедности, и если время от времени он позволял себе совершать вместе со своим семейством увеселительную прогулку, он наслаждался этим удовольствием с таким важным и полным достоинства видом, что внушал мне, юнцу, почтение, смешанное с удивлением
Dos est magna parentium
Virtus… [77]
значительно говорил школьный учитель.
Прежде чем попасть в мансарду, надо было пройти мимо квартиры музыканта, игравшего на контрабасе. Он по целым дням давал уроки музыки, оставляя за собой ночь, чтобы сочинять пьесы для своего инструмента:
… modo summa,
Modo hac resonat quae chordis quatuor ima [78].
С правой и левой стороны квартиры музыканта хлопали двери каморок и комнатушек, сдававшихся студентам, которые у него столовались. Эти господа, заядлые курильщики, громко учили свои лекции, пели романсы, трубили в рог, играли на флажолете, так что в доме не переставала греметь симфония.
Quousque tandem!!! [79]
Ну а теперь, наконец, о мансарде, о которой я уже упоминал.
Это была большая мансарда с великолепным дневным освещением. Ее хотел занять землемер. Того же хотел и я. Пробили окно, поставили перегородку, и каждый из нас получил по мансарде.
Здесь я снова обрел вид на озеро и на горы. Мое окно находилось на одном уровне с большими готическими розетками, расположенными на середине высоты соборных башен. С этой возвышенной точки, куда почти не достигал городской шум, замиравший вдали, взору открывались пустынные крыши.
Между тем я уже начал приближаться к возрасту, когда такие впечатления не производят столь могучего действия, и я все чаще обращался к своему сердцу, стараясь найти в нем источник и жизни и волнений.
По той же причине прошло и мое увлечение живописью: для этой склонности нужен душевный покой, а его-то у меня и не было. Как часто, встревоженный порывом безотчетной нежности, я, наскучив оригиналом, с отвращением разглядывал его неудавшуюся копию и, отложив в сторону кисть, долгие часы проводил в мечтаниях.
Эта внутренняя жизнь имеет свою прелесть и свою горечь: если сны ее сладки, то пробуждение печально и мрачно. Душа возвращается к действительности, ослабев, или вовсе утратив свою энергию. Неспособный после долгих часов бездействия вновь приняться за работу, и тем более – возродить свои сны, я уходил из дому, чтобы в прогулке развеять тоску.
Во время одной из таких прогулок неожиданная встреча вывела меня из состояния безразличия и почти полной праздности.
Я собирался вернуться домой через затененную высокою липою дверь, выходившую в сторону церкви. Перед дверью я увидел роскошный экипаж. Не успел я переступить через порог, как голос, который я тотчас узнал, заставил меня мгновенно обернуться. «Господин Жюль!» – взволнованно воскликнул тот голос.
Когда я понял, что это зовут меня, я так смутился, что не мог двинуться с места. Я уже хотел отступить назад, но дверца коляски быстро растворилась, и я очутился лицом к лицу с милой Люси. Она была в трауре, глаза ее были влажны от слез… Тут заплакал и я.
Я сразу вспомнил ее белое платье, ее дочерние тревоги, речи старика и его доброту ко мне!… «О! этот достойный человек должен был еще жить! – сказал я после некоторого молчания, – какая это горестная утрата, мадемуазель!… Поверьте, мои слезы – это дань воспоминанию о его сердечной доброте, которую я никогда не забуду».
Люси, слишком растроганная, чтобы отвечать, молча пожала мне руку, этим грациозным движением сдержав охватившее ее благодарное чувство.
«Я надеюсь, – молвила она наконец, – что вы счастливее меня: ваш дядюшка еще с вами…
– Он жив, – ответил я ей, – но годы идут и клонят его к земле… Как часто, мадемуазель, я думал о вашем отце, и с каждым днем все больше и больше разделял вашу печаль».
Обернувшись к сидевшему рядом с ней господину, Люси в нескольких словах объяснила ему по-английски, какому случаю она была обязана пять лет назад знакомству со мной и моим дядюшкой, и почему мое появление живо напомнившее ей день, когда ее отец был доволен и весел, так взволновало ее. Она прибавила еще несколько слов в похвалу мне и моему дядюшке. Когда она упомянула о том, что я сирота, я вновь уловил в ее голосе и в лице то выражение участия, которое так меня тронуло когда-то. После того как она закончила свой рассказ, господин, сидевший рядом с ней и по-видимому не говоривший по-французски, протянул мне руку с видом искреннего уважения.
«Это мой муж, – сказала Люси, – мой защитник и друг; отец сам его избрал для меня… После того дня, когда вы увидели моего отца, господин Жюль, мне ненадолго удалось сохранить его… Через полтора года господь призвал его к себе… Не раз он улыбался, вспоминая вашу историю… Когда и вас постигнет такое же горе, – прибавила она, – дайте мне знать, прошу вас… А сейчас я хочу передать привет вашему дяде… Сколько ему лет?
– Пошел восемьдесят пятый год, сударыня!»
Наступило молчание. Потом, все еще под впечатлением моих слов, она сказала: «Я приехала, чтобы поговорить с живописцем, который написал портрет моего отца. Как вы думаете, господин Жюль, я застану его у себя?
– Без сомнения, сударыня! Отдайте мне только приказание, и я передам его моему собрату по искусству».
Она перебила меня: «О, значит вам удалось последовать своему призванию!… Хорошо, я принимаю ваше предложение; я выберу свободную минуту… Только прежде мы с мужем хотели бы посмотреть ваши работы… Вы живете в этом же доме?
– Да, сударыня… Правда, меня несколько смущает, что я смогу познакомить вас только с жалкими набросками, но я не собираюсь из ложного самолюбия отказаться от чести, которую вы желаете мне оказать».
Мы обменялись еще несколькими словами, затем я вышел из коляски, и она покатила дальше.
Эта неожиданная встреча пробудила во мне былые нежные чувства и вывела меня из того состояния апатии, в каком я прозябал уже несколько месяцев.
Но, осмелюсь ли признаться? Хоть я никогда не переставал любить мою еврейку и свято чтить ее память, но с этого дня моя скорбь утратила свою горечь, и душа моя, словно освободившись от прошлого, снова устремилась к будущему и уже легко несла бремя воспоминания – по-прежнему милого и дорогого, но не столь мучительного.
Тем не менее эта встреча была не совсем безоблачна. Хоть я и забыл Люси, хоть я и прежде даже в самых смелых мечтах не дерзал чем-то стать для нее, при первом взгляде на сидевшего рядом с ней господина я загрустил. Когда я услышал из ее уст, что она замужем, сердце мое сжалось и я ощутил укол ревности.
Но это было мимолетное чувство. Еще не отойдя от коляски, я уже отдал свое сердце этому господину и видел в Люси лишь его милую супругу, которую он позволил мне обожать.
Первое время я жил этим воспоминанием и надеждою вскоре снова увидеть Люси. Я сделал несколько копий, причем одну из них – с мадонны, написал два-три портрета, а также набросал несколько композиций, большею частью весьма посредственно выполненных, но не лишенных некоторых признаков таланта. Можно представить себе, как рьяно росток тщеславия помогал мне размещать мои работы, желая показать их с самой выгодной стороны. Все было готово к приходу Люси, и вот она появилась в сопровождении мужа.
До сих пор я не могу вспомнить об этой прелестной женщине, чтобы мысль о ней не растревожила мою душу. Ах, почему не могу я обрисовать достаточно верно ее привлекательные черты: эту неподдельную доброту, которой высокое положение, блеск и богатство придавали еще большее очарование; эту простоту чувств, которую не могли исказить ни светские манеры, ни предрассудки высшего общества! Несмотря на обычно грустное выражение ее лица, милая улыбка согревала ее самые незначительные слова, а ласковый взгляд сообщал неотразимую прелесть даже ее молчанию. Едва она вошла в мою скромную мансарду, как сразу обратилась ко мне со словами одобрения. Она рассматривала мои работы с особенным вниманием и, насколько я понимал, все что она о них говорила мужу по-английски, было проникнуто искренним доброжелательством. Лишь на мгновение они понизили голос, переговариваясь между собой, но по тону и лицам обоих было ясно, что их слова могли привести меня лишь в приятное смущение, обычно сопутствующее дружеской похвале.
Когда я по просьбе Люси выставил перед ней решительно все мои полотна, послышались шаги дяди. Я побежал открыть ему дверь.
Люси, словно предчувствуя, что это он, встала, увидя моего старого дядю, она устремилась к нему навстречу, но. не сумев побороть свое волнение, остановилась. Как всегда спокойный и ясный, дядя склонился перед ней и, верный старинному галантному обычаю, поднес ее руку к губам: «Разрешите мне, сударыня, ответить вам на визит, которым вы почтили меня пять лет назад, доставив мне этого негодника… Я знаю, вы скорбите, – продолжал он, заметив слезы на глазах у Люси, – этот благородный старик, ваш батюшка!… Я знаю также, что это ваш супруг. Он достоин им быть, поскольку ваш батюшка сам избрал его для вас!»
Муж Люси, пожав дяде руку, пододвинул к нему стул и пригласил его сесть, а я не сводил глаз с этой сцены.
«Сударь, – сказала Люси, – простите мне мое волнение… Когда в Лозанне я увидела вас вместе с моим отцом… оба почти одною возраста и оба необходимые для счастья двоих людей… вот тогда у меня и появилось предчувствие, которое ваше появление так живо мне сейчас напомнило… Я благодарю бога за то, что он вас сохранил, и если бы случай не позволил мне встретить господина Жюля, я бы не покинула Женеву, не выполнив моего намерения узнать, как вы, поживаете… Но мне гораздо приятнее воочию убедиться, что вы в добром здравии, – как это можно судить по вашему виду, – и я столь же смущена, сколь и признательна вам за ту радость, которую вы нам доставили, поднявшись сюда так высоко.
– О как вы добры, сударыня, – сказал дядюшка, – вы чудесное создание! Слушать вас одно удовольствие. В Лозанне ваш отец так же высоко поднялся по лестнице… Но он не был за это вознагражден таким приемом, который может оказать только дама с вашим голосом, вашим обхождением и вашим сердцем. Будьте счастливы, дорогая! Скоро, скоро я поднимусь еще выше! Вот только мой милый Жюль никак не соглашается на это!
– Ах, никогда, добрый дядюшка», – воскликнул я, потрясенный грустным и удивительным сходством моего нынешнего положения с тем, в каком я когда-то застал Люси, и по лицу ее я понял, что в эту минуту мы думаем об одном и том же.
«Я не хочу вам мешать, – закончил дядя, сказав еще несколько слов, – вы рассматривали наброски моего милого Жюля…, я покину вас… Скажите, пожалуйста, вашему супругу, что я сожалею теперь, что знаю древнееврейский, а не английский язык. Я бы имел тогда удовольствие побеседовать с ним». Затем, взяв Люси за руку, он прибавил: «Прощайте, дитя мое!… будьте счастливы! Благословить такую молодую даму – право старика, и я им воспользуюсь. Прощайте и вы, сударь, дорогой мой!… Вы соединили ваши жизни; в моей памяти вы будете неразлучны!»
Тут дядя Том, снова склонившись, поцеловал руку Люси и удалился. Мы втроем проводили его, охваченные тем живым, но смешанным с грустью чувством любви и уважения, которое обычно внушает к себе приветливая старость.
Когда дядя ушел, мы сели. Люси долго говорила о нем. Ей хотелось найти черты сходства между ним и ее отцом, особенно заметные в той ясной веселости и в дружелюбной, несколько старомодной учтивости, которые были присущи обоим. Люси иногда умолкала, словно опечаленная мыслью о потере, ожидавшей меня в недалеком будущем. Потом, переменив предмет разговора, она обратилась ко мне, и щеки ее слегка заалели: «Господин Жюль, – сказала она, – мы привезли с собой портрет моего отца, вы его знаете… Нам бы хотелось иметь две копии с него. Я надеюсь, что вы доставите мне удовольствие, взяв на себя этот труд. Ваш талант служит нам порукой, что вы оправдаете наши ожидания, не говоря уже о том, что меня больше всего трогает воспоминание, которое вы сохранили о моем горячо любимом отце».
Судите же о моей радости! Мне следовало бы не так явно ее выражать; но Люси и ее муж, несмотря на мои робость и смущение, не могли не заметить, как она была велика. Эта радость усилилась еще от сознания, что работа была мне по плечу. В тот же день я пошел за портретом и взялся за дело, поняв, что уже проложил себе дорогу в мир изящных искусств.
При других обстоятельствах этот портрет навеял бы на меня грусть, ибо он уносил мое воображение в прошлое, где я встретил два дорогих друг другу существа, полные жизни, а теперь разлученные смертью. Та юная девушка, сияющая блеском ласкающего взор убора и молодости, еще не омраченной слезами, и нынешняя Люси – в трауре, затуманенная печалью… Но я был слишком переполнен чувством благодарности и радостью, чтобы этот контраст произвел на меня сильное действие.
Какое это было чудесное занятие! Мой карандаш должен был нарисовать любимое лицо, воспроизвести очертания этой фигуры, грациозную небрежность этой позы… Иногда, восхищенный оригиналом, я останавливался, и волнение на некоторое время мешало продолжать мне работать.
«Превосходная дама! – сказал мой дядя, узнав об этих великих событиях. – Я жалею, что изучил древнееврейский, а не английский язык… Ты доволен теперь, милый Жюль!… можно и так… – он выпрямился. – Выполни с честью эту работу! Пусть в ней будут соблюдены законы светотени, законы двух перспектив, как линейной, так и воздушной… и потом… согласие искусства с… и потом… Какая превосходная дама! Такая ласковая и такая красивая!»
Меж тем, как коляска Люси во время ее последнего визита ко мне стояла со стороны дома, обращенной к больнице, экипажи, подвозившие заказчиков моего собрата – живописца, подъезжали к другой стороне дома, обращенной к собору.
Это обстоятельство привлекло внимание жильцов нашего дома; когда же после множества предположений и догадок, в которых наименьшую роль играла моя особа, они все-таки узнали, что коляска с гербами стояла ради меня, молва о моей неожиданной и тем более ослепительной славе, полетела с этажа на этаж, и старый учитель, утверждая, что он это предвидел и раньше, повторял:
Non ego perfidum
Dixi sacramentum! [80]
– Уж не ругаешься ли ты? – перебила его жена.
Odi profanum vulgus
Et areo [81].
– Вари-ка лучше свои компоты!
– Я думала, что сорок лет работы в школе отбили у тебя охоту к этой проклятой латыни, она делает тебя невыносимым. Неужели ты не можешь бросить эти глупости и говорить по-французски, как все люди?
– Ты очень отличаешься от Горация, моя дорогая, ибо это он говорил:
Nocturna versale manu, versate diurna [82]
и если я тебе даю пощаду ночью, ты можешь слушать меня днем.
– Гораций и все эти господа большие дураки, они и тебя оболванили. Ночью ты так храпишь, что я не могу спать, а днем забиваешь мне голову твоей тарабарщиной.
– Ты клевещешь на красоты,.которые тебе не дано понимать. Одумайся, моя дорогая, если я ем твои компоты и нахожу их вкусными, ты могла бы хвалить мои гекзаметры и ощущать их аромат…
Vellem in amicitia sic erraremus… [83]
– Мои компоты превосходны, а твои рагу ужасны!
Melius nil coelibe vita! [84]
– Я остаюсь при том, что всегда говорил об этом юноше:
Non ego perfidum
Dixi sacramentum! [85]
С другой стороны музыкант, игравший на контрабасе, и вся его команда (я уже говорил, что студенты проводят свою жизнь у окна) тоже не преминули заметить роскошную коляску. По меньшей мере пятнадцать физиономий сразу показались в окнах, выходивших на улицу, и с любопытством глазели на лакеев, спрыгнувших с козел, чтобы отворить дверцу коляски, и на молодую даму, входившую в дом, опираясь на руку супруга. Начались предположения: «К кому она идет? Кто знает, – думал музыкант, – быть может, любитель музыки, которого провидение?…» И все физиономии обратились к окнам, мансардам, чердачным окошкам, выходившим во двор…
Люси поднималась по лестнице, Люси миновала последний этаж; воистину, прекрасная дама шла к юному живописцу!!! И моя слава вознеслась до звезд.
Один лишь землемер и его семейство не обратили внимания на эти великие события. Глава дома был в поле, занятый своими угломерами, мать хлопотала по хозяйству, а старшая дочь, погруженная в бумаги отца, трудилась по ту сторону нашей перегородки. В этой деятельной жизни, обремененной суровыми заботами, было мало места для уличных дел и пересудов соседей.
Тем временем моя работа подвигалась. Я вставал на заре, поднимался в свою мастерскую и с жаром трудился до наступления сумерек.
Своим прилежным занятиям я был обязан тому, что немного покороче познакомился с землемером. Вместе с дочерью, он, как и я, на заре покидал свое жилище. Мы вместе шли по лестнице, и в то время, когда он входил в свою мансарду, чтобы задать девушке урок на день, я водворялся в своей. Соседство и общность привычек мало-помалу нас сблизили, и хотя этот человек очень дорожил своим временем, он иногда позволял себе потерять две-три минуты, поговорив со мною перед дверью, если предмет разговора, начатого на лестнице, настоятельно требовал еще нескольких слов.
Когда мы поднимались по лестнице, его дочь шла впереди, держа в руке ключ от мансарды. У нее была недурная фигурка, а лицо – скорее благородное, чем красивое. Всегда с непокрытой головой, она была чрезвычайно просто одета. Ее лучшим украшением были молодость, свежесть и прекрасные гладко зачесанные волосы, обрамлявшие лоб.
Черты строгого воспитания в любом возрасте заметны у тех, кто имел счастье его получить. Эта робкая и застенчивая девушка носила на себе печать несколько диковатой гордости, которая с еще большей силой выражалась на лице ее отца. Она была незнакома с манерами большого света, однако держалась с таким благородством и сдержанным достоинством, что при всей скромности ее звания, в ее облике нельзя было найти ничего вульгарного.
Трудно было без удивления и интереса глядеть на эту юную особу, которая в возрасте забав и веселья посвятила себя необычному для женщин труду; работая не покладая рук, почти не зная отдыха, она при всей своей молодости была вместе с отцом опорой семьи.
Я не отступал от своего правила рано вставать, чтобы не оказаться в одиночестве, поднимаясь в мою мансарду. Но иногда бывало и так, что землемер утром уходил сдавать законченную накануне работу, и Генриетта поднималась по лестнице одна. Это были тягостные для меня дни. Боясь вызвать у нее смущение, которое я испытывал сам, я не мог придумать ничего лучшего, как ускорять шаги, когда она шла сзади меня, или же замедлять их, когда она шла впереди.
Но, сидя уже в своей мастерской, я находил странное очарование в присутствии невидимой подруги, и мне было приятно, прислушиваясь к малейшему шуму, доносившемуся из-за перегородки, представлять себе ее походку, жесты, движения. Когда ее звали снизу к столу, мне становилось так одиноко и тоскливо, что я мало-помалу стал отлучаться из мастерской в те же часы, что и она.
Среди всех этих новых для меня забот мне начала приходить в голову одна и та же мысль. Прежде, когда я еще не вставал так рано, она, случалось, в долгие часы своей работы напевала песенку; потом это пение внезапно прекратилось, и как раз в то время, когда я стал слушать его все с большим удовольствием. Было ли это случайностью? Был ли я этому причиною? Сделалось ли мое присутствие настолько заметным для нее, что она приневолила себя молчать? Значило ли ее молчание, что я занимаю ее мысли, как и она занимает мои?
Вот тьма разных вопросов, заставлявших меня раздумывать и мечтать. Поэтому, закончив свои копии, я уже больше ни за что не брался. Я не прикасался к чистым полотнам, мои кисти валялись, где попало, ничто не трогало меня, кроме чувства, заполнявшего мою жизнь.
Но то не были прежние мечты, несбыточность и безрассудство которых я признавал уже сам. Напротив, на этот раз мне прежде всего пришла мысль о браке, и с этой минуты она не покидала меня.
В каком счастливом возрасте я еще был тогда! Как прекрасны последние дни перед приходом возраста зрелости и опыта! Никогда не задумываясь прежде о той серьезной перемене в жизни, которую поэты рисуют нам, как могилу любви, а моралисты, – как священное, но отягощенное цепями иго, я сразу заторопился к ней, словно к цветущему благоуханному берегу. Еще не имея понятия, как и чем живет молодая пара, создающая семью, я погружался в составление некоторых проектов, тем более легко выполнимых, что и желаниям моим они сулили близкое осуществление.
Ведь достаточно было пробить дверь в перегородке… Тогда мансарда Генриетты станет нашей супружеской спальней, а моя – нашей мастерской, где моя жена будет трудиться над своими бумагами, а я – над своими полотнами, и наша жизнь потечет в мире, любви и счастье.
Однажды утром, когда я размышлял обо всем этом, облокотившись на подоконник и рассеянно глядя на старого учителя, поливавшего тюльпаны в своем садике, у окна вдруг появилась Генриетта.
Она не ожидала увидеть меня, как я мог заметить по яркому румянцу, внезапно вспыхнувшему у нее на щеках; тем не менее, чтобы нельзя было подумать, будто мое присутствие оказало на нее большее впечатление, чем это допускала ее гордость, она не могла тотчас же скрыться. Итак, она осталась у окна, но чтобы не выдать свое смущение, глядела прямо перед собой на плывущие в небе облака.
Случай был исключительный: наконец-то я мог завязать разговор с той, кого я наметил себе в жены. Сделав над собой невероятное усилие, чтобы подавить волнение, я сказал учителю:
«Эти тюльпаны…»
Едва я произнес эти два слова и не успел учитель поднять голову, как Генриетта исчезла. Разговор на этом кончился.
«А! вы подсматриваете, чем я занимаюсь? – спросил учитель. – Плутишка, я догадываюсь, о чем вы думаете!
Добро бы строить! но сажать в такие лета!
– Прежде всего, молодой человек, это тюльпаны:
Неужли запретить хотите мудрецу
О благе ближних прилагать старанье? [86]
Смотрите, этот разноцветный тюльпан, который в Голландии стоил бы двадцать дукатов, я предназначаю моей жене…
Purpureos spargam flores… [87]
Я уже давно закрыл в смущении окно, а учитель продолжал говорить цитатами.
Неудача моей попытки отбила у меня охоту возобновить ее. Несколько недель я ограничивался тем, что потихоньку следил за привычными занятиями Генриетты.
Она изредка принимала гостей. Когда у ее матери выпадало несколько свободных от хозяйства минут, она приходила к дочери с работой в руках. Тотчас же, прильнув к перегородке, я старался затаить дыхание, чтобы лучше слышать, о чем они говорят.
«Отец, – говорила мать, – придет домой в шесть часов. Я приготовила платье для мальчиков, и мы все вместе пойдем погулять.
– Пойдите без меня, матушка! Если я сейчас оставлю работу, я, наверное, не смогу завтра ее сдать. А ведь завтра четверг, вы знаете – надо платить за квартиру.
– Дитя мое, ты так нам нужна! Как я буду рада, когда братья смогут помогать тебе!
– Я буду тоже рада за отца.
– Отец пока крепок и, слава богу, еще достаточно молод. Но в будущем меня так пугают болезни и старость… Вот когда нам будет трудно без тебя, Генриетта!
– Я тоже крепка и надеюсь еще жить.
– Я тоже так считаю, мое дорогое дитя, но придет пора и тебе устроить свою жизнь.
– Я принадлежу вам, матушка! Я предпочитаю жить в бедности, но вместе с вами, чем разделять ее с кем-то другим и стать вам чужой.
– Значит, ты хочешь найти себе богатого мужа, Генриетта?
– Нет, матушка, я не буду ему ровней. И я не хочу лишать вас моей помощи и работать на мужа, которому ничем не буду обязана.
– Ты права, Генриетта, что не гонишься за богатством. Помни, дитя мое, твоя мать очень счастлива, хотя и терпит нужду; все ее счастье в муже и в детях. Лучше жить в бедности, но с порядочным и честным супругом, чем остаться в девушках, Генриетта! Все беды не от нужды, а от пороков.
– Таких людей, как мой отец, мало, матушка!»
Это все означало, что вовсе не замечая меня, она сделалась мне гораздо ближе; но мое чувство к этой чистой и гордой девушке было так глубоко, что мне стало очень грустно и горько.
Да и весь этот разговор был мне не по вкусу. Правда, слова Генриетты говорили о том, что ее сердце свободно; однако в этом сильном и независимом сердце, способном беззаветно любить, я не находил ни нежности, ни пылкости, без которых юноша моего склада не мог и мечтать его покорить. Только речи ее матери вселяли в меня какую-то надежду. Слова этой доброй женщины, восхвалявшей честную бедность, казались мне божественно прекрасными и шли прямо мне на пользу, ибо я был честен и прежде всего беден.
К сожалению, Генриетта слушалась не только матери. По какой-то странной, но впрочем вполне естественной особенности гордый и независимый характер, присущий всем членам этой семьи, уживался у каждого из них с добровольным, но безграничным подчинением отцу – главе и душе этого семейства. Землемер – человек твердый, строгий, трудолюбивый – не отличавшийся утонченной любезностью и особой учтивостью, оказывал могучее влияние на близких своим примером самоотверженности и безупречной добродетели. Жена любила его благоговейно, а Генриетта, когда ей приходилось высказывать суждение о людях и сравнивать их с отцом, привыкла ставить его выше всех. Таким образом дочернее чувство, более глубокое, чем нежность, более почтительное, чем восхищение, приучило ее к безоговорочному послушанию. Она и ее сердце могли принадлежать лишь тому, кого предпочтет отец, столь достойный по ее мнению руководить ее выбором.
С умилением, часто увлажнявшим мой взор жаркими слезами, я узнал позднее, какого внимания и уважения была достойна эта скромная семья, как поистине велик был этот незаметный человек. Но в те времена их семейные добродетели только мешали исполнению моих желаний. В самом деле, что мне было до того, что эти женщины были послушны своему повелителю и владыке, если я не знал, как к нему подступиться? Что мне было до того, что землемер был строг, тверд, трудолюбив и, конечно, хотел найти эти качества в своем зяте, если у меня-то как раз их не хватало? Оставалось лишь понравиться ему чем-нибудь другим, но у меня так было мало шансов для этого! И, действительно, его суровый вид, надменный испытующий взгляд, резкая манера говорить и властный характер внушали мне такую робость, что в его присутствии я становился бог знает каким неловким, и все мои преимущества куда-то исчезали.
Итак кругом были сплошные препятствия; как это всегда бывает, каждое из них только разжигало мои желания, и думая о том, как бесконечно трудно получить руку Генриетты, я только того и желал, чтобы ее получить.
Я принял рыцарское, но отчаянное решение: сделать первый шаг и признаться моей будущей невесте в любви. Надо было лишь дождаться подходящего случая. Но я так долго и терпеливо его дожидался, что все подходящие случаи ускользали от меня прежде, чем я мог вымолвить слово.
Вот что бывало по утрам. Мы с Генриеттой часто поднимались по лестнице одни, и я уже дошел до такой вольности, что, поздоровавшись с ней, справлялся o здоровье ее отца, или же высказывал свое суждение о скуке затяжных дождей или о приятности хорошей погоды. По крайней мере раз десять я, охмелев от собственной смелости, уже был готов разразиться нежным и торжественным признанием, но в самую последнюю минуту краска бросалась мне в лицо, от волнения я лишался дара речи, и все откладывалось до того времени, когда я не буду краснеть и волноваться. Пока я так колебался, землемер мало-помалу присоединялся к нам, и Генриетта уже входила в мансарду не одна. Но любовь так изобретательна! В часы обеда и ужина Генриетта спускалась и поднималась одна. Мне прекраснейшим образом удалось устроиться так, чтобы мы совершали это путешествие вместе. Дело было за малым: открыться ей. Но в семье вдруг изменили часы трапезы, и я днем и вечером поднимался и спускался по лестнице в одиночестве.
Оставалось еще одно, последнее средство, правда, дерзкое, но верное: войти под каким-нибудь предлогом к Генриетте и дать волю своим чувствам. Сколько раз я уже направлял свои стопы к ней: надо было лишь однажды взять себя в руки и не повернуть назад. Но тут мать Генриетты завела себе привычку приходить к ней с работой в руках.
Урокам г-на Ратена и его скучной проповеди целомудрия я был обязан тем, что никогда не смел обратиться к женщине ни с одним нежным словом, хотя в юности только и делал, что беспрестанно влюблялся. Однако эта глупая робость – большое благо, которое я оценил только теперь. Благодаря робости, юноша сохраняет до самых дней Гименея природную стыдливость, которую, однажды утратив, уже никогда не вернешь. Благодаря робости, его сердце всегда искренно и молодо. Робость сдерживает порывы пламенных и нежных чувств, переполняющих сердце юноши, и он преподносит будущей подруге жизни нетронутым богатый дар чистой любви.
Но тогда я рассуждал иначе. Я возмущался собой и, думая о том, как часто неисправимая робость сковывает мой язык, когда все кругом призывает меня говорить. я приходил к убеждению, что я родился неловким и глупым и навеки останусь холостым, ибо не сумею объясниться в любви. К счастью, на помощь мне пришел случай.
Однажды утром, когда я предавался этим унылым размышлениям, кто-то вдруг ко мне постучался. Я побежал открыть дверь: это была Люси. Ее приход меня очень обрадовал: зная заранее, что услышу милые речи одобрения, я надеялся, что Генриетта, находившаяся за перегородкой, не пропустит ни одного слова из нашего разговора.
Люси, возвратившаяся из поездки по Швейцарии, хотела узнать как идет работа над ее копиями. Она была на этот раз одна. Я показал ей свою работу; она внимательно ее рассмотрела, по всей видимости осталась чрезвычайно довольна и горячо расхвалила мой талант. Я не помнил себя от радости, как она вдруг переменила предмет разговора.
«Вчера вас не было дома, господин Жюль? – спросила она.
– Вам пришлось затруднить себя, сударыня, напрасно поднявшись по лестнице? Как раз в это время, вчера утром, дядюшка предложил мне пойти с ним погулять.
– Вот это мне и сказала молодая особа, которая работала в соседней комнате. Я несколько минут отдыхала у нее. Скажите, пожалуйста, как ее зовут?»
Этот вопрос заставил меня покраснеть до ушей. Заметив мое смущение и немного смутившись сама, она прибавила:
«Я, не подумав, задала вопрос, который, быть может, вам показался нескромным, господин Жюль!… Простите меня. Моим единственным побуждением было желание узнать имя молодой девушки: ее внешность, манеры и прием, который она мне оказала, очень меня привлекли.
– Ее зовут Генриетта, – ответил я, все еще в сильном замешательстве, – это имя я не могу произносить без волнения, хотя без конца его произношу»…
Затем, ободренный сочувственным видом Люси, а главное мыслью о том, что я уже начал, а может быть смогу и завершить трудную для меня задачу объяснения в любви, я продолжал:
«Раз я уже осмелился вам это сказать, сударыня, я, как мне кажется, должен сказать еще больше… Эту молодую особу я вижу каждый день, я работаю рядом с ней, я ее люблю!… Ваш вопрос смутил меня, словно вы открыли тайну, скрывавшуюся до сих пор в глубине моего сердца… Я достаточно сказал, чтобы вы могли заключить из моих слов, каковы мои чувства, и каковы были бы мои намерения, если бы я знал, что они будут приняты благосклонно…»
В эту минуту меня прервали. Пришел муж Люси. Мы снова вернулись к разговору о копиях, и вскоре супруги ушли.
После всего, что произошло, мне не терпелось остаться одному. Я торжествовал, я ликовал, на душе у меня стало легко. Я был в восторге от того, что посмел заговорить, да так складно, так кстати! «И как это просто!» – подумал я.
Особенно восхищало меня, что Генриетта, имевшая возможность каждую минуту уйти и тем самым выразить свое неудовольствие, покинула свою мансарду лишь когда появился муж Люси. Тут я выстроил целый город из воздушных замков. Генриетта выслушала мое признание, значит не отвергла его; она его не отвергла, потому что ее сердце принадлежит мне. Наконец, она не вернулась в обычное время в мансарду, и это означало, что она, как покорная и нежная дочь, передала мои пожелания родителям, о чем они сейчас я ведут беседу!
Я был еще весь во власти сладчайших мук ожидания, как вдруг около трех часов пополудни услышал на лестнице шаги. Кто-то твердой походкой приблизился к моей двери и без всяких церемоний отворил ее. Это был… это был землемер!
Должно быть моя физиономия была далека от своего нормального состояния.
«Мой приход заставил вас побледнеть, – сказал он резко, – но вы могли его ожидать.
– Несомненно, сударь, – пролепетал я, – я польщен…
– Ну, успокойтесь, и давайте сядем!»
Мы сели.
«Я имею обыкновение, – сказал землемер, – действовать напрямик. Вот что привело меня к вам. – И он устремил на меня сверкающий гордостью взгляд. – Уже давно, сударь, мне не нравится ваше поведение. Мне казалось, что я принял достаточные меры предосторожности против вас… Но сегодня утром в присутствии третьего лица вы скомпрометировали мою дочь… Что означают ваши действия?
– Сударь, – попытался я возразить, – вы можете порицать меня за неопытность, но прошу вас не сомневаться в моих добрых намерениях.
– Когда имеют добрые намерения, действуют открыто. А ваши действия двусмысленны, и насколько мне известно ваше положение, они внушают мне беспокойство.
– Вы оскорбляете меня, сударь, – волнуясь, перебил я его.
– Возможно, – продолжал землемер спокойным тоном, от которого меня бросило в дрожь. – В таком случае я готов дать вам удовлетворение. Может быть, я и вправду сужу вас слишком строго. Может быть при вашей неопытности, робости и неловкости – у вас твердые и честные намерения. Ну что ж! От вас зависит доказать, что ваши слова, во всех отношениях неприличные, по крайней мере не бесчестны; но вы должны понимать как далеко, как непростительно далеко они могли бы вас завести…, Докажите мне, что вы действительно в состоянии жениться, и я не премину отдать должное вашим намерениям. Сколько вы зарабатываете в год, сударь?»
Этот страшный вопрос, который я ждал с минуты на минуту, обрушился на меня как удар молнии. Я еще ничего не зарабатывал, у меня не было ломаного гроша, я об этом и думать забыл. Если бы Генриетта меня полюбила, если бы она со мной соединилась, что бы еще было надо?… Пробить отверстие в перегородке, и вся недолга. Но землемер рассуждал иначе.
«Я зарабатываю, сударь, – ответил я, смертельно побледнев, – я зарабатываю… меньше, без сомнения, чем буду зарабатывать в дальнейшем; но у меня есть ремесло…»
Он перебил меня:
«Вот как раз потому, что у вас есть ремесло, а именно – ремесло живописца, я и задаю вам этот вопрос. Вы не можете не знать поговорку: „Это ремесло приносит славу иногда, но хлеб – не всегда“. Моя дочь ничего не имеет. А что имеете вы? Я вновь возвращаюсь к моему вопросу: сколько вы зарабатываете в год?
– Я зарабатываю…»
Я неминуемо солгал бы, или же лишился сознания, если бы в дверь не постучались.
Кто любит неожиданные повороты в судьбе человека, что зовутся перипетиями? Аристотель хвалил перипетии, да здравствует Аристотель! [88] Что может во всей вселенной сравниться с удачей, счастливой развязкой? Люси, мой добрый гений, мое провидение!!!
Я открыл дверь. Вошел лакей в ливрее с двумя большими мешками полными денег. Я с восторгом смотрел на него, ожидая, что он будет делать. Он положил оба мешка на стол, открыл один из них, и оттуда посыпались экю, которые он разложил на столбики, чтобы я мог пересчитать их после него. Потом он протянул мне бумагу: «Вот здесь обозначено: полторы тысячи франков в звонкой монете за две копии. Миледи велела забрать с вашего разрешения эти копии вместе с оригиналом».
Итак, нет уже больше причин для волнений. «Хорошо, – сказал я, – я дам вам эти копии». Потом я обратился к землемеру, который встал и уже взялся за шляпу: «Как я уже имел честь вам сказать, сударь, я зарабатываю в год…
– У вас свои дела, – перебил он, – у меня свои, а человек ждет. До другого раза».
И он удалился как раз в ту минуту, когда я полный уверенности в себе, уже готов был заговорить со всем красноречием влюбленного, которому покровительствует само небо, суля ему успех. «К черту всех землемеров!» – воскликнул я ему вслед.
Чтобы утешиться, я взглянул на мои экю. Как я ни был подавлен, все же это было приятное зрелище. Колоннада столбиков, стоявших тесными рядами, показалась мне изящнейшим созданием архитектуры. Никогда в жизни я не видел такого скопления сокровищ. Думая о Люси, которая так щедро меня одарила, я не переставал повторять: «Великодушная Люси, мой добрый гений, Люси!» Не найдя пока более надежного места для хранения моего богатства, я засунул его целиком в печку – за неимением шкафа. Потом я вышел из дому, чтобы на вольном воздухе полней насладиться в одиночестве радостью, сменившей в моем сердце тяжкие минуты тревоги. С утра события благоприятно развивались для меня, но время шло, я должен был успокоиться и как можно скорее обдумать свои дальнейшие действия.
Первым делом надо было посвятить во все дядюшку, который еще ничего не знал. Я скрывал от него свои планы, ибо не сомневался, что он прежде всего пожелает увидеть меня счастливым и пойдет на новые жертвы, чтобы помочь мне обзавестись всем необходимым для семейного человека. Между тем мне было известно, как ограничены его средства, и каких лишений стоило ему совсем еще недавно оборудовать мою скромную мастерскую. Вот почему я считал своим священным долгом не подвергать больше испытаниям его великодушие… Но теперь, благодаря богатству, которым я был обязан щедрости Люси, моя совесть была спокойна, и мне оставалось только осведомить дядюшку о происшедшем и умолять его в довершение ко всем его прочим добрым делам – завтра же просить для своего племянника руку Генриетты. Не было сомнения, что если он окажет мне эту милость, то авторитет его возраста, важное значение его собственного согласия и сердечная мягкость его обхождения обеспечат успех шагу, от которого зависит все счастье моей жизни. Я принял решение поговорить с ним сегодня же вечером.
Я вернулся поздно. Был час ужина. «За стол, за стол… дорогой дядюшка… У меня важные новости!
– Знаю, знаю, дитя мое! Старушка держит меня в курсе дела. Говорят об экю… целый мешок… Пак-тол излил все свои воды на моего милого Жюля [89].
– Пактол собственной персоной, дорогой дядюшка. Он у меня в печке! Но сначала сядем за стол; я хочу еще кое-что рассказать вам!»
Я заметил, что дядя, вместо того, чтобы весело подхватить мои слова и по своему обыкновению разделить со мной мою радость, с озабоченным видом подошел к столу; поглядывая на старую служанку, чье присутствие явно стесняло его, он не решался ее выпроводить. Я сделал знак Маргарите, и она вышла.
Когда мы сели на свои места, дядя начал: «Я тоже хочу тебе сказать…»
И он кашлянул, как это бывало, когда ему требовалось сделать над собой величайшее усилие, чтобы в чем-нибудь меня упрекнуть.
«Ты знаешь…» – и он остановился, казалось, изменив ход своих мыслей. «Эта добрая дама поистине великодушна, поступки ее так благородны!… Большая честь – пользоваться покровительством особы с таким золотым сердцем. Эту честь надо заслужить, дитя мое… Ты уже вышел на хорошую дорогу… Теперь нужно приучиться к порядку, вести себя разумно, трудиться, и все будет хорошо. Но, – продолжал дядя более твердым тоном, – нужно ли быть порядочным человеком? Всегда!… а вредить кому-нибудь? Никогда! надо остерегаться, чтобы молодая девица… Это свято! Но только не для дурных людей.
– Не понимаю, дядюшка, – воскликнул я с волнением.
– Я говорю об этой девушке… сверху!
– Ну и что же?
– Ты ее любишь?
– Пламенно!
– Вот это-то и дурно, Жюль!»
Признаюсь, слова дядюшки, произнесенные им с особенной торжественностью, вызвали у меня сильное искушение рассмеяться, так как я подумал, что его опасения насчет моей порядочности имеют источником сплетню какой-нибудь служанки, которую наша старушка сочла своим долгом ему передать. «Ничего не понимаю! – сказал я. – Я действительно люблю эту девушку, и я пришел умолять вас пойти завтра к ее родителям просить от имени вашего племянника ее руки. Что же тут дурного, дядюшка?
– Ты?… Как ты сказал? Ты хочешь жениться?… Да ведь ты сам дал мне повод – и дядюшка вскочил с места – уверить ее отца как раз в обратном.
– Я погиб! – закричал я. – Погиб! Милый дядюшка, что вы наделали!
– Но я сделал… Я сделал то, чего от меня требовала моя порядочность. Послушай… ну послушай меня! Только что ко мне вдруг явился этот чудак и сказал, что ты ухаживаешь за его дочерью… что ты скомпрометировал его дочь… он спрашивал на что может рассчитывать его дочь, если ты подумаешь о браке… Тогда я сказал, что ты дал себе клятву…
– Ах, я погиб!» – прервал я его в полном отчаянии.
Как только до дяди дошло, что намерения мои чисты, а порядочность – незапятнана, он, ставший невольной причиной моих разбитых надежд, так глубоко огорчился, что позабыл о присущей старикам осмотрительности. Он был занят лишь мыслью о том, как бы скорее помочь моему горю, не задаваясь вопросом, разумен ли и подходит ли мне этот брак, о котором я заговорил с ним впервые.
«Ну, полно! полно! – повторял он, шагая взад и вперед по комнате, в то время, как я продолжал безутешно сетовать, – посмотрим, как нам выпутаться из этого положения. Боже мой! Я должен был подумать… в твоем возрасте дают подобные клятвы… можно и так… и их нарушают… можно и так… Беда в том, что в моем возрасте всегда забывают о подобных превращениях». Потом, приблизившись ко мне, он сказал: «Не унывай, мой милый Жюль! не унывай!… Ничто не потеряно… завтра я пойду… я все объясню… я докажу…
– Завтра? – воскликнул я в ужасе. – Сегодня вечером!… сегодня вечером! Нет, сию минуту, милый дядюшка! Вы застанете всю семью в сборе! Утром он уходит…
– Но… Боже мой! сегодня вечером… к тому же и девушка будет там.
– Ну так что же? Они попросят ее выйти, если сочтут нужным. Сегодня вечером, заклинаю вас, дядюшка!
– Ну хорошо, хорошо! пусть будет так: сегодня вечером… Однако уже десять часов. Позови старуху, я хочу приодеться!»
Я воспользовался этими минутами, чтобы ввести дядюшку в курс недавних событий. Он быстро сменил домашние туфли на башмаки с пряжками; я приладил, наскоро попудрив, парик на его голове; мы с Маргаритой помогли ему облачиться в его великолепный кафтан каштанового цвета; я подал ему трость, не переставая при этом рассказывать о том, что произошло, и одновременно наставляя его, как он должен говорить, и что он должен отвечать. «Ладно, ладно!» – бормотал дядюшка, оглушенный моей болтовней. И он ушел.
Я посвятил во все мои дела старую Маргариту. Она слушала меня со слезами на глазах и, простодушно разделяя мои тревоги и надежды, оставалась со мной, пока тянулись минуты напряженного ожидания. Мы то отворяли дверь, подкарауливая возвращение дяди, то забегали в библиотеку, стараясь расслышать, что происходит над нами.
Через четверть часа дверь землемера отворилась, и я узнал дядюшкины шаги. «Так скоро! – воскликнул я. – Маргарита! мне отказали.
– Отложили до завтра, – сказал дядя, входя, – их нет дома».
Я пришел в полное отчаяние.
«И вы их не подождали?
– Да, я их там поджидал… но дочь мне сказала, что они вернутся не раньше полуночи.
– Значит вы ее видели?
– Да, и клянусь честью, она прелестна, или я ничего с. этом не смыслю».
Я не помнил себя от радости. «А что она вам сказала, дядюшка? Расскажите мне все, прошу вас, – все!
– Дай мне сначала снять кафтан… А потом сесть… Прелестная девушка, очень достойная девушка! Туфли Маргарита!
– Что же она вам сказала, дядюшка?
– Она мне сказала… на, поставь на место трость… что они пошли к друзьям на крестины.
– Но она еще что-нибудь сказала? Ведь вы пробыли там девятнадцать минут!
– Да, да! Погоди, сейчас я все припомню. Сначала она мне открыла дверь… Будь я привидение, она бы не с таким страхом посмотрела на меня (и он засмеялся, изображая испуг Генриетты). «Не пугайтесь, прекрасное дитя, – сказал я, взяв ее за руку, – войдемте, войдемте!…» Она покраснела, и прошла вперед, не выпуская мою руку; она, видишь ли, хотела помочь мне пройти по темному коридору. Так всегда поступают, когда идут со стариком… Такая вежливая, такая почтительная девица!
– Она вас любит, нежно любит, как и все мы!
– Это верно, – донесся из темной прихожей тихий голос Маргариты.
– …Так мы дошли до просторной комнаты, где она обычно сидит за шитьем, присматривая за маленькой сестрой и двумя братишками, которые там спят… Когда мы вошли, один из мальчиков проснулся. «Уложите его, уложите! – сказал я, – а потом вы позовете ваших родителей, я собственно пришел к ним. – Их нет дома, сударь», – ответила она, укачивая ребенка… Ну, видишь, я тебе все рассказываю… может быть ты хочешь, чтобы я говорил покороче?
– О, рассказывайте все, дядюшка, рассказывайте все!… Не смейтесь надо мной!
– «Это меня огорчает, – ответил я, – вернее, очень огорчит того, кто послал меня сюда». Бедняжка так покраснела, что ей пришлось встать и отвернуться, будто бы затем, чтобы снова покачать ребенка, хотя на этот раз он даже не шевельнулся. Тогда она сказала, все еще пряча от меня лицо: «Они придут около полуночи, господин Том, я должна предупредить вас, а то вы утомитесь, ожидая их… – Правда, уже поздно… Я выполню мое поручение завтра… а когда вы узнаете, в чем оно состоит, я бы просил вас, дорогое дитя, поддержать меня… если только… если только вы желаете нам добра, и особенно мне… я бы умер спокойно, прежде увидев, что Жюль соединил свою судьбу с вашей, что вы дали ему счастье, а ваша почтенная семья – опекает его юность…»
Тут я вскочил и бросился целовать и обнимать дядюшку, не в силах иначе выразить чувства, переполнявшие мое сердце.
«Ой! милый Жюль… ой! мой парик!., мой парик в опасности! Дай мне договорить… Ты еще не все знаешь… Да, ну же, ну!… Успокойся!., вот так… вот так… Когда я все точно и ясно изложил этой девушке, она, вполне овладев собою, сказала мне твердым голосом: «Сударь, не сомневайтесь в том, что я уважаю и люблю вас… Я тронута всем, что вы мне сказали, но мне трудно вам на это ответить… Я мало думаю о замужестве и вижу к этому препятствия (не пугайся!)… Я принадлежу моим родителям, я им нужна, я не хочу ни оставить их, ни быть им в тягость (да не пугайся же!).
Я выйду замуж лишь за того, кто будет мне ровней, кто войдет в нашу семью, как в родную, кто целиком отдаст мне свое сердце, как и я ему… Я никогда не думала, что с кем-нибудь буду об этом говорить, но ваш возраст и мое уважение к вам придают мне смелость… Впрочем, ответ вам дадут мои родители… Я сообщу им заранее, если хотите, о вашем приходе. – Прошу вас, дорогое дитя: завтра в десять утра. Я рад, что встретил столько благоразумия и достоинства в таком юном создании… И тем более горячо желаю, чтобы мой племянник принял ваши условия: без сомнения, они не покажутся ему слишком тяжелыми… Большая честь, мое милое дитя, очень большая честь войти в столь добродетельную семью… где члены ее даже в таком нежном возрасте… Его сердце всецело, всецело… (я бы мог рассказать ей историю еврейки) это чистое, нетронутое сердце, ручаюсь вам, дитя мое… оно сумеет оценить, какой клад будет ему вручен, оно поймет, как достигается счастье, поймет, что счастье родится лишь из взаимной привязанности, взаимной верности и об щей готовности выполнять обязанности, каких требует семейная жизнь».
И дядюшка, весело перефразируя слова церковного венчального обряда, спросил меня: «Не правда ли. Жюль, ты даешь такое обещание?
– Да, да, – воскликнул я – и перед богом, и перед вами, горячо любимый мой дядюшка… и перед вами!…»
Я снова стал осыпать его ласками, а старая Маргарита вытирала глаза. И только он один, радуясь тому, что доставил мне радость, но как всегда безмятежный, сохранял спокойствие, сопровождая мои счастливые слезы ласковыми шутками.
«Итак, ты женат! – продолжал дядюшка.
– Если богу будет угодно, дорогой дядюшка! И вы больше ничего ей не сказали?
– Почти ничего. Потом я поднялся и захотел посмотреть на ребятишек, которые тут спали… Она, улыбаясь, показала их мне. Больше всего меня восхитили порядок, чистота и вместе с тем какое-то изящество весьма простой обстановки, окружающей ее и детей. «Это вы обшиваете детей? – спросил я ее… – Нет, сударь, этим занимается моя матушка, но когда ее нет, я ей помогаю». Я поцеловал руку Генриетты, и она, не отнимая руки, пошла меня проводить. На пороге я ей тихонько посоветовал далеко не выходить, если она не хочет столкнуться с тобою на лестнице. Она мигом повернула обратно. Вот и все. Уже одиннадцать. Теперь пойдем спать».
Маргарита при этих словах улыбнулась. «Ты права, Маргарита! Не все будут спать в эту ночь. Но мы с тобою, старушка, отоспимся за всех».
Около полуночи родители Генриетты вернулись. Я прислушался и сумел разобрать, что в их семье идет очень серьезный и оживленный разговор. В два часа все разошлись, но я еще долго слышал, как супруги совещались в своей комнате. Потом все стихло. Я совсем не ложился, и, взволнованный, с нетерпением ждал утра.
Едва дядюшка встал, как я прибежал к нему, и пока он одевался, заставил его повторить свой вчерашний рассказ. Чтобы доставить мне удовольствие, добрый старик снова и снова припоминал все подробности своего визита, и его уверенность в успехе, оживляя мои надежды, опять приводила меня в восторг. Все же, слова Генриетты показались мне слишком сдержанными, и при мысли, что дядюшкины речи и собственное мое поведение могут внушить еще больше беспокойства подозрительному землемеру, я снова терял едва лишь блеснувшую мне надежду.
Пробило десять часов. Со все возраставшей тревогой я напомнил дяде о том, что именно он должен сказать, и мы уговорились встретиться в моей мансарде, как только он выполнит свою задачу.
Я уже был там, когда через несколько минут в комнату Генриетты вошли двое. По шагам и другим признакам я понял, что то была она и ее мать.
Я пришел в такое смятение, что вообразил, будто все потеряно. Из подслушанного разговора, о котором я упоминал, я вынес убеждение, что поверенная тайных помыслов Генриетты – ее добрая мать – расположена отнестись ко мне благосклонно. Желая прежде всего вручить счастье дочери честному молодому человеку, она была бы лучшим ходатаем за меня – по крайней мере единственным, на кого я мог рассчитывать, – перед землемером. Но когда я узнал, что женщины оставили поле боя и отдали моего дядюшку в самую решающую минуту на милость землемера – чьи предубеждения против меня они, разумеется, не могли целиком разделять – я не сомневался, что мое предложение отвергнуто. В этом отчаянном положении я решил воспользоваться моментом, чтобы прибегнуть к последнему средству: предстать перед дамами, и, уверив их в искренности моих пылких чувств, постараться склонить обеих на свою сторону. Я постучался, мне отворила Генриетта.
Только смущение этой девушки, так живо отразившееся на ее лице, заставило меня превозмочь мое собственное смущение.
«Могу ли я, сударыни, – сказал я дрогнувшим голосом, – на несколько минут войти?…
– Войдите, господин Жюль, – тотчас же ответила мать. Она замолчала, глядя на меня, и у нее покатились слезы из глаз… – Что вы хотели нам сказать? – спросила она, наконец, изменившимся голосом.
– Я хотел, сударыня, прежде, чем ваша семья решит мою участь, увидеть вас… поговорить с вами… но я очень затрудняюсь… Я хотел сказать мадемуазель Генриетте, что с давних пор единственным для меня счастьем было любить ее, восхищаться ею, и что больше всего на свете я желал бы добиться чести соединить мою судьбу с ее судьбой… а вам, сударыня, я хотел сказать, что готов полюбить вас, как мать, которой я лишился, и, если вы вверите мне вашу дочь, вы ее не потеряете… и много еще хотел бы я вам сказать, дорогая сударыня, вы внушаете мне уважение и почтительность… мне понятен язык ваших слез, я думаю, что сумею на него ответить…»
В то время, когда я так говорил, Генриетта, менее взволнованная, чем ее мать, смотрела на меня, внимательно слушая мои слова. «Генриетта, – сказала ей мать, – поговори с господином Жюлем… Потерять тебя, дитя мое! Нет, я не свыкнусь с этой мыслью… В тебе вся моя жизнь!…
– Никогда, – сказала Генриетта с твердостью, которую смягчал ее тихий голос, – никогда, матушка, я не выйду замуж за человека, который не станет вашим сыном! Сударь, мне еще труднее говорить, чем вам… Я вас мало знаю… Мне известно, о чем вы просите, но не известен ваш характер… Я видела многих людей, которые слывут примерными супругами, но не вызывают у меня уважения…, И при том, покинуть моих родителей!…»
Тут голос Генриетты изменился, и она заплакала.
«Нет, вы их не покинете, никогда не покинете, мадемуазель, и если только они захотят меня принять…
– Я им принадлежу, господин Жюль! – продолжала она более спокойно, – я неопытна, а у них есть опыт. Я вас не отвергаю; пусть они решат, и я поступлю так, как они захотят…»
В это мгновение отворилась дверь.
«Я не думал, что застану вас здесь, – сказал мне землемер. – Впрочем, останьтесь! Я собирался позвать вас.
– Здравствуйте, милое дитя мое, – молвил дядюшка, взяв руку Генриетты и поцеловав ее. – А вы, дорогая сударыня, – обратился он к ее матери, – мужайтесь, мужайтесь… Если бы вы знали этого малого, как я, в течение двадцати одного года, вы бы не сомневались в нем… как я не сомневаюсь в своем счастье, видя, что он просит руки этой очаровательной девушки, этой настоящей жемчужины… Но пусть говорит тот, кому она принадлежит».
Дядюшка сел; я встал подле Генриетты, и мы приготовились слушать землемера.
«Сегодня, в десять утра, – начал он, – я принял г-на Тома. Я отдаю должное, господин Жюль, искренности ваших чувств и честности ваших намерений. Но там, где надо действовать открыто, вы выказываете слабость, неуверенность, робость. Эти недостатки, при самых честных намерениях, лишают ваш характер той твердости, которую мы вправе от вас ожидать. Я знаю также, что у вас ничего нет, кроме той суммы денег, которую я видел вчера. Таким образом ваши средства сводятся лишь к надеждам, и ваше положение в этом смысле не дает той уверенности в завтрашнем дне, которую мой долг велит мне от вас требовать. Я думал посоветоваться с вами, дочь и жена, но поскольку здесь собрались все заинтересованные лица, я со всей откровенностью выскажу свое мнение.
Господа, я никогда не рассчитывал на богатого зятя, я никогда даже не желал этого, так что положение г-на Жюля, каким оно мне сейчас представляется, не могло бы служить препятствием для моего согласия на этот союз, разумеется, если бы и мои дамы на него согласились… Но, – продолжал он, оживляясь все больше, – для меня важнее всего счастье моей дочери, а счастье, на мой взгляд, заключается в постоянстве привязанности, во взаимном доверии, в любви к труду, в строгой и безупречной жизни… иначе оно для меня не существует. Я знаю, господа, цену моей дочери, и тот, кто не даст ей этих благ, не достоин ее руки и станет предметом моих ненависти и презрения».
Землемер умолк на несколько мгновений, затем, такой же суровый, хотя и глубоко взволнованный, продолжал: «Вы понимаете теперь, господа, почему я не гонюсь за богатством… Те достоинства, те блага, которые я ищу для дочери, гораздо труднее найти, чем золото… У г-на Жюля есть ремесло, он молод, он будет работать, мы ему поможем; здесь нет препятствий… И если он хорошо понимает, что делает, и на какой путь он вступает, если он сознает неоценимое значение доброй супруги, я отдам ему руку Генриетты, и полагаясь на его честность, поверю, что он выполнит свои обещания; я же смею обещать ему нашу родительскую любовь и то, что он будет счастлив.
– Сударь, – ответил я со всем спокойствием, какое было возможно в такую волнующую минуту, – я подтверждаю все слова, которые сказал обо мне дядя, я понимаю и ваши слова: мое сердце их никогда не забудет… Я говорю так не в ослеплении любовью к мадемуазель Генриетте, но как человек, глубоко уважающий ее добродетели и восхищенный зрелищем полного и совершенного семейного счастья, основанного на ваших принципах… Если мадемуазель Генриетта, ее мать и вы дадите мне согласие, то клянусь, в вашей семье появится еще один сын, который не обманет ваших ожиданий!»
Генриетта ничего не сказала, но протянула мне руку движением, полным искреннего чувства. Тут мой добрый дядюшка встал с кресла и, пошатываясь столько же под тяжестью лет, сколько от радости, приблизился к нам и обнял нас обоих. В глазах у него стояли слезы, но ласки Генриетты сделали их легкими и сладкими. Землемер, сохраняя обычную свою твердость, подошел к жене и старался подбодрить ее разумными и любящими словами.
Дядюшка снова опустился в кресло. «Друзья мои, – сказал он, – я благодарю всех вас… Сегодня исполнились мои последние желания. Это милое дитя (я могу назвать его теперь моим) будет счастливо… в этом нет никаких сомнений… ибо вы найдете в моем Жюле честное и любящее сердце, способное понимать и выполнять свой долг… хоть и нрав у него веселый, а голова занята изящными искусствами. Я сказал, что всех вас благодарю. Теперь я поделюсь с вами некоторыми моими намерениями и поясню, как обстоят мои дела. Этот мальчик заменит меня. Мое небольшое состояние принадлежит ему. Оно завещано ему двадцать один год тому назад… Следовательно, он уже двадцать один год содержит меня…»
Он остановился, улыбнувшись.
«В таком случае, – продолжал дядя, – я не долго буду вводить его в расход: значит будущее не так уже мрачно. Мое маленькое состояние заключается в ста двадцати семи луидорах ежегодного дохода с капитала, вложенного в лучший виноградник кантона Во… как видите под покровительством Бахуса…A y него так хорошо поставлено дело, что в продолжение почти пятидесяти четырех лет моя рента аккуратно поступала мне каждые три месяца… Я сказал, что она равняется ста двадцати семи луидорам… А затем с сегодняшнего дня этому мальчику назначается сумма в пятьдесят луидоров, и эта сумма, в которую он мне обходится, в определенные сроки будет выдаваться не ему… а этой девице, которая вчера показалась мне рачительной и умелой хозяйкой».
Тихий ропот прервал слова дядюшки. «Послушайте, послушайте меня, прошу вас… – продолжал он, – у меня не хватит сил говорить долго. Эти пятьдесят луидоров пойдут на хозяйство… Но, как говорится, без котелка не сваришь супа. А мой племянник не очень-то богат котелками. Все его имущество уместится в моем кулаке. А нам потребуются и котелки, и буфет, и мебель, чтобы достойно принять молодую хозяйку… и вот как мы это сделаем.
Послушайте меня! За мою долгую жизнь я собрал множество редких старых книг… Я предвижу, что мой Жюль, как художник, не будет знать, что с ними делать… А я… мне уже пора собираться восвояси… Есть у меня знакомый еврей, он мне охотно помогает в этом деле, и без обмана, ибо я знаю цену своему товару… На эти деньги, часть которых у меня уже на руках, мы обзаведемся всем нужным для наших детей. Только без церемоний, прошу вас, и без возражений… вы огорчите меня отказом. Кроме того, это меня даже развлекает. Еврей мне составляет компанию… Мы вместе читаем по древнееврейски, сравниваем разные издания…и я поодиночке прощаюсь со всеми моими старыми книгами… в ожидании, когда распрощаюсь и с вами… друзья мои!»
Я плакал. Генриетта, ее мать и даже землемер слушали с удивлением, преисполняясь восхищением и нежностью к доброму старику. Далекие от согласия принять его дар, мы ему не противоречили, но, приблизившись к нему, выразили ему нашу глубокую признательность.
Вот каким образом я получил руку Генриетты. Предсказания дяди и обещания землемера исполнились. Я вошел в семью, где царили единодушие, сердечная дружба и преданность каждого общему благу; в этой семье, как нельзя лучше способной довершить образование моего характера, я узнал, что такое простые, но истинные и неизменные радости, которых так часто чураются романтически настроенные умы и чрезмерно увлекающееся воображение.
Перед возвращением в Англию Люси услышала от меня о моей предстоящей женитьбе и, воспользовавшись этим предлогом, сделала мне заказ, который надолго избавил нас от безденежья. Покровительство Люси было для меня очень полезно, тем более, что она оказывала мне его постоянно. Связанная знакомством с самыми знатными семействами Англии, она часто направляла ко мне своих соотечественников, которых ежегодно привлекают красоты нашей страны, и рекомендации ее редко оказывались безрезультатными. Посещавшие меня иностранцы создали мне доброе имя; появлялись новые заказчики, новые заказы, и через несколько лет у меня уже было состояние достаточное, чтобы удовлетворить мое честолюбие и превзойти ожидания землемера. «Батюшка, – говорил я тестю, – ремесло мое хорошее, а ваша пословица никуда не годится!…»
Читатель помнит, что Люси некогда сказала мне: «Если когда-нибудь, господин Жюль, вас постигнет такое же горе, как и меня, то прошу вас, дайте мне знать». Это горе постигло меня спустя два года после женитьбы и, отдав последний долг покойному дяде, я написал Люси следующее письмо:
«Милостивая государыня!
Помню о просьбе, с которой вы обратились ко мне два года назад, я сообщаю вам о смерти моего дяди. Без сомнения ваша доброта уже и тогда сулила мне утешение, и если для вас что-то значила встреча со мной после смерти вашего уважаемого отца, то судите, сударыня, как отрадно мне будет найти в вас сочувствие к моему горю, к моей невосполнимой потере.
Да, потеря моя огромна, сударыня! Мой дядя воспитал меня, вывел в люди, женил, но, самое главное, согревал меня под своим крылом такой безграничной сердечной теплотой, какой я нигде не найду. Я потерял в нем ясную душу, которая руководила моей жизнью; я потерял в нем светлый ум, который с тихой и кроткой веселостью облагораживал мои дни; я потерял его редкие достоинства, едва лишь я начал их постигать и ценить…
Как мне понятна, сударыня, ваша скорбь, которую я заметил когда-то! Как я разделяю ее вместе с вами! Слезы, которые я теперь проливаю, проливали раньше и вы. Но в ваших слезах хоть не было горечи: я слышал, с каким жаром ваш отец произносил похвальное слово вашей дочерней привязанности, тогда как мой бедный дядюшка угас прежде, чем я дал ему случай похвалить и меня.
Как грустно терять наших дорогих близких и видеть, как рвутся сладостные нити, которые больше уже не свяжут нас с ними на этой земле! Я удивляюсь себе и укоряю себя за то, что зловещие предчувствия не так уже часто тревожили мой покой. Я вспоминаю, как ваши глаза наполнялись слезами, когда страшная мысль о далекой или близкой, но неизбежной разлуке овладевала вашей душой. А я, не думая о будущем, беспечно наслаждался драгоценными качествами, которым возраст придавал нечто священное.
Мой добрый дядюшка скончался, как и жил, – спокойно, безмятежно, почти весело. Он чувствовал приближение смерти, замечал, как она постепенно сковывала и леденила его члены и, казалось, готов был шутить с нею. Пока он был в состоянии, он не изменял своих привычек; и лишь когда необходимость заставила его отказаться от любимых трудов, он стал дольше обычного задерживать нас около себя. Его страдания (я благословляю господа!) не были чрезмерными, он встречал их безропотно, как докучного гостя, которого все же приходится принимать и даже оказывать ему внимание. Мы сдерживали слезы, сидя у его изголовья; они огорчили бы его сильнее, чем собственные боли, и мы иногда принуждали себя улыбаться, когда он старался весело о них говорить. Однако это было зрелище, достойное глубокого сострадания! Мучения, причиняемые столь добрым существам, кажутся мне оскорбительными для них, и сердце восстает против жестокости недуга, который не делает выбора среди своих жертв.
В прошлое воскресенье он умер у меня на руках. Услышав утром звон колоколов, он сказал: «Для меня звонят в последний раз…» Эти слова вызвали у меня слезы. «Право же, дети мои, вы готовы уверить меня, что я жил недостаточно долго… но я и этим доволен. Не забудьте мою старую Маргариту… Она очень заботилась о моих книгах… и обо мне… Жюль! когда ты будешь писать нашей дорогой даме (так он вас всегда называл), передай, пожалуйста, ей и ее детям мое благословение… и что я надеюсь увидеть ее батюшку в обители благородных душ… если только, – добавил он, – меня туда пустят».
Помолчав немного, он продолжал: «Эта ведьма не ожидала, что я окажусь столь несговорчив… Я не поддамся ей, пока все не закончу… Завещание мое там, в левом ящике… Милая Генриетта! Как приятно было жить подле тебя… передай мой привет твоим славным родителям… и покажи мне еще раз вашего мальчугана. Ведь мой брат и невестка забросят меня вопросами там наверху, сами понимаете… Хорошие вести, скажу им, очень хорошие вести!»
Между тем зрение его ослабевало, дышать ему становилось труднее, и было очевидно, что конец близок. Однако речь его оставалась по-прежнему связной, сознание – ясным, и кроткая теплота его сердца не исчезала до последнего вздоха. Около полудня он подозвал меня: «Если г-н Бернье (наш пастор) вернулся, я думаю… что уже пора (я послал за пастором). У меня была долгая жизнь, и я умираю счастливым… среди вас… Где твоя рука, милый мой Жюль?» Через несколько минут я сообщил ему о приходе пастора.
«Добро пожаловать дорогой господин Бернье… Я уже приготовился, делайте свое дело… Своего Гиппократа я продал… Теперь им пользуется мой знакомый еврей… Но если я оставляю этой ведьме мое бренное тело, то душу мою она не получит… Я поручаю мою душу вам… действуйте, действуйте… смотрите, чтобы она не отлетела… Нить уже очень тонка…»
Пастор прочитал отходную. «Аминь, – повторил за ним дядя… – Прощайте, мой дорогой… до свиданья… Я поручаю вам этих детей». Пастор, человек таких же преклонных лет, пожал ему руку с тем душевным спокойствием, какое дается уверенностью в скорой встрече в ином мире, и вышел. Дядюшка был в забытьи. Час спустя, сделав над собой усилие, он позвал нас слабым голосом: «Жюль!… Генриетта!…» (он держал нас за руки). То были его последние слова, затем дыхание его прекратилось.
Вот, сударыня, простой рассказ о последних минутах незаметного человека, чуждого свету, неведомого даже его соседям, но которого я не могу не причислить к лучшим из смертных. Его долгая жизнь напоминает мне течение безвестной реки, освежающей своим благотворным дыханием скромные берега, которые она омывает, и в водах которой отражается безоблачное, чистое и ясное небо. Я был единственный свидетель, но не единственный предмет его каждодневной, ежеминутной доброй заботы, и я полагаю, что одного моего сердца недостаточно, чтобы достойно чтить его память. Потребность приобщить к этому, хоть отчасти, еще одно сердце, – вот, что побудило меня написать вам обо всем. Позвольте мне, сударыня, сделать откровенное признание. Вы очень много значили в моей судьбе; ваша печаль меня когда-то живо тронула; ваша доброта помогла мне расчистить дорогу к успеху, если не создать его. Все это дает мне основание столь же любить вас, сколь уважать. Но еще более глубоким и сладостным чувством преисполняет меня то общее, в чем соприкасаются и уравниваются наши судьбы: любовь к двум превосходным, столь дорогим нам обоим людям, которых мы оба оплакиваем, и память о которых, позвольте мне надеяться, останется связующим звеном между вами, сударыня, и тем, кто имеет честь быть вашим почтительным и признательным слугой.
Жюль».
Примечания
1 Впервые опубликована в женевском журнале «Revue universelle et littйraire» в ноябре 1836 г. Год спустя новелла без имени автора вышла отдельной книжечкой.
2 Это квартал соседний с кафедральным собором. Дом о котором идет речь, известен под названием «Дома французского благотворительного общества» так как он принадлежит обществу, помогающему же невским протестантам французского происхождения (прим автора)
3 Жиро – широко распространенная фамилия, получившая нарицательный смысл. Употребляется в значении «любой, ничем не примечательный, средний человек».
4 Элегии французского поэта-предромантика Шарля Ибера Мильвуа (1782 – 1816) «Умирающий поэт», «Листопад» и др. пользовались в прошлом веке широкой известностью, в том числе и в России.
5 Элизиум (или Елисейские поля) – согласно греческой мифологии, не знающая бурь и невзгод блаженная обитель, куда после смерти героев и добродетельных людей переселяются их души.
6 Имеется в виду французский писатель герцог Франсуа Ларошфуко (1613 – 1680), автор написанного в афористической форме сочинения «Размышления, или моральные изречения и максимы» (1665). В глазах наблюдателя придворной жизни и нравов XVII в. движущей силой человеческих поступков являются себялюбие, эгоистический расчет, тщеславие; добродетели – это лишь искусно переряженные пороки.
7 Познай самого себя! (древнегреч.).
8 Тёпфер полусерьезно, полуиронически полемизирует с модной в те времена «теорией» (френологией) немецкого врача Франца Галля(1758 – 1828), пытавшегося судить об умственных способностях и характере человека по внешней форме его черепа.
9 Эвхариса– нимфа, в которую страстно влюблен Телемак. герой романа французского писателя Фенелона «Приключения Телемака» (1699). Фенелон де Салиньяк де ла Мотт (1651 – 1715) – писатель-моралист, один из образованнейших людей своего времени, был воспитателем внука Людовика XIV и в назидание ему создал этот роман, прославлявший «истинные» добродетели и подвергавшей критике тогдашнее высшее общество, особенно придворные круги, как царство эгоизма и стяжательства. Галатея, Эстелла – героини одноименных пасторалей французского писателя Ж. П. Клари де Флориана (1755 – 1794).
10 Сент-Бёв отмечал, что «„Эстеллу" нужно читать в четырнадцать с половиной лет, в пятнадцать для мало-мальски развитых уже слишком поздно». (Цит. по: История французской литературы. М. – Л., т. I, 1946, с. 794). Слова Сент-Бёва говорят о чрезвычайной наивности Жюля.
11 Имеется в виду эпизод из уже упоминавшегося (см. комм. 6) романа Фенелона «Приключения Телемака». Согласно поэме Гомера «Одиссея», сюжетную линию которой продолжает роман, обольстительная нимфа Калипсо, влюбившись в Одиссея, семь лет не отпускала его со своего острова. В начале романа Фенелона рассказывается о том, как сын Улисса (Одиссея) Телемак, который разыскивает своего отца, попадает на тот же остров и увлекается нимфой Эвхарисой. Калипсо и Эвхариса стараются с помощью любовных чар удержать Телемака. Сопровождавший его учитель Ментор, чье имя стало нарицательным для обозначения воспитателя и наставника, отчаявшись уговорить юношу спастись бегством от роковой страсти, сталкивает Телемака в море и вместе с ним доплывает до проходившего мимо корабля.
12 Лидийская царица Омфала так очаровала великого героя Геракла, что он, забыв о своих подвигах, сидел у ее ног за прялкой (греческая мифология).
13 Французский ученый Жозеф де Жувенси (1643 – 1719) занимался обработкой и изданием римских классиков для школьников.
14 Римский оратор и философ-стоик Катон Марк Порций Младший, или Утический (95 – 46 до н. э.) пользовался репутацией честного и неподкупного человека. Защитник республиканских свобод и противник рвущегося к власти Юлия Цезаря, он после победы последнего покончил с собой в африканском городе Утике, бросившись на меч.
15 Цитата из басни Лафонтена «Два голубя», повествующей о невзгодах голубя, который бросил свое гнездо и отправился путешествовать. Спасаясь от смерти, голубь спрятался под плетнем, но и там его настиг черепок, брошенный ребенком. Данная цитата приводится в ее классическом русском выражении из одноименной басни И. А. Крылова.
16 Тёпфер иронически обыгрывает фамилию Цицерона (cicer по-латыни означает горошина), знаменитого римского оратора и государственного деятеля (106 – 43 до н. э.); Сципион Назика (ум. 132 цо н. э.) – ярый противник аграрной реформы Тиберия Гракха и виновник его смерти (см. комм, 35); носил кличку «носатый» (nasica).
17 Французский писатель Арно Беркен (1750 – 1791) был автором нравоучительных произведений для детей и юношества. Особой популярностью пользовалась его книга «Друг детей».
18 Тепфер обыгрывает фразу из «Естественной истории» французского естествоиспытателя и писателя Жоржа-Луи Леклера, графа де Бюффона (1707 – 1788), гласившую, что самое благородное завоевание человека – это лошадь. «Естественная история» Бюффона в научном отношении давно устарела, но сохранила свое значение как этап в развитии французской научной прозы. Склонный к подробным описаниям и отступлениям Тёпфер не избежал влияния Бюффона. Примечательно, что и Л. Н. Толстой высоко ставил прозу Бюффона: «Читал прекрасные статьи Бюффона о домашних животных. Его чрезвычайная подробность и полнота в изложении – нисколько не тяжелы» (Дневник молодости Л. Н. Толстого, т. I, 1847 – 1852. М., 1917, с 114).
19 «О галльской войне» (лат.). сочинение Цезаря «Записки о Галльской войне».
20 Эльзевирами назывались книги, издававшиеся в XVI – XVII вв. семьей голландских печатников по фамилии Эльзевир и служившие образцом книгопечатного искусства.
21 Блез Паскаль (1623 – 1662) – французский математик и философ; математический талант Паскаля проявился очень рано, еще в детском возрасте.
22 Французский поэт-баснописец Жан де Лафонтен (1621 – 169э) начал заниматься литературой в зрелом возрасте, тридцати трех лет от роду.
23 Полемический выпад в адрес радикальных литературно-политических группировок, к которым Тёпфер относился критически, даже враждебно.
24 Федр (ок. 15 до н. э. – ок. 70 н. э.) – римский поэт-баснописец, вольноотпущенник императора Августа, один из предшественников Лафонтена в жанре басни.
25 Лафонтен в житейских делах был человеком неискушенным и до крайности рассеянным. Представленный однажды королю, чтобы вручить ему томик своих стихов, он вынужден был признаться, что забыл книгу дома. Король Людовик XIV (1638 – 1715, правил с 1643) недолюбливал простодушно-лукавого поэта и одно время противился его избранию в Академию.
26 В руки Жюля попал «Исторический и критический словарь» французского философа-скептика Пьера Бейля (1647 – 1706), предшественника Вольтера и других энциклопедистов.
27 Элоиза – возлюбленная французского средневекового философа и богослова Пьера Абеляра (1079 – 114/). Тёпфер пересказывает трагическую историю любви Абеляра и Элоизы, которая запечатлена в их переписке (1132 – 1136). Взгляды Абеляра, родоначальника рационалистического и критического направления в средневековой схоластике, были осуждены католической церковью как еретические.
Письма Элоизы и Абеляра были еще в XII в. переведены с латинского языка на французский. На этот сюжет во французской литературе написано множество романов, драм, поэм. Ж.-Ж. Руссо использовал имя возлюбленной Абеляра в названии своего романа «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).
28 Поммие – община (коммуна) в Верхней Савойе; гора Салевнаходится недалеко от Женевы.
29 Шамбери– главный город Савойи – исторической провинции Франции, расположенной в Альпах. Сестрами Сакре-Кёр называли себя члены женской религиозной конгрегации, основанной ок. 1800 г. французским аббатом Турнелем и призванной давать христианское воспитание молодым девушкам из обеспеченных семей. «Сестры» были одеты в черные рясы и такого же цвета пелерины, на голове они носили белые гофрированные чепцы с большой черной вуалью.
30 Согласно средневековому преданью, папский престол после Льва IV (умер в 885 г.) в течение двух лет занимала женщина по имени Иоанна. Однажды во время процессии, проходившей в Риме между Колизеем и церковью св. Климента, она внезапно разрешилась от бремени и тут же скончалась. Интересно, что А. С. Пушкин, современник Тёпфера, заинтересовался этим сюжетом и намеревался использовать его в своем творчестве (См.: Пушкин А. С. Поли, собр. соч. В X тт. т. V, Л., 1978,с. 442).
31 Монастырь, в котором приняла пострижение Элоиза; расположен недалеко от Парижа.
32 Параклет – аббатство, основанное Абеляром в 1129 г. на территории департамента Об; первой аббатисой его стала Элоиза. Параклет по-древнегречески означает «заступник», «утешитель». В Евангелии этот термин употреблялся для обозначения святого духа.
33 Сен-Дени– одно из крупнейших аббатств Франции, расположенное близ Парижа и пользовавшееся особым покровительством королевской власти; монастырь Сен-Дени служил усыпальницей французских королей.
34 Антигона, героиня трагедий Софокла, нежно заботилась о своем слепом отце, царе Эдипе, и служила ему поводырем в странствиях («Эдип в Колоне»).
35 Джон, принесите мне, пожалуйста, мой альбом (англ.).
36 После занятий историей и литературой Жюль взялся за математику; Луи-Пьер-Мари Бурдон (1779 – 1854) – французский математик, автор учебника.
37 Имеется в виду герой беллетризованного педагогического трактата Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762).
38 Римские народные трибуны, братья Тиберий (162 – 133 до н. э.) и Гай (153 – 121 до н. э.) Гракхи, получили блестящее образование под руководством их матери.
39 Как повествует в «Одиссее» Гомер, Пенелопа, жена Одиссея, царя острова Итаки, не веря слухам о гибели супруга, упорно отказывалась вторично выйти замуж и, чтобы избавиться от назойливых претендентов на свою руку, прибегала к хитроумным уловкам.
40 Жюль попал в соседний с Женевой кантон Во. Коппе– название местности и замка на берегу Женевского озера; замок Коппе, принадлежавший министру финансов Людовика XVI Жаку Неккеру и его дочери, писательнице Жермене де Сталь (1766 – 1817), был известен как один из центров культурной жизни ро-мандской Швейцарии в первые десятилетия XIX в.
41 Эрманс– деревня близ Женевы с развалинами старинного замка.
42 Кантон в юго-западной Швейцарии, граничит с Францией.
43 Вторая часть повести о детстве и юности Жюля – новелла под названием «Библиотека моего дяди» – впервые была опубликована анонимно в журнале «Bibliothиque universelle de Genиve» в январе 1832 г. Женевцы быстро разгадали, кто автор: Тёпфер уже не раз выступал на страницах этого издания с заметками о живописи, его знали «по почерку». Да он и не скрывал своего авторства, опубликовав новеллу отдельной книжечкой в том же году в женевском издательстве Винье. Новелла явилась не только ядром одноименной повести, ее средней частью, она положила начало серии «Женевских новелл», принесших писателю широкую и устойчивую известность. В подготовленном самим Тёпфером иллюстрированном издании 1845 г. эта часть повести получила название «Библиотека».
44 Гроиий– Гуго Гроций (1583 – 1645) – голландский ученый-гуманист и государственный деятель, автор сочинений по вопросам теологии и юриспруденции, основоположник буржуазного международного права. Жюль мог читать один из его основных трудов – «De jure naturali et gentium» («О праве естественном и международном») или «Dе officio hominis et civis» («Об обязанностях человека и гражданина»).
45 Пуффендорф– Саму эль фон Пуфендорф (1632 – 1694) – немецкий философ, историк, юрист, один из предшественников Просвещения. Свой главный труд «О строе нашей романо-германской империи» он выпустил' в свет под вымышленным именем Северино де Монзамбано (Monzambano Severino de. Dei statu nostri imperii romano-germanici, 1667).
46 Ж. Ж. Бурламаки (1694 – 1748) – женевский историк и юрист, автор переведенного на многие языки труда «Принципы естественного права» (1747).
47 Железная дорога между Ливерпулем и Манчестером была открыта в 1830 г., т. е. незадолго до начала работы Тёпфера над «Библиотекой моего дяди».
48 Перефразировка строки из басни Лафонтена «Заяц и лягушки».
49 Фрэнсис Бэкон (1561 – 1626) – английский философ-материалист, провозвестник индуктивно-экспериментального метода в науке нового времени.
50 ИоганнБуксторф(1564 – 1629) – немецкий издатель древнееврейского текста Ветхого Завета.
51 Крезий(1642 – 1710) – немецкий ученый, знаток древнееврейского языка, автор многочисленных работ о Библии.
52 Гиппократ (460 – 377 до н. э.) – древнегреческий врачеватель, заложивший основы народной медицины и врачебной этики. Гаагское издание – в XVI – XVII вв. Гаага была центром ученых филологических исследований, там издавались почти все произведения классиков древности, в том числе и сочинения Гиппократа.
53 Гемицефальгия– комическое словообразование Тёпфера, означает мигрень.
54 Либаний (314 – ок. 400) – греческий ритор, противник христианства. С его книгой «Жизнь Демосфена» Тёпфер познакомился, когда работал над комментированным изданием речей Демосфена. В памяти потомков надолго остались гневные проклятия Либания, страстного поборника язычества, в адрес безграмотных монахов, грабивших и разорявших языческие храмы. Вполне естественно, что дядюшка Том, считая себя обворованным, вспоминает Либания.
55 Единорожденный (лат.). Булла Unigenitus– знаменитая булла папы Клемента XI, изданная в 1713 г., начиналась словами Unigenitus Dei filius (единорожденный сын бога). Булла провозглашала главенствующую роль церкви в государстве и предавала анафеме янсенистов – сторонников созданного голландским теологом Корнелиусом Янсением (1585 – 1638) учения о непреодолимой силе человеческих страстей, не контролируемых ни разумом, ни волей. Янсенизм как разновидность католицизма был направлен против иезуитов и осуждался официальной церковью.
56 Этот отрывок дан в тексте на старофранцузском языке.
57 Третья часть повести, «Генриетта», первоначально была опубликована в ноябрьском н декабрьском номерах журнала «Bibliothиque universelle» за 1837 г
58 Освящено ее шагами, озарено ее очами – слегка измененная строка из басни Лафонтена «Два голубя».
59 Остаде– Адриан Остадефон (1610 – 1684) – голландский художник и гравер, известен картинами из крестьянской жизни.
60 Давид Теньерс(1610 – 1690) – фламандский художник, мастер жанровой живописи.
61 Эти слова, как и весь предыдущий отрывок, – явная полемика с радикалами, политическим противником которых был консерватор Тёпфер.
62 Глиптика – искусство резьбы по камню.
63 Дидона – легендарная финикиянка, дочь царя Тира; оставшись вдовой, переселилась в Африку, основала там город Карфаген и стала его царицей. В «Энеиде» Вергилия, которой в годы учения увлекался не только герой «Библиотеки моего дяди», но и сам Тёпфер, рассказывается о том, как троянский герой Эней, заброшенный бурей к берегам Африки, встретил радушный прием у властительницы Карфагена. Выслушав рассказ о злоключениях Энея, Дидона воспылала к нему любовью. Когда Эней все же оставил ее и отплыл в Италию, она в отчаянии взошла на костер и пронзила еебя мечом.
64 Ярба– царь Ливии, любовь которого Дидона отвергла.
65 По преданию, Венера была матерью Энея.
66 [Мать явилась ему навстречу среди леса густого,]
Девы облик приняв, надев оружие девы,
Или спартанки, иль той Гарпалики Фракийской, что мчится
Вскачь, загоняя коней, настигая крылатого Эвра.
Легкий лук за плечо на охотничий лад переброшен,
Отданы кудри во власть ветеркам, свободное платье
Собрано в узел, открыв до колен обнаженные ноги (лат.).
Жюль цитирует поразивший его воображение отрывок из «Энеиды» (I, 315 – 319), в котором рассказывается о встрече Энея с его матерью – богиней Венерой, явившейся ему в обличье девы-воительницы. Здесь, как и в дальнейшем, все цитаты из «Энеиды» даются в переводе С. Ошерова (Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971).
67 Фидий – выдающийся древнегреческий скульптор (500 – 432 до н. э.).
68 Франсуа Буше (1703 – 1770) – живописец, ведущий представитель французского рококо. Жан-Батист Лепранс(1733 – 1781) – французский художник, ученик Буше; жил в России, расписывал потолки Эрмитажа.
69 Отрок несчастный, – увы – если рок суровый ты сломишь, Будешь Марцеллом и ты! (лат.). Вергилий. Энеида, VI, 882 – 883. Цитата взята из эпизода, действие которого происходит в потустороннем царстве; Эней узнает о судьбах людей, как живущих, так и еще не родившихся. «Отрок несчастный» – Марк Клавдий Марцелл, любимый племянник Августа, умерший в юности, которого прочили в наследники императору. Он не сумел «сломить рок» и «стать Марцеллом», т. е. утвердить себя в жизни подобно своему далекому предку и тезке, выдающемуся полководцу Марку Клавдию Марцеллу (III в. до н. э.).
70 Страшусь и дары приносящих данайцев (лат.). Вергилий. Энеида, II, 49. Выражение употребляется, когда речь идет об опасных дарах коварных врагов. Источником его является сказание о Троянской войне, повествующее о том, как дакайцы (греки) хитростью победили троянцев, подарив им деревянного коня, в котором спрятались вооруженные греческие воины. Когда троянский жрец Лаокоон увидел коня, он воскликнул: «Страшусь и дары приносящих данайцев».
71 [Да и привычки женские:] покуда с места тронутся, уж год прошел (лат.). Теренций. Самоистязатель, 240, перевод А. В. Артюшкова (Теренций. Комедии. Academia. M. – Л., 1934) не совсем точен. Подстрочный перевод звучит так: «Пока причешется, пока припудрится, тут и год прошел».
72 … изменчива и непостоянна женщина! (лат.). Вергилий. Энеида, IV, 569 – 570. С этими словами бог Меркурий обращается к спящему Энею, торопя его скорее покинуть Карфаген, чтобы избежать гнева оскорбленной Дидоны.
73 … способна на все в исступлении женщина (лаг.). Вергилий. Энеида, V, 6. Мысль, что «способна на все в исступлении женщина», вызывает у отплывшего из Карфагена Энея мрачное предчувствие.
74 Ничего нет приятнее, чем жизнь холостая! (лат.). Гораций. Послания, I, 1, 88; перевод H. С. Гинцбурга (Квинт Гораций Флакк. Поли. собр. соч. М. – Л., 1936).
75 Сломилось всe, что есть земного.
Кроме суровой души Катона (лат.).
Гораций. Оды, II, 1, 24; перевод Н. И. Шатерникова (Квинт Гораций Флакк Оды. М., 1935). Тёпфер цитирует неточно, у Горация cuncta terrarum subacta (вместо subacta «сломилось» – mutata «изменилось»). Речь здесь идет о Катоне Утическом (см. комм. 11 к ч. I).
76 Землемер занимался составлением кадастра, т. е. журнала по учету и оценке земельных угодий, который велся в каждой общине для определения размера земельного налога.
77 [Там приданым для девушки]
Служит доблесть отцов… (лат.).
Гораций. Оды, III, 24, 21; перевод Г. Ф. Церетели (Квинт Гораций Флакк. Поли. собр. соч.).
78 …то высоким напевом, то низким,
Басом густым, подобным четвертой струне тетрахорда (лат.).
Гораций. Сатиры, I, 3, 7 – 8; перевод М. Д. Дмитриева (Квинт Гораций Флакк. Поли. собр. соч.).
79 Доколе же ты!!! (.лат.). Начало знаменитой первой речи Цицерона, произнесенной им в 63 г. в римском сенате против Луция Сергия Катилины, возглавившего заговор против республики.
80 Дал ведь не ложно я Клятву святую (лат.). Гораций. Оды. II, 17, 9 – 10; перевод Н. С. Гинцбурга (Квинт Гораций Флакк. Поли. собр. соч.).
81 Противна чернь мне, чуждая тайн моих (лат.). Гораций. Оды, III, 1, 1; перевод Н. С. Гинцбурга (Квинт Гораций Флакк. Поли. собр. соч.).
82 О, день и ночь [вы, Пизоны,] читайте [творения греков]! (лат.). Гораций. Наука поэзии, 269, перевод М. Д. Дмитриева (Квинт Гораций Флакк. Поли. собр. соч.). «Наука поэзии» – это позднее название «Послания к Пизонам»; в русском переводе сохранено обращение к ним.
83 Если б мы так разбирались и в дружбе… (лат.). Гораций. Сатиры, I, 3, 41; перевод M. Д. Дмитриева (Квинт Гораций Флакк. Поли. собр. соч.).
84 Ничего нет приятнее, чем жизнь холостая! (лат.).
85 Дал ведь не ложно я клятву святую (лат.).
86 Добро бы строить! Но сажать в такие лета!
Неужли запретить хотите мудрецу
____________________
О благе ближних прилагать старанья. – Тёпфер цитирует строки из басни Лафонтена «Старик и трое юношей».
87 Хочу я цветами щедро осыпать… (лат.). Вергилий. Энеида, VI, 884. Полностью отрывок гласит:
Дайте роз пурпурных и лилий:
Душу внука хочу я цветами щедро осыпать,
Исполнить долг перед ним
хоть этим даром ничтожным. -
Это слова отца Энея, Анхиза, произнесенные им в царстве мертвых при виде тени юного Марцелла (см. комм. 12 к ч. ГП).
88 Аристотель считал перипетии важнейшим элементом сложной фабулы художественного произведения, означающим «перемену событий к противоположному, притом… по законам вероятности или необходимости» (Аристотель. Поэтика. М., 1957, с. 71 – 73).
89 Пактол (или Сарабат) – небольшая река в восточной части Малой Азии, считалась золотоносной; по преданию, ей был обязан своим сказочным богатством лидийский царь Крез.