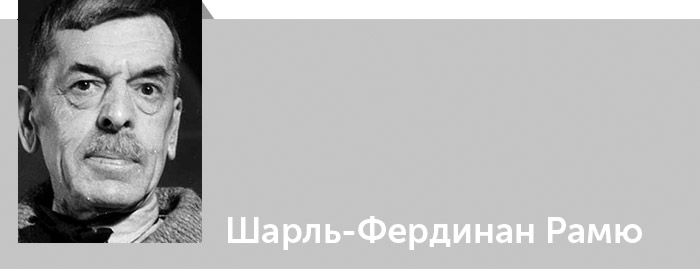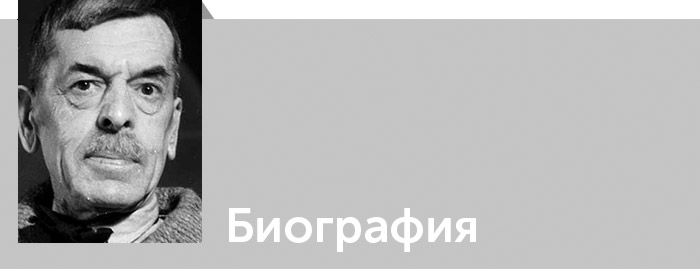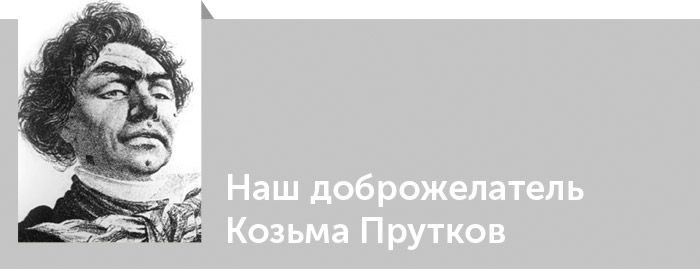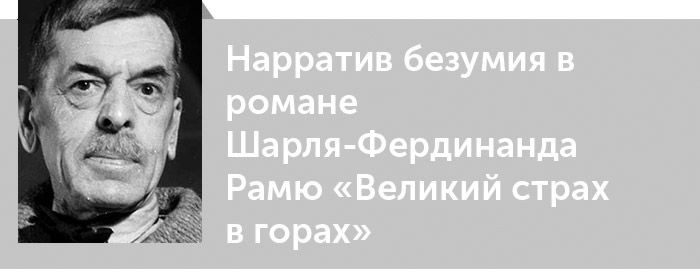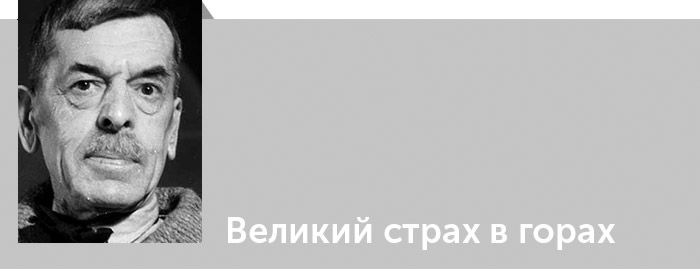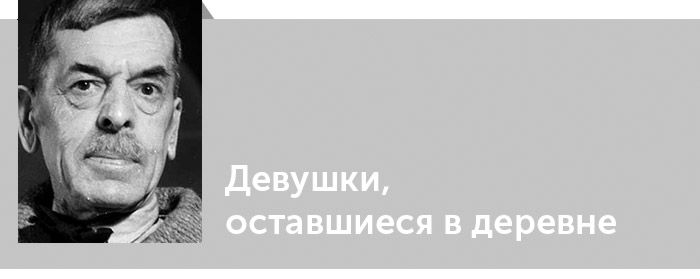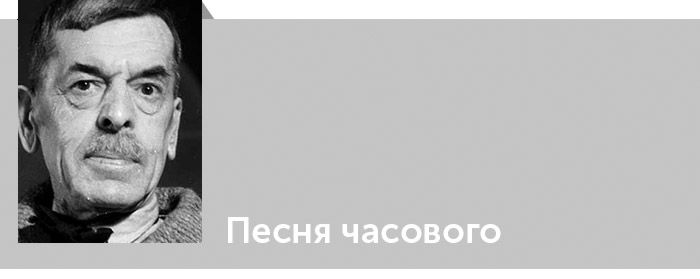Шарль Фердинанд Рамю. Красота на земле
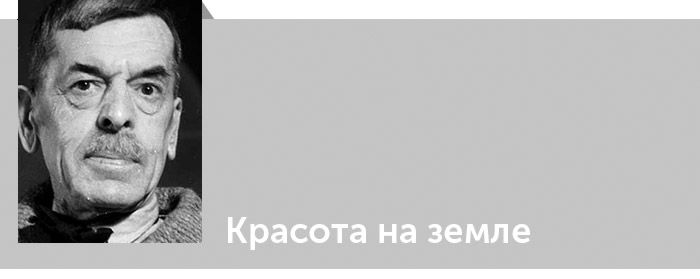
Глава первая
— Гляди-ка, — сказал патрон, — это же американская марка? Ну да, Сантьяго, остров Куба. Да и письмо официальное, сразу видно…
— Черт возьми, — сказал Руж. — На твоем месте я бы ее пригласил.
— Думаешь?
Мужчины расположились у большой застекленной двери, которая выходила прямо на террасу и была распахнута настежь, хотя стояла только середина марта. Кроме них, в заведении никого не было. Миллике снова развернул письмо, отпечатанное на машинке, да вдобавок на бланке, что не могло не произвести впечатления.
— Все верно…
Жорж-Анри Миллике, 54 года, скончался 23 февраля 27-го в больнице Сантяго де Куба…
Жорж-Анри — это и вправду мой брат… — Миллике снова начал читать вслух: —
Во исполнение его последней воли, если не последует на то иных ваших распоряжении, сумма в 363 доллара, за вычетом путевых расходов
… Ну, и что делать, дружище Руж?
— Сколько ей лет?
— Девятнадцать.
— Славный возраст.
— Да уж, — заметил Миллике. — Но кто знает, как ее там воспитали и чего она набралась у этих негров в тропиках… Да и климат здесь…
— Она приедет в самый сезон!
— Да, но…
Он бормотал, склонив над письмом рыхлую физиономию, изрезанную морщинами, которые, на манер разлиновки в тетрадях, шли у него от подбородка через все щеки.
— Ведь о нем уже тридцать пять лет ни слуху ни духу… Я-то думал, что он уж давно на том свете…
— А вышло, что нет. Ты просто ошибся, бывает… А вот братец твой так не думал, а иначе зачем бы дал адрес консулу. Чего уж тут, брат есть брат… Не бросать же племянницу у этих американцев.
Миллике пожал плечами, обтянутыми рыжим охотничьим жилетом из грубой шерсти, надетым поверх рубахи без ворота.
— Пойми же, — сказал он, — на все про все триста шестьдесят три доллара… А вычесть еще расходы на дорогу… Сколько дорога может стоить? Долго ей до нас добираться, не знаешь?
— На марку взгляни.
— Так, три недели. Ну вот! Сам посчитай. Билет на пароход, поезд, питание, гостиница…
— Заладил. Лучше подумай, что скажут люди, когда узнают, что ты отвернулся от своей племянницы. Да и о том бедняге не забывай… Представь только, что ты на смертном одре… У тебя ни родных, ни друзей, конец близок… Дочь остается одна-одинешенька, и ни гроша денег… Ну, и о чем же ты станешь думать в такой миг, как не о родных краях и семье, даже если ты их Бог знает когда покинул? Он сказал себе: «Какое счастье, что у меня есть брат…» Быть может, он едва успел послать за консулом…
— Ну уж! — сказал Миллике. — Да он и адреса моего не знал…
Он продемонстрировал Ружу изрисованный химическим карандашом конверт.
— Ну, и что же с того? — сказал Руж. — Главное, что он умер спокойно, веря, что может на тебя положиться. А дальше как знаешь…
Миллике снова вздохнул, провел рукой по затылку, потом еще и еще.
— А что скажет моя жена?
Руж выплеснул в стакан все, что оставалось в трехсотграммовом графине, и ничего не ответил.
Его широкое красное лицо с заметно тронутыми сединой усами венчала морская фуражка с кожаным лакированным козырьком. На нем был синий свитер с высоким воротом и пуговицами на плече. Руж сидел на табурете, подавшись вперед своим приземистым, плотным, почти квадратным телом, и попыхивал трубкой, свисавшей из угла рта. Он ничего не ответил, сказав только:
— Да… — Потом снова: — Да…
Взяв трубку в левую руку, он опорожнил стакан, прищелкнул языком и вытер рот тыльной стороной ладони.
— Тебе не попадался Декостер? — спросил он.
Миллике покачал головой.
— Надо бы пойти взглянуть, как он там.
Руж встал, решившись продолжить прерванный разговор:
— Консул не пишет, она хорошенькая? — Он одернул помявшуюся фуфайку и оттянул ее с одной стороны, чтобы достать кошелек. — Скажи себе, что с женой все равно ведь повздоришь, как ни крути. Тебе же не привыкать…
Руж вышел на террасу.
Миллике все еще сжимал письмо в крупной руке, покрытой рыжими волосками. Озеро отражало солнечные лучи. Голые ветви платанов тянулись друг к другу, словно потолочные балки; их тени добирались до столов, внезапно обрываясь и падая на пол. Свет с озера шел из-за окружавшей террасу стены. Миллике сделал шаг, потом другой — и остановился: что делать? Господи Боже мой, вот именно, что делать? Короткие бесцветные усики, жидкая поросль на обвислых веснушчатых щеках.
Снова шажок с правой ноги, через секунду шаг левой…
Жена рано или поздно все равно что-то пронюхает. Это он верно решил — рассказать обо всем Ружу: случись что, тот будет с ним заодно.
— Ну и пусть, будь что будет, будь что будет! Пусть приезжает… Она… — Он на мгновение замер, а потом сказал во весь голос (на сей раз о своей супруге): — Как она мне надоела! Уж лучше отделаться от нее поскорее. Розали… Эй, Розали!..
Мадам Миллике показалась на лестнице.
Весь остаток дня до соседей доносились отголоски нешуточной свары.
Все дело было в этом письме из Америки и племяннице, свалившейся Миллике на голову.
«И все же, — рассудили в округе, — он правильно сделал, что согласился».
Все повторяли за Ружем: «Брат есть брат…»
Глава вторая
Три недели ответ Миллике добирался до адресата, и вот уже наступил апрель. Вскоре они узнали из телеграммы консула, что девушка взошла на борт парохода.
Миллике позаимствовал у учителя географии атлас и теперь изучал его с Ружем.
Они перелистали немало страниц, пока не обнаружили-таки Америку, расположившуюся сразу на трех листах. Поколебавшись, они выбрали нужный.
Залив, а в глубине его остров. На север — красного цвета США, на запад — зеленая Мексика. На юге суша изгибалась и тянулась вверх, словно фиолетовая рука.
— Гляди, — сказал Руж, — это Панамский канал… Ценные бумаги, не помнишь? Нет, ты был слишком мал… Ты прав, они уже там наполовину черные. Не знаешь, кем была ее мать?
— Да ничего, ничего, ничего я не знаю…
Одно понятно: до порта ей было недалеко.
— А дальше он плывет к нам, но вот каким курсом… — Руж говорил о пароходе и водил пальцем по карте: — Островов-то сколько… Если пройти между Кубой и Гаити, или между Сан-Доминго и Пуэрто-Рико, или между Пуэрто-Рико и… Постой-ка… — Он прочитал название на карте: — Вот, Антильские острова, если выйти из Антильского моря, а там уже, как ни плыви, — Атлантический океан…
Руж замолчал, добравшись до края страницы. Пришлось листать страницы назад и искать лист с изображением Африки, похожей на огромную репу. Тут масштаб был уже не тот, и Руж заколебался:
— Погоди-ка, надо определить градус. Вот, двадцатый… Как раз напротив Белого мыса…
Теперь огромный океан был перед ними как на ладони, и Руж силился вообразить его, ведь вода есть и в этих краях, но ее всего ничего, не больше ста километров в длину и десяти — двенадцати в ширину — зажатое между гор озеро. Руж представлял себе бескрайнее пространство, словно ножницами вырезанное из лазурного полотна по кромке неба, а на нем — все шесть белоснежных палуб (Руж вспомнил картинки из иллюстрированных журналов) и огромные, словно башни, трубы.
— Да, он плывет быстро. — Руж сам был немного моряк. — Сегодня они уже недалеко от Канар… У него, конечно, винты. Там нет таких, как у нас, с колесами. В океане волны слишком большие.
Где-то далеко реют морские птицы и палит солнце, а здесь вокруг одни воробьи и еще холодно, утром изморозь появляется на полях, и едва-едва пробиваются первые фиалки; на озере почти нет паровиков, да и парусов не заметно.
Здесь все совсем маленькое. Вот Руж выгребает в своей лодчонке, а больше и смотреть не на что.
Вода тут серая, как песок или морская пена, небо того же оттенка мешает разглядеть горы. В кафе снова раскрыт атлас, над ним склонились Миллике и Руж, а из-за их плеч выглядывают зашедшие промочить горло люди.
— Сегодня она должна быть в Гибралтарском проливе.
Чтобы найти пролив, понадобилось снова перелистать весь атлас; сначала они нашли Италию, а потом и Испанию. Масштаб тут был совсем другой, так что Испания казалась больше Африки. Миллике отозвал Ружа в сторону.
— Я решил отвести ей комнату наверху, знаешь, ту, что на юге… Это хорошая комната…
— Ты прав, — сказал Руж. — Уж если делать, то как положено…
Между тем принесли открытку из Марселя, отправленную уже не консулом, а самой путешественницей.
— Надо полагать, она знает французский, — сказал Миллике. — Брат, должно быть, ее научил.
Дождь. Перед сараями и на мостовой круглые лужи, похожие на ободки полных кофе с молоком кружек. Миллике захватил с собой паренька, толкавшего тележку для сена. Станция совсем маленькая, и прибывающий в 2.40 поезд идет со всеми остановками. Пассажиры почти всегда те же самые: направляющиеся по делам в город местные, коммивояжеры да торговцы скотом в черных и фиолетовых блузах; вот они и выходят, трое или четверо. Миллике стоит во главе небольшой процессии. Приезжие вышли на перрон и идут к выходу из вокзала; начальник станции подносит свисток к губам и вот-вот даст сигнал к отправлению. Тут-то все и видят, как контролер прыгает обратно в вагон и вновь появляется уже с чемоданом.
Поезд быстро исчез из виду, пассажиры потянулись к дороге. Держа над собой зонт, Миллике вышел вперед. Он еле передвигал ноги в грубых ботинках коровьей кожи с латунными глазками для шнурков: в тот день варикоз особенно досаждал ему. Не останавливаясь, он обернулся и знаком подозвал мальчика. В тот миг от тянувшегося без конца времени, от всех этих островов и морей, от всех проплывавших перед ним стран (Руж со своим атласом разбередил-таки его воображение) остался только перрон, куцая и жалкая серая полоска.
Фигура без рук и ног, которую Миллике и разглядеть-то не мог под просторным плащом с капюшоном. Ее слабое ответное рукопожатие и его слова:
— Ну вот! Как дела? — И еще: — Как путешествие? Не ближний свет, правда?
Она едва подняла голову; чемодан, чьи пухлые бока стягивал один-единственный ремень, стоял у ее ног; старый кожаный чемодан, с протертыми углами и отслужившим свое замком.
Вот он идет рядом с племянницей; он молчит, и она молчит. Сзади семенит парнишка, еле удерживая тележку для сена на идущей под гору дороге. Они прошли под железной дорогой; слева аллея из вязов вела к большому квадратному дому, который прозвали Замком. Накрапывал мелкий дождичек, который, казалось, не падал с небес, а струился по воздуху, обволакивая людей. Миллике шел под своим зонтом, а она куталась в плащ. Если посмотреть направо, можно было увидеть поля, сады и две-три крупные фермы; слева, сразу после Замка, шли строем домишки поменьше: домик розовый, домик желтый, совсем новый домик, а в нем магазинчик, у дверей которого два или три человека. Они, должно быть, сказали себе, что смотреть особенно не на что, да так оно и было, пока все не дошли до конца улицы, ведущей к озеру. Здесь Миллике остановился и сказал:
— Вот мы и пришли.
Дверь приоткрылась, и в ней показалась голова мадам Миллике, повязанная черной косынкой. Миллике держал чемодан.
— Послушайте-ка… — сказал он и поправился: — Послушай, я сразу покажу тебе твою комнату. Ты, должно быть, устала.
Он пошел первым по выкрашенному желтой краской коридору и поднялся на второй этаж. Они очутились перед грубой еловой дверью, напротив которой располагалась еще одна, точно такая же.
Миллике открыл дверь и сказал:
— Ну, будь как дома.
Он поставил чемодан у кровати на коврик с изображением высунувшей язык черно-белой собаки.
— Если что-то захочешь, ты только позови.
Соблюдая приличия, Руж появился немного спустя.
— Ну, что?
— Что? Она здесь.
Руж устроился в зале на своем привычном месте; поколебавшись, он снова спросил:
— И как она из себя?
Он взглянул на Миллике, тот пожал плечами:
— Откуда я знаю? — И сразу: — Ты что будешь пить? Что ты хочешь, чтоб я сказал? Она и рта не раскрыла.
— Может, она языка не знает?
— Но понимает она меня отлично.
— Триста грамм молодого.
Когда старого, когда и молодого — зависит от времени и настроения. Случалось, по триста, случалось, и по пятьсот.
В тот день над водой и на триста метров ничего нельзя было разглядеть: дальше словно занавес висел, весь в складках.
Миллике подошел со стаканом и графином. Руж сидел молча.
Миллике смотрел сквозь стекло на тоскливые завесы тумана, сменявшие друг друга над озером, словно по мановению невидимой руки. Рука уводила их, нанизывая на далекий карниз. Наконец за спиной Миллике раздался вопрос (не так-то просто было его задать):
— А в остальном?
Миллике глянул на Ружа через плечо.
— Ну да, как она из себя?
— Понятия не имею.
На том и закончился разговор.
В шесть часов Миллике послал наверх кофе с прислугой; девушка не появлялась весь день.
Когда стемнело, Миллике вышел на террасу посмотреть, не светится ли у нее окно, — света не было. Сверху не доносилось ни звука, хотя в доме были простые полы без ковров, а комната супругов Миллике находилась как раз под комнатой девушки. Ни малейшего скрипа, ни звука шагов. Закрыв заведение, Миллике направился к жене.
— Ну, и что там делает эта девица? — спросила она. — Ты уверен, что она не сбежала?
Глава третья
День шел за днем, и как-то утром Миллике попросил ее показать документы.
Документы имелись — консул собственноручно поместил их в перетянутый резинкой желтый конверт. Не говоря ни слова, она протянула его Миллике.
На ней было платье и черный платок на голове. Она присела на маленький плетеный стул.
— Понимаешь, положено, чтобы все было в порядке.
Надо пойти к секретарю муниципалитета. Если какой-то бумаги недостает, тот скажет… Она не двинулась с места, пока Миллике, стоя посреди комнаты, разглядывал содержимое конверта, оттянув резинку толстыми пальцами с рыжими волосками.
— Вот свидетельство о рождении, отлично… Ага, тебе будет двадцать только в будущем марте; пока что я сам буду опекуном, надо бы это оформить…
Он продолжал перебирать бумаги.
Свидетельство о рождении, паспорт, рекомендательные письма, его, Миллике, адрес, выведенный крупными буквами в конце описания маршрута с подписью: место назначения. Ничего больше, ни строки о деньгах. Миллике спросил: «Так это все?» — совестясь из последних сил и не желая говорить прямо. Она кивнула, не ответив ни слова.
Казалось, что ее знобит, она все время куталась в платок. Бросалось в глаза, что она даже не разобрала чемодан, который так и стоял у стены приоткрытым. Миллике еще раз взглянул на племянницу и решил, что пока не время проявлять настойчивость; по всему видно, она еще не отошла с дороги. Он опустил конверт в карман.
— Решено, я его забираю. — И добавил в дверях: — Когда захочешь, спускайся. Надо познакомить тебя с тетушкой. Она ждет.
Миллике привыкли есть на кухне, поставили прибор и для нее; в полдень послали за девушкой, но она не спустилась.
— Ты что, так и будешь посылать своей даме еду наверх? — спросила мадам Миллике. — Славно! Прямо как в пансионе. Ну, если средства тебе позволяют…
Служанка, дородная нечесаная девица с грязными руками, приговаривала, гремя посудой:
— Три раза в день через два этажа! Предупреждать надо было… — И по секрету мадам Миллике: — Знали бы вы, как она ест! Только время переводит и продукт почем зря теребит.
Между тем воздух и гора за озером возвещали немалые перемены. Руж, по старой привычке являвшийся всякий день, как-то остановился на пороге и, задрав голову, произнес:
— Теперь уж, думается мне, погода-то установится.
Дело было в четверг. Выйдя на улицу, он взглянул наверх и почуял не перемену погоды, а долгожданное наступление другого сезона. Руж ничего не прибавил к своим словам, но вовсе не потому, что его не одолевало любопытство. К слову сказать, оно одолевало не только его одного, ибо никто из соседей и завсегдатаев кафе так еще и не видел девушку. Тем, кто в самые первые дни приходил к Миллике с вопросом: «Ну, как там племянница?» — он неизменно отвечал: «Она отдыхает». Даже для Ружа не нашлось ничего иного. Люди говорили: «Эта девушка и вправду тихоня».
Тем временем через какую-то прореху в небе на землю протянулась золотистая лестница, словно канат, брошенный утопающим. По дороге домой Руж всегда шел песчаным берегом, вдоль которого тянулись луга и сосновый лес чуть вдали: там донесся до него идущий из глубины леса неслыханный голос. Стоит запеть кукушке, как девушки говорят друг другу: «Есть у тебя деньги в кошельке?»; если есть — это добрый знак, и тогда весь год будешь с деньгами. Там, наверху, теплый ветер сражался с холодным — здесь пела кукушка. В какой-то миг облака дрогнули и покатились по склону небес одно за другим на юг. В субботу небо стало совсем чистым, как и сама деревня, где все готовились к воскресенью. Не погода это менялась и даже не время года — там, наверху, все стало таким прекрасным, как никогда прежде: над Ден Д’Ош, над ее пиками и зубцами, на Корнет, на Бийиа, на Вуарон, на Моле, на Салонне; на перевалах, в долинах, на скалистых склонах и пастбищах. Кто-то взял сначала густой березовый веник, большой и грубый, как тот, которым метут конюшни; потом настал черед плоской метлы из рисовой соломы. Повсюду вокруг снежные шапки гор сияли, как перевернутые фаянсовые чашки и блюдца. Там, наверху, — лишь обрывки облаков, быстро летящие за горы на юг, словно маленькие паруса, надутые злыми ветрами. Внизу по воде тоже плыло маленькое облачко, и казалось, что оно оторвалось и отстало от тех, наверху: это был Руж, выбравшийся на вольный воздух в компании Декостера.
В субботу после обеда Миллике принялся выносить из сарая столы и скамейки, составленные туда на зиму. Ему помогала служанка, не упустившая случая сказать, что это вовсе не ее дело. Держась каждый за свой край, они выносили с заднего двора тяжелые крашенные зеленой краской столы. Время от времени Миллике поглядывал на два небольших окошка наверху, но они так и оставались закрытыми. Он давал себе минуту отдыха, стоя рядом со служанкой в своей кофте из серой фланели, криво застегнутой на груди, и вздыхал, положив руки на бедра. Миллике весьма ценил свою террасу, особенно в ясный воскресный денек, когда людей тянуло на улицу; к тому же в наши времена множество коммерсантов обзавелось легковыми автомобилями или грузовичками, которым как раз в тот день настала пора подлатать кузов. Поскольку дела в заведении шли не так хорошо, как хотелось бы, лишний доход упускать не следовало. Миллике снова вцеплялся в один из шести тяжелых и длинных столов — приходилось признать, слишком тяжелых и длинных, но ведь это были кухонные столы, купленные по дешевке и самолично покрашенные, чтобы превратить их в садовые.
Над террасой нависали платаны, росшие у стены набережной, за которой виднелись озеро и часть горы между стеной и могучими ветвями. Летом они покрывались листьями и превращались в потолок, сквозь который не проникало ни солнце, ни человеческий взгляд; но в тот день они были еще совсем голыми и точь-в-точь походили на изъеденные временем и покрытые буграми, отверстиями и трещинами мощные балки, которым палившее из года в год солнце выкрутило суставы. Причудливые сплетения ветвей обрамляли небесные ромбы — черная решетка на голубом фоне. Солнце светило, но с внутренней стороны ветви еще сочились влагой.
Воскресный день и терраса, с которой, если смотреть прямо, открывается вид на озеро. С востока она выходит на улицу, с запада — в переулок, с другой стороны которого площадка для игры в кегли. Озеро все в морщинах от ледяного ветра, а здесь — ни движения все теплеющего под солнечными лучами воздуха.
С одиннадцати утра игроки в кегли становились все оживленнее; через стену можно было увидеть, что они уже поснимали свои пиджаки — воскресные пиджаки серо-стального цвета. Звук разлетавшихся кеглей напоминал раскаты смеха. В кафе собрались любители аперитива — в тот день их было больше, чем обычно, и все из-за такой славной погоды (а может, и по какой другой причине). Игроки в кегли пили прямо на площадке: кто пил за игрой, а кто пил в кафе. Служанка ходила туда-сюда, Миллике тоже, появилась наконец и мадам Миллике; а наверху все не было никакого движения. С подсыхающей террасы шел пар.
Вот и полдень.
«Терраса, — позже рассказывал Руж, — была уже наполовину полна людьми, которых никто не знал — они не были местными. В кафе тоже было немало народу, но там все свои. К чему я веду-то: у Миллике было полно забот — оно и к лучшему, не каждый день выпадал такой наплыв людей. Он обслуживал зал, а служанка — террасу; мадам Миллике ворчала на кухне. Было сразу заметно, что в семье что-то снова не ладится, хотя дела-то как раз шли неплохо, и даже очень. Впрочем, для многих что очень, что не очень — это что в лоб, что по лбу. Поднакопили жирок или нет, все равно жалуются, а все оттого, что мера у человека внутри, а если ее там нет, то никогда и не будет. Вот, к примеру, служанка уронила стакан — мадам Миллике уж тут как тут. Как закричит: „Нет, разве это жизнь!..“ Миллике ей отвечает недовольно: „Чего там у тебя еще?“ Мы все в кафе посмеивались. Нас был добрый десяток, да только уж если ей что вступит в голову, то держись. „Чего еще? Хорошо, я скажу… Я тут с утра уже с ног сбилась, да еще до вечера бегать, а то и до полуночи, и все это в пятьдесят три года, а там наверху какая-то дурында…“ Миллике звали со всех сторон, и он сказал: „Замолчи, замолчи же!..“ И клиентам: „Иду, иду!“ — „…Дурында, которой подати обед наверх даже в такой день, как сегодня, ну, попробуй скажи, что нет, скажи перед всеми этими господами… Да, господа, ей отнесли обед, этой недотроге, уж можете мне поверить…“ Ну, и пошла дальше без остановки, у нее так всегда: начнет молиться, так уж и лоб расшибет… И тогда Миллике решился. Он кого-то там обслужил, а потом я увидел, что он пошел в коридор…»
Она снова вытянулась на кровати. Потом в который раз уже встала и села на стул, не понимая, зачем садится, опять улеглась и опять встала… В голове ее все перепуталось, и время от времени какие-то картинки словно росли и заслоняли другие: вот корабельная палуба, вот накрахмаленная скатерть с тарелкой и стаканом. Или дородная дама в желто-белой повязке и стянутой на талии серой жакетке со стоячим воротником; было заметно, как одна из пластин врезается в ее подбородок всякий раз, как она открывает рот… Стена с серыми обоями в белую розочку. Она видела стену сквозь другую картинку, которая постепенно бледнела и становилась прозрачной, словно изношенное полотно.
Вот она встает и идет потрогать стену. Потом снова садится, а стул плывет под ней вверх и вниз, заставляя сжиматься сердце. Ей кажется, что стемнело; в тумане ревут сирены. Дверь толкают, и она открывается. Она закрывает лицо руками и сквозь пальцы видит, что ей несут еду на подносе; потом она долго плачет. Она, должно быть, спала, спала долго. Кто знает, когда спишь, а когда нет. Дни и ночи переплелись, как пальцы двух рук. Она здесь и в то же время в больнице: железная кровать, кружка с отваром, белые простыни, ночник, температурный лист, прикнопленный к стене. По крыше колотит дождь, слышно, как воробьи сухо стучат клювами и скребут лапками по жести. А сейчас? Ну да, ее похоронили. Ее отвели к чиновникам, к фотографу, приклеили фотографию к листку и поставили свежую печать наполовину на ее лицо, наполовину на исписанную страницу.
Она снова плачет навзрыд. Ей холодно. Она устраивается на кровати и закутывается в одеяла. Ее вагон у самого паровоза, тот свистит, снова свистит, потом скрипит тормозами — толчок, и вот они встали…
— Жюльет!
Она узнала имя, которое дал ей отец. Кто-то старается открыть дверь, но она заперта на ключ.
— Жюльет, ответь. — И снова: — Ты заперлась. Что это за привычки такие? Так дальше дела не пойдут… Ты должна спуститься. Ты там нужна…
Она садится в кровати и говорит:
— Иду.
Она удивлена. Странно, что стало светло, и цвет стены изменился. Не сон ли это, спрашивает она себя? Она видит, что стена существует, она больше не хочет исчезать; потом начинает сдвигаться, а вместе с ней и потолок. Там, наверху, множество чудных маленьких месяцев, которые двигаются в такт, словно сшитые друг с другом кружева. На полу, будто ковер, распластался солнечный квадрат. И все это явь без обмана. Она словно впервые по-настоящему просыпается. Откуда-то веет приятным теплом: она сбрасывает с себя одеяло. С площадки для игры в кегли вдруг доносится смех, и она поворачивает голову к двум окошкам под самой крышей и не верит своим глазам. Сначала там нельзя ничего различить, потому что свет льется и сверху, и снизу, с неба и от воды. Внизу играют в кегли, по столам стучат стаканами и кружками, говорят во весь голос, подзывают хозяина — а в окнах пожар воды, вспыхивающей, словно пламя из сухих стружек. Внизу вода, но, если посмотреть чуть выше, увидишь землю (если можно назвать землей на том берегу эту полоску, похожую на примятый пальцами воздух); а над ней, и это уж ей совсем чудно, на небесных веревках развешано белое белье заснеженных склонов…
«Тогда-то рабочий от Росси и начал играть, — рассказывал Руж. — И уж не сомневайтесь, второго такого искусника в наших краях не найти. А инструмент!.. В двенадцать басов, весь из ценного дерева, а расписан-то персиковыми цветами — так похожи, что сорвать хочется… Не меньше пяти сотен франков стоит, а уж верхние как чисты — и щеглу не угнаться. Такой инструмент и за километр слышно. Вот она и услышала его из комнаты, из кровати, ведь она же лежала (это уж он присочинил). Только музыка подняла ее и заставила выйти, куда уж там одному Миллике! Это он цену себе набивает, если говорит что другое. Если б не музыка, уж поверьте, она бы и с места не сдвинулась; да ведь она мне и сама так сказала. Не забывайте, что когда она вышла… Все же видели, к кому она идет и зачем. Для такой девушки музыка — это все. До того дня ее ведь никто не видел, и она была словно покойница; да ведь девушки вот как устроены: чуть заслышат мелодию танца — и тут как тут. А уж если родился в тех теплых странах… Видели бы вы, как она вошла…»
Мадам Миллике выходила из кухни и как раз закрывала дверь.
Она так и замерла, опираясь на ручку, а голоса в зале все словно в землю ушли, как отрезало. За стеной коридора родилось предчувствие тишины, и только голоса с террасы были еще слышны. Потом и они стихли.
Лишь звук шара на влажном помосте, как будто перед ненастьем, потом грохот кеглей, и еще:
— Четыре?.. — В полной тишине голос: — Четыре?..
— Нет, пять…
— Ну да, пять. Я и не…
Но вдруг и там все затихло.
А она тогда шла под платанами. И в кафе все молчали.
Она огляделась вокруг, сначала встала спиной к стеклу, потом повернулась лицом к нему и солнцу, и тут как раз поднялся Шови.
Он был, как всегда, в своем котелке с прозеленью, штопанной грубыми нитками вонючей жакетке с разными пуговицами, рваных ботинках и при тросточке. Вышел вперед и встал перед ней, потом поднес руку к котелку, снял его и опустил свою клокастую грязную бороду вниз, выставив вперед два пучка волос и лоснящийся лысый череп.
Глава четвертая
По общему мнению, Миллике явно не прогадал. Надежда на славное наследство в долларах, понятное дело, растаяла, но в утешение рекой потекли франки — не выдуманные и бесплотные, а самые настоящие, приятно оттягивающие карман и позвякивающие в руке. Не прошло и недели, как поток посетителей кафе удвоился — тут уж Миллике не мог ошибиться. Да и кто мог этого не заметить, когда люди все шли и шли, и те, кому удавалось войти, входили, но было еще немало таких, которые из-за возраста, пола или отсутствия денег оставались снаружи и сквозь пупырчатое стекло и занавеси поддельного гипюра пытались разглядеть, там ли она.
Их взгляд натыкался на плотную завесу дыма — как говорится, хоть ножом режь, — потому что мужчины не расставались с сигарами, сигаретами, глиняными и деревянными трубками, чадившими под низким потолком в полумраке. А может, это оттого, что от нее больше не шел свет. В ту пору деревья без устали дружно трудились, силясь занавесить свежей листвой небо над дорогой, и можно было видеть воробышков, присаживающихся на ставни с длинной соломинкой в клюве.
В ту пору трава вырастала за несколько дней по колено, а на дорогах становилось больше машин, приехавших из-за границы (она и сама приехала из-за границы), с черно-белыми табличками А, или GB, или Z. За деревней проходило широкое шоссе — не та доброй памяти старая белая дорога для повозок, а почерневшая от масла полоса, с которой летел гравий из-под колес автомобилей. Там мчались осколки огромного мира, шаря белоснежными фарами поверх плетня по деревьям и словно сбивая зрелые плоды. Оттуда сейчас долетали отблески света, отраженного от капотов, лобовых стекол, никеля, стали, стекла; а на ней было неприметное черное платье и черный кружевной платок на голове (так, должно быть, одевались в тех краях, откуда она приехала).
Так или иначе, но людей приходило все больше. Молва с первого дня расписала ее внешность пусть и неточно, но красочно, и это до сих пор возбуждало любопытство. Клиенты то и дело подзывали хозяина, так что все эти дни, когда Миллике подсчитывал выручку (а он каждый вечер после закрытия заведения шел к кассе и считал монеты и банкноты, накопившиеся за день), он не мог не радоваться или, по крайней мере, имел для этого все основания. Правда, был у него повод и для огорчения. Супруга его даже не подала Жюльет руки, сразу сказав служанке: «Это еще хуже, чем я представляла». Жюльет ела теперь на кухне, но мадам Миллике словно не видела ее и не слышала, когда та здоровалась. Иной раз хозяйка жаловалась или говорила ехидное словцо по ее адресу, но обращалась она только к мужу, который хранил молчание; так ему было проще всего.
А она — она тоже молчала, опустив голову в черном кружевном платке. Приходилось наклоняться к столу (к крашеному коричневому столу, ведь мебель-то была старая), чтобы увидеть ее лицо; приходилось вытягивать шею, и это было уже смешно; но иной раз смех обрывался над полными или отпитыми стаканами в клубах дыма. Люди смеялись и вдруг прекращали, смущаясь. Так случалось, когда она поднимала голову. Все замолкали на полуслове. Они боялись смотреть ей в глаза, потому что тогда в сердце словно входила длинная спица.
Она подавала в кафе, а служанка на террасе; Миллике, должно быть, хотел приглядывать за ней, не спуская глаз. Оттого, если кто-то звал их снаружи, он всякий раз посылал служанку.
Как-то вечером к ним заявилась ватага юнцов. Дни становились все длиннее, и после ужина еще оставалось время сыграть партию в кегли; так, по крайней мере, они объяснили свое появление в тот раз. Сначала они пошли на террасу, потом, оглядевшись и не обнаружив того, что искали, они отправились прямо к шарам, которые словно дожидались их в начале дорожки — большой и маленький, с круглым отверстием для большого пальца и широким захватом для всех остальных.
Верзила Алексис посмотрел через стену на террасу.
— Что берем? — спросил он и стукнул кулаком по столу.
Так вот, на площадке для игры в кегли стоит в тот вечер Алексис, гроза деревни, красавец парень ростом больше шести футов с белобрысыми усиками, низким лбом и вьющимися волосами; что есть мочи он бьет кулаком по столу. Служанка подходит.
Игра еще не началась; все слышат, как служанка спрашивает:
— Что закажете?
Алексис отвечает:
— Ничего! — Тут он берет большой шар. — Гавийе, тебе писать счет!
Гавийе готов.
Служанка все ждет и наконец уходит, не понимая, в чем дело, да и кто бы тогда мог понять. Тогда Алексис снова стучит по столу громче прежнего, взяв валявшуюся под ногами палку.
Он смотрит, кто выйдет; это снова толстуха служанка.
Алексис уставился на нее и ждет, когда та подойдет.
— Вы-то мне зачем?! — говорит он.
— Негодяй! — отвечает служанка и уходит; слышно, как она что-то говорит на террасе. Потом появляется сам Миллике.
— А, это всего лишь вы! — говорит Алексис. Потом, обернувшись к своим: — Пошли-ка отсюда… Придем в другой раз.
Они снова проходят через террасу, и с ними Морис Бюссе, сын синдика. Ему еще восемнадцать не стукнуло, и парень он скромный и сдержанный; поговаривают, правда, что он уже помолвлен.
Руж приходил теперь два раза в день. В тот день он пришел в первый раз часам к двум; потом заявился довольно поздно, уже когда луна вынырнула из-за Ден Д'Ош. Облака цвета грязного льда закрывали небо; вдруг они разошлись, и появившееся в прогалинах небо стало похоже на каналы в полях. Руж толкнул дверь в зал и с удивлением увидел, что внутри пусто. Он подождал, но никто не вышел. Минуту спустя Руж услышат, как кто-то спорит на кухне, и узнал голоса Миллике и служанки. Он подождал еще и решил позвать кого-нибудь. Открыл дверь в коридор и крикнул: «Эй, есть там кто?» Тут голоса внезапно смолкли, и появился Миллике; увидев Ружа, он обхватил руками голову.
— Что это с тобой?
Миллике вышел на свет: лицо у него было еще более серое и помятое, чем обычно; рот его был приоткрыт, а голова поникла.
— Что со мной? — Потом: — Знаешь, это ты во всем виноват. Как будто двух женщин тут не хватало, надо же, ты мне и третью подсунул… А теперь вот… — Он обвел рукой пустое кафе. — Никто не смог это выдержать…
— Миллике, дружище, ты все такой же. Вечно упускаешь свой шанс.
— Шанс? Погляди-ка…
Миллике вынул из кармана охотничьего жилета листок бумаги.
— Держи, — сказал он, протягивая Ружу листок из блокнота, разлинованный для подсчетов.
ТРЕБУЕТСЯ
Это был заголовок, а дальше шло несколько строк с множеством исправлений, написанных аккуратным отчетливым почерком:
Небольшому симпатичному заведению на берегу озера — девушка с хорошими рекомендациями для обслуживания кафе. Обращаться с указанием кода…
— Вот, — сказал Миллике, — до чего я докатился. Даже имя свое указать не могу…
Он — крупный, плотный, в обвисших штанах, с редеющей бородой и рыжеватыми усами — стоял у стола; и тут за площадкой для игры в кегли, под проясняющимся небом — но они-то были под лампами — вдруг заиграл аккордеон.
Руж как раз дочитал объявление и возвратил его Миллике со словами:
— Женщин не знаешь, что ли. — И добавил, стоя в кругу света ламп: — Твою ведь уже не изменишь, чего уж тут? Пусть себе надрывается…
Под засиженными мухами лампами — их было три или четыре, с абажурами из эмалированного железа, тоже пестрящего черными точками, — Руж сказал:
— Садись. А она-то где?
Миллике только плечами пожал:
— Черт возьми! Она в своей комнате. Она снова заперлась в своей комнате. А жена закрылась в своей… Служанка попросила расчет. — Он сел, поставив локти на стол и обхватив руками голову. — Если так пойдет и дальше, я психом стану.
— Нет, — возразил Руж, — есть выход получше. Я ведь сказал, что у тебя есть шанс, и не спорь со мной. Надо лишь с толком взяться за дело…
Луны не было видно. Прямо напротив светились два окна, посаженные так близко, что сливались в одно, но луны видно не было. Вместо нее — лишь вихри мерцающих светлых пылинок в разрывах облаков, как когда видишь лампу через муслин. Тут донеслись первые звуки аккордеона. Они проникали через квадратики окон, чертя на них птичьим крылом узоры и заставляя позвякивать. Она обхватила руками голые ноги и склонилась вперед, вытянув шею. Звуки все плыли и плыли. Она спрыгнула на пол…
— Ты никак не сможешь взять дело в свои руки. Пусть себе кричит…
Вот она уже у двери. Она вслушивается, приложив ухо к тонкой еловой доске. В доме тихо, и лишь снизу доносится какой-то звук, похожий на жужжание мухи, мечущейся за занавеской.
— При чем здесь твоя жена; послушай, Миллике, ты сам знаешь…
Она идет к своему большому кожаному чемодану, вынимает оттуда эспадрильи [1]
Ей ничего не стоит дойти до двери, ведущей в переулок, туда, откуда доносятся звуки. Вот они снова звучат в свежем ночном воздухе, все более громкие и прозрачные; она погружается в мелодию танца, скользящую в открытую дверь коридора…
— Оставь ее в покое, — продолжают говорить в кафе. — Зачем ты заставляешь ее работать? Это вовсе не ее дело. Оставь ее в покое, а иначе она совсем уйдет в себя…
Внутрь проникает мелодия аккордеона и, задев ненароком мужчин, кружится под железными абажурами.
— Ты знаешь, это как крылья бабочки — тронь их, и они посереют… Дай ей свободу, а если она тебе надоест, всегда можешь отправить ко мне…
Дверь дома снова притворена. Она теперь там, где надо, с другой стороны. Сейчас музыка принадлежит ей. Мелодия наполнила ее, словно поднявшись по ручейку. В углу площадки для игры в кегли, прямо за сараями, между стен есть проход. Она проскальзывает в него, поднимает голову и смотрит по сторонам. Звуки доносятся справа. Стена слишком высокая, но тут она показывает, на что способна. У самой стены стоит повозка с лестницами. Повязав шаль на поясе, она хватается за повозку обеими руками и лезет вверх при свете луны, которая как раз выходит из облаков и погружает в свое сияние ее волосы, плечи, юбку и ноги. Вот где проявилась ее ловкость. На мгновение она прячется на самом верху, опираясь на вытянутые вперед руки; она на краю залитой цементом площадки, где развешивают сушиться белье на натянутой поперек проволоке. Ну и хватка у нее, ну и сноровка! Она не встает во весь рост, так ее слишком легко заметить. Лунный серп светится, как кусочек льда, на самом углу кафе Миллике, сверкающей дорожкой пробегая вдали по воде. Она ползет, как кошка. Она движется так незаметно, что тишина вокруг словно сгущается. Она добралась до другого конца площадки. Ей остается только вытянуться и заглянуть за край.
Это, оказывается, с другой стороны двора, в длинном доме с покатой крышей и первым этажом из камня. Что-то вроде сарая с конюшней внизу и двумя комнатами сбоку, в одной из которых светится окно без занавесок. Сквозь него все отлично видно. У выбеленной известкой стены притулилась железная кровать, накрытая покрывалом с цветной каймой. Он сидит между окном и кроватью на стуле без спинки, потому что иначе он бы просто не смог сесть. Горб на спине пригибает голову к самым коленям; он с большим трудом поднимает ее. Господи, какой он коротышка! Какой осунувшийся! Он совсем маленький, а инструмент огромный и кажется еще больше, когда человечек раздувает его мехи из красной кожи и описывает ими полукруг, обеими руками выдавливая потом из них воздух. Как легко и быстро летают его пальцы по блестящим клавишам! Она подается чуть вперед. Он поворачивается в ее сторону, ногой поправляя под собой табурет. Мелодия стихла, но вот новая, и она просто великолепна, лучше и быть не может. Сначала приглушенный рокот басов — и вдруг словно звенящий водопад звуков.
Стук в стекло; он продолжает играть. Трижды стучат — он поднимает голову без всякого удивления.
Ничто не прерывает и даже не замедляет на мгновение размеренный ход мехов и его бегущие вверх-вниз, словно по лестнице, пальцы; дверь дрогнула, он знаком приглашает войти, потом снова изо всех сил давит на мехи, извлекая заключительный аккорд. Она входит в первую комнату, где ей перехватывает горло от едкого запаха кожи; под второй дверью виднеется полоска света.
Войдя, она прислоняется спиной к стене. Какая же она высокая по сравнению с ним! Она застывает, опираясь на стену и скрестив руки; в полумраке отчетливо блестят ее зубы.
Похоже, он понял; он делает ей знак.
Своими прекрасными руками она развязывает шаль, спадающую с округлой шеи.
Глава пятая
Здесь, на берегу озера, местность равнинная (что нечасто встретишь в этих краях). Здесь горы довольно далеко отступают от кромки воды, которую обычно обхватывают стеной, освобождая плоский, хотя и довольно неровный берег шириной в один-два километра.
Между железной дорогой и озером в беспорядке чередуются пустоши и возделанные земли (здесь это тоже редкость); тут поровну полей и виноградников, довольно захудалых, по правде говоря, не так уж много стоящих ферм и домов — меньше, чем в округе. Чуть дальше на восток земли и вовсе не обработаны; там пляж с шелковистым песком и соснами, склонившимися перед смертью над самой водой. На фоне искрящейся воды они стоят словно память о ночи. В лесу, немного дальше, в ущелье поет кукушка. Рыжие стволы вздымают в небо чернеющий в вышине полог. Кажется, что, когда день занимается над прозрачной водой, в их ветвях находит пристанище ночь. Тут укрывается она и снова появляется после вечерней зари. Чуть дальше за лесом вместо песка начинается галька, и здесь берег острым мысом врезается в гладь озера. Вот и дом Ружа, смахивающий скорее не на дом, а на одноэтажный барак из дерева и кирпича, когда-то покрашенный в желтый цвет. Перед ним сарай с шестами для сушки сетей.
Чтобы идти дальше, приходилось двигаться по тропе между зарослей камыша, поднимавшегося выше плеч, — и так до самой Бурдонет. Здесь вода вдруг оказывалась прямо перед вами, в то время как раньше она была всегда сбоку. Правда, до другого берега с обрывистыми скалами было совсем близко. Это была мертвая вода без всякого течения. Уходивший на запад мыс защищал залив от волн, накатывающих со стороны Женевы, а скала сдерживала восточный ветер. Там, в самом конце тропинки, которую он каждый год заново подравнивал, Руж держал свои лодки. Самая маленькая из них была выкрашена в зеленый цвет. Они стояли, привязанные веревками, в застывшей и неглубокой воде, в которой маленькая рыбка двигалась взад и вперед, словно челнок. Вода быстро взмучивалась из-за густой тины, в которую вынужден был ступить путник, желавший двигаться дальше. Приходилось снимать ботинки, чтобы добраться до вершины скалы, откуда открывался великолепный вид. На тропинке из обжигающих ноги камней торчали клочки какой-то колючей травы, зато наверху под огромными елями стелился влажный и мягкий зеленый ковер. Лес здесь звался Большим, хотя, правду сказать, не такой уж он был и большой, зато очень густой, а со стороны Бурдонет так и почти непроходимый. Напротив, у озера, деревья словно парили над пустотой. По воскресеньям здесь всегда было полно гуляющих и влюбленных.
Сверху был отлично виден дом Ружа. Если глядеть на восток, он оказывался прямо под вами. Было похоже, что его крыша цвета асфальта лежит прямо на земле. Казалось, что, если прыгнуть вниз, непременно угодишь в одну из лодок, словно нарочно привязанных именно в этом месте. Нельзя было не заметить и самого Ружа, прохаживающегося по песчаному берегу. В это утро его было видно ну лучше некуда: они с Декостером как раз возвратились с рыбалки.
Руж стоял с ним перед домом; он был низкорослым и толстым, а Декостер худым и повыше ростом.
Было видно, как из трубки Ружа вьется бледный дымок.
Итак, было начало июня; вершина скалы, лес, еще полный гомона птиц на гнездах, пряный запах зеленеющего ковра на земле. Его влажный и свежий дух не заглушали даже россыпи старых ракушек; внизу, словно недавно луженная, водная гладь отливала сухим металлическим блеском.
Двое мужчин казались плоскими темными пятнами на фоне сереющей гальки (если вы стояли внизу, она казалась розовой, голубой, фиолетовой, белой). Руж снова покачал головой в кепке, а из леса, словно пушечный выстрел, внезапно раздался птичий крик, от которого задрожали стекла. Шум доносился из леса, а над водой царила тишина, и только невысокие волны с серебристым подбоем время от времени набегали на берег, напоследок показывая свои когти.
Скрестив руки, Руж посмотрел на свое жилище, на деревянный сарай, за которым шла постройка из камня, где были всего одна комната и кухня. Наконец он говорит:
— Ну, так скажи, Декостер, что ты об этом думаешь? — И сам же отвечает: — Да уж, чего тут хорошего…
Он показывает на доски сарая, которые когда-то были тщательно пригнаны и покрашены масляной краской, а теперь растрескались и разболтались по милости солнца, жары, холодов — хорошей и плохой погоды. Руж смотрит на следы одолевшей их болезни, из-за которой краска сходит чешуйками, на кривую дверь с погнутыми петлями, на пошедшую трещинами кирпичную стену. Самое странное, что в это время он кажется совершенно удовлетворенным; Руж говорит:
— Как противно… — А в глазах его светится радость. — Что уж там, Декостер, стареем… — Руж потягивает трубочку. — Да, снизу подступает… Раньше об этом-то и не думали… — Он говорит в прошедшем времени (интересно, почему это?). — А как по-твоему, Декостер?
Декостер отвечает кивком головы. Он молчит. Делает знак, что согласен. Впрочем, он не ожидал, что патрон будет вот так глядеть на ветхую кладку и полуживой сарай. И уж совсем ему странно, что Руж говорит:
— Послушай-ка, Декостер, погляди, где там метр…
Пока Декостер ищет метр, Руж спичкой выковыривает пепел из трубки и постукивает ею по ладони, потом прячет в карман. Он берет метр и раскладывает его.
— Ну-ка, посмотрим. Тут всех дел на минуту. — Он подходит к стене, продолжая: — Ты понимаешь, ему тридцать лет, но подновить-то его можно… Четыре метра шестьдесят, четыре метра шестьдесят на… три… Так… — Помолчав, продолжает: — Три и три с половиной — это шесть, шесть с половиной. Принеси-ка бумагу и карандаш. Там, на столе… Какую-нибудь рекламу… — кричит он вслед Декостеру.
Руж облокачивается на подоконник и принимается чертить на бумаге:
— Гляди, сарай, моя комната, кухня… Это подновить… А что нам мешает пристроить еще одну комнату с другой стороны кухни! Чего-чего, а места у нас хватает. Она могла бы пригодиться для… — Он рисует план на бумаге. — Три с половиной метра на три вполне хватит. Всего-то и нужно пробить еще дверь на кухне. Что ты на это скажешь?
— Ну да, конечно.
— Ты ведь быстро вспомнишь свое ремесло?
На своем веку Декостеру пришлось побывать виноградарем, работником в поле, каменщиком и землекопом.
— Вспомнишь, а как же… Да и я помогу.
— Ну, конечно, — отвечает Декостер.
— И ведь что хорошо: все материалы на месте, придется только заехать к Перрену за досками… Ты ведь сладишь с кистью и мастерком?
Где-то там, наверху, по-прежнему гомонят птицы.
— Рыбу на время оставим в покое, никуда не денется, а ремесло сменить даже полезно… Послушай, я, пожалуй, схожу к карьеру… Рыбу свези на вокзал… Я буду обратно к полудню.
Он продолжал говорить, подняв голову и вглядываясь в вышину, откуда неслось пение птиц. Ему казалось, что кромка неба там то поднимается, то опускается, словно крышка на кипящей кастрюле. Руж услышал скрипнувшую за спиной дверь сарая и барабанную дробь, отбиваемую по гальке тележкой Декостера. В душе его был мир, и потому, засунув бумажку с рисунком в карман, он шел не спеша. Вот он вошел в камыши. Сначала над ними виднелись его плечи и голова, потом плечи скрылись. Теперь была видна лишь фуражка, но и она пропала из виду, утонув в серебристом плюмаже. Руж подошел к лодкам. Справа были высокие скалы на том берегу, а на этом — поросший ольхой покатый склон, по которому змеилась тропинка для инспектора рыбоохраны (которой с тем же успехом пользовались любители ловли форели с лицензией и без таковой). Руж не прибавлял шагу, может быть, оттого, что погода стояла прекрасная. Не пошел он и самой короткой дорогой (да и какая нужда была ему идти в это утро к карьеру). Да, дело было в погоде, ибо Руж казался счастливым. Ему было славно идти, глядя на пчел, белых и желтых бабочек, высокие стебли дягиля, проходить под черными листьями ольшаника, смыкавшимися над ним в сумрачный полог с голубыми просветами. Поднимаясь понемногу в гору, тропинка временами терялась в зарослях, но вдали уже различалось ворчание Бурдонет, похожее на звук идущего по мосту поезда. Берег, вдоль которого двигался Руж, тоже становился все круче; вскоре появился небольшой перекат, где вода, сдавленная берегами, прыгала с уступа на уступ тучей сверкающих камешков; внезапно открылся вид на просторную песчаную равнину, увенчанную каменным мостом с множеством арок, по которому двигались поезда. Кое-где виднелись островки чахлой травы, а слева — карьер. Дикое, заброшенное место без признаков жилья, если не считать маленького домика на левом берегу, наполовину вросшего в землю. Он принадлежал некому Боломе, охотнику и рыбаку, жившему в полном одиночестве.
По виадуку проследовал поезд. Он совсем не дымил.
В наши времена они выдумали электрические локомотивы, которые вовсе и не похожи на локомотивы, а напоминают простые вагоны, с единственной разницей в том, что из крыши у них торчит дуга и ставят их впереди всех остальных.
Поезд, взметая воздушные вихри, двигался по виадуку; Руж взглянул на него и сказал себе: «Все-таки они чертовски быстрые, эти электрические поезда, здорово едут, ничего не скажешь…»
Поезд пробежал по путям в едином неудержимом порыве, вот разом сверкнули все окна — и нет его, только шум затихает вдали. «Все-таки это прогресс, — подумал Руж. — А сколько угля экономят…»
Он пыхнул трубкой и поглядел левее; там несколько мужчин орудовали лопатами у сеток, потом они подняли их, и лезвия блеснули над головами в лучах солнца.
Вагонетки следовали от карьера к зданию с красной крышей. Между ним и Ружем лежал карьер с плоскими террасами, одни из которых были освещены солнцем, а другие нет, так что он казался мощенным желтой и голубой плиткой.
Породу сбрасывали с одной террасы на другую, отделяя мельчайший песок от камней в сетках. Руж решил, что это здорово придумано и устроено, да и работы тут еще надолго хватит. Он увидел человека, толкающего вагонетку. Это был некий Равине, савоец, которого можно было частенько встретить у Миллике, куда тот приходил пропустить стаканчик. Равине был в черной липнущей к телу майке, подпоясанной красным ремнем.
— Привет, — сказал Руж, — как дела? Не знаешь, могу я увидеть патрона? — Он шел рядом с толкающим вагонетку савойцем. — Знаешь, мы тут решили строиться. Взяли вот так и решили. Мне будут нужны кирпичи и песок. Да и цемент надо бы взять у патрона. Отправил бы он это все мне на днях…
В тот же день Руж побывал у Перрена, плотника и строителя лодок, то есть почти коллеги, чья мастерская, что было очень удобно, располагалась прямо напротив кафе Миллике. Отличный повод пропустить стаканчик, которым Руж трижды и воспользовался.
— Да, — говорил он, — там слишком тесно, повернуться негде. Вот мы с Декостером и заделались каменщиками…
Воды, к счастью, хватало; привезли песок, кирпичи и цемент. На восьмой день стены новой постройки, подобно окруженному заботой растению, поднялись уже в человеческий рост. Руж тем временем подновлял старый дом.
На земле у его ног стоял железный бидон, на три четверти полный отличной рыже-коричневой краски, густой, как сметана, и приятно пахнущей льняным маслом. Руж макал в нее кисть толщиной в добрых четыре пальца и водил ею по доскам, начиная сверху, дабы не наделать подтеков. Работа шла споро, и спереди сарай уже нельзя было узнать.
Закончив здесь, он принялся за северную сторону; вокруг него на земле расплывались желтые пятна, похожие на следы первых капель дождя перед грозой.
Мир вокруг был прекрасен, хотя иной раз и требовалось немало времени, чтобы понять это.
— Так-то вот. Скоро вокруг была бы одна грязь и свинство… Хорошо еще, что мы взялись за дело вовремя…
Он царапал ногтем дерево, отколупывая чешуйки.
— Уже гнить начинает, — говорил он любопытным.
А потом пришла она; ее-то Руж не ожидал увидеть так скоро, по правде сказать, даже чересчур скоро.
Работа была еще не окончена, Руж и думать не мог, что Миллике отпустит Жюльет так далеко, но случилось так, что некие господа заказали себе домой жаркое на этот вечер, а у Миллике не оказалось больше никого под рукой, чтобы послать к Ружу.
— Ты знаешь, где это?.. — спросил он у Жюльет. — Попроси пару килограммов окуньков…
Она тронулась в путь и первым делом сбила свои изящные ножки. Тень на камнях шла впереди нее и была гораздо длиннее, чем она сама. Она вглядывалась в круглые плоские камни, ей нравился их цвет: розовый, красный и шоколадный; те, что лежали в воде, были ярче, а те, что на земле, — бледнее; попадались голубые, прозрачные, совершенно белые и блестящие осколки: кусочки стекла и осколки тарелок, со временем отполированные течением. Словно специально на радость ей, здесь также поблескивали чудесные пестрые камешки. Потом тропинка оказалась зажатой между водой и склоном, укрепленным каменной стеной. Несколько мальчишек не старше шести лет (остальным полагалось быть в школе) носились внизу по песку, подтянув штаны выше колен. Они отважились войти в воду, но она была еще очень холодная, и дети истошно закричали. Ей было забавно глядеть на ребятишек. Теперь она шла по мягкой земле и ощущала ее под ногами. Ее тень стала голубой; ничто больше не искажало ее, как прежде. Под косыми лучами солнца стволы сосен отливали багрянцем. И на нее лучи падали сбоку; она плыла в воздухе, подставив им щеку, плечо и руку. Снова раздались детские крики: мальчишки бежали от волн, а потом снова бросались вперед. На ней была сатиновая черная блузка и короткая юбка из той же материи; в руках корзинка. Вот и широкая коса, где приютился дом Ружа со свежеокрашенным сараем, чья передняя стена в косых лучах солнца сверкала, как зеркало. Позади дома, в тени, коренастый мужчина водил кистью сверху вниз, потом на мгновение замер, опустил кисть в бидон (а она подходила все ближе и ближе) и неловко вытер руки о штаны.
— Не может быть, мадемуазель! Это вы… Вот уж не ждал вас… Кто б мог подумать; разве Миллике?..
Она молчала. У нее было к нему дело, вот и все.
— Рыба? — переспросил Руж. — Нет, черт возьми… Ни окунька, ни форели, ни хариуса. Даже щуки не осталось. Все ушло с утренним поездом… Как будто Миллике этого не знал…
Он спохватился, видя, что девушке остается лишь повернуть назад и она как раз собирается это сделать:
— Это так срочно? Если бы вы подождали минутку…
— О, я не могу…
— Ну что вы! Я мигом пошлю Декостера к Жонену. Там уж точно найдется… Эй, Декостер!
Руж не услышал ее ответа, он уже звал своего помощника; явился Декостер с серыми и застывшими от цемента пальцами.
— Все ясно? — спросил Руж. — А вы (это к Жюльет) уж положитесь на меня, все будет в порядке… Ну-ка, живо! Чтобы ни граммом меньше, ты понял?
Декостер вымыл руки, надел жилет поверх рубашки и быстро ушел, не оглядываясь.
Теперь, когда, кроме них, никого не осталось, Руж сказал:
— Вам бы присесть, мадемуазель… О, тележка! У нас тут ремонт, знаете; не решаюсь позвать вас в дом, там все вверх дном. Ну, хоть корзинку вашу позвольте взять…
Руж понес корзинку на кухню. О том, чтобы позвать ее в дом, и речи быть не могло. Пока Руж был внутри, она снова окинула взглядом все вокруг. Вода, небо, гора, ниже — песок и ракушки, камыш, крутая скала. Лицо ее посветлело.
— О, мне нравится… — Тут появился Руж, и она повернулась к нему: — Здесь — как у нас.
— У вас?
— Как там.
— А! — сказал Руж. — Похоже? Тем лучше, если похоже.
— Вы рыбак? — спросила она. — Я тоже умею рыбачить.
— Ловить рыбу? Кто вас научил?
— Отец.
— Послушайте, — сказал Руж, — вам все-таки лучше присесть. Ну, и раз уж вы знаете ремесло…
Руж притащил мешок и расстелил его на пригорке за шестами для сушки сетей.
— Садитесь здесь, мадемуазель…
Она села, а Руж примостился рядом на россыпи битой черепицы, старого стекла, пробок и посеревших от времени щепок.
— Вы хорошо говорите на нашем языке, — продолжал он удивляться. — Только немного с акцентом…
Она и вправду глотала окончания слов и выговаривала их непривычно глухо…
— Это от мамы.
— А она на каком языке говорила?
— На испанском.
— Это тамошний язык?
— Да, — ответила она. — Но она умерла. Отец умер, и мама тоже.
Она замолчала, опустив голову, сцепила руки в замок и положила их на колени.
— Он был мастером на железной дороге; он приезжал ко мне по воскресеньям. Мы вместе ловили рыбу… — Ей то ли надо было выговориться, то ли она просто долго молчала. — Он проболел всего восемь дней…
Жюльет вновь замолчала, а он не решался ничего сказать, пока она едва заметно покачивала головой; он даже не глядел на нее и все вертел в руках деревянную трубку с крышечкой.
— Восемь дней, и теперь я здесь, и все совсем другое… — Она повторила: — И все совсем другое…
Она посмотрела вокруг, и лицо ее вновь изменилось.
— Ну, здесь-то, по крайней мере, — заметил Руж, — вы можете чувствовать себя как дома… Если вам что-то понадобится, мадемуазель… И вот, глядите, мы как раз здесь все приводим в порядок, надо же так! Как будто нарочно…
Она поднялась, а Руж продолжал:
— Мы тут не такие, как Миллике…
Она только пожала плечами. Руж увидел, что она встает, засмеялся и сказал:
— Похоже, мы друг друга понимаем…
Он весело набивал трубку; рыбки выскакивали из воды, словно маленькие молнии; как хорошо было вокруг, как хорошо!
Она поднялась и повернулась к дому:
— Так у вас ремонт?
— Да, — ответил Руж, — но это еще не все. Глядите, мы пристраиваем еще комнату.
Он поднес сложенные ладони к лицу; в седеющих усах дымилась трубка; Руж опустил руки, вынул трубку изо рта, хотя она еще толком не разгорелась.
— О, нет, нет, — воскликнул он, — не входите! Вот когда закончим… — И добавил: — Пойдемте лучше к лодкам, раз уж вы в них понимаете…
Миновав песчаный берег, они пошли по тропе в камышах, сначала рядом, потом друг за другом. Декостер все еще не вернулся.
— А! С Декостером всегда так! Он, наверное, опять забыл унести весла… — сказал Руж.
Они подошли к воде, так и есть: поперек маленькой лодки лежат весла. Они стояли сейчас под крутой скалой с ее зарослями, проходами, ельником, кустами с колючками и без колючек, пучками уже подросшей травы, редкими цветами; а над всем этим возвышались огромные сосны кишащего птицами леса.
Она смеялась, а Руж застыл в удивлении; вот она прыгнула в лодку, плеснув в солнечную синь фонтаном воды со дна, вот отвязала цепь.
— Мадемуазель. — сказал Руж, — вы шутите! Ее надо было смолить зимой; это решето, да и только.
Но в ответ:
— О! Это не беда.
Она и вправду решила плыть; взялась за весла и начала грести сначала одним из них, чтобы повернуть лодку носом к воде, потом вдруг откинулась всем телом назад, и вот среди камышей остались видны лишь две блестящие струи воды из-под кормы, лениво утыкающиеся в берег.
Несколько мгновений он стоял неподвижно, но удержаться на месте не смог. Она притягивала не только взгляд, но все тело и душу Ружа. Он шел между водой и зарослями камыша, переступая ногами в песке и тине, которая становилась все мягче. Через несколько мгновений он вынужден был остановиться. В этот миг лодка резко повернула и скрылась за выступом скалы.
Ружу ничего не оставалось сделать, как повернуть назад.
Ему пришлось довольно долго ждать.
Теперь она очень спешила.
— Господи, — сказала она, обуваясь, — меня станут бранить.
— Не бойтесь, я пойду с вами.
Она снова идет в камышах впереди Ружа. Декостер уже давно возвратился и, не найдя никого, снова принялся за работу.
— Ну что, рыба есть? — кричит Руж.
— Да, пакет на кухне. — Декостер продолжает класть кирпичи, скрепляя их тонким слоем цемента.
Руж берет пакет и кладет его в корзинку; она уже ушла вперед.
— Эй! Не торопитесь! Скажете Миллике, что мне пришлось ловить ему окуньков… Нет, лучше ничего не говорите, я сам… А вот и он.
Тут и вправду появляется Миллике, идущий им навстречу. Издалека он делает какие-то знаки руками.
— В чем дело? — вступается Руж за девушку. — Ты нервничаешь… Ты не прав… Давай, давай, успокойся, дружище. — Он не дает Миллике и слово вставить. — Ты видишь, мы вовремя и даже раньше, ведь нам пришлось вылавливать твое жаркое. Я бы не стал возиться ни для кого другого, и ты мог бы встретить нас поласковее, так-то вот…
Они уже у кафе, а Миллике и рта не сумел раскрыть; завидев их, мадам Миллике входит в дом, хлопнув дверью.
На террасе сидит савоец.
Глава шестая
Прошло несколько дней…
Раньше всех в кафе явились несколько торговцев скотом в синих блузах, спросившие вино в бутылках. Самый высокий из них, мужчина с черными усами, сдвинул на затылок фетровую шляпу и произнес:
— Вот это по мне!
Он положил руки в просторных рукавах, стянутых на запястьях каймой с вышивкой белыми нитками, на стол, на тот самый зеленый стол на той самой террасе.
— Я люблю, чтобы подающий был не хуже подаваемого, слуга вровень с услугой.
Было три часа пополудни.
Дождь прошел утром, но редкие лужицы все еще оставались среди ножек столов, забрызганных у пола белеющей грязью.
— Это здорово, потому что нечасто встречается. Сидевший напротив него коротышка с желтым лицом одобрительно кивал, сжимая руками навершие палки. Третий смотрел через стену на озеро.
— Да, такое нечасто встретишь, совсем не часто. Как это Миллике умудрился, сам не пойму… Кто бы подумал, что он такой хваткий…
Три торговца ехали по делам в повозке из смолистой сосны, запряженной маленькой тонконогой лошадкой, которую они привязали за уздечку перед кафе.
— Где же этот Миллике? — спросил верзила.
Он стукнул по столу рукояткой кнута, который не без усилия вытащил из-под ног.
Но явился не Миллике и не та, которую он ждал; к ним вышла новая служанка, которой и полагалось являться, когда зовут клиенты.
— Ты еще слишком мала…
Казалось, что ей и вправду не больше пятнадцати-шестнадцати лет. Она путалась в своем слишком длинном фартуке.
— Что это ты здесь делаешь? Школу прогуливаешь?.. Послушай-ка, если приведешь хозяина, пятьдесят сантимов твои.
Миллике в это время на кухне как раз наставлял Жюльет:
— Послушай, не годится отпугивать клиентов… Ты же прекрасно знаешь, я не могу тут делать все, что хочу…
— Месье, вас там просят, — сказала маленькая служанка.
Миллике вышел.
— Поздравляю, — сказал ему черноусый. — Поздравляю, Миллике. Вот это я называю заботливым обслуживанием.
Перед ним была бутылка бордо с металлической крышкой и красивой цветной этикеткой, на которой был изображен замок с круглыми башнями и бело-зеленым гербом, а также стояли название вина и год.
— О да, — сказал Миллике, — это вино рождено для такой бутылки…
Он стоял у торца стола, опустив руки и склонив на бок голову; по всему было видно, что он польщен.
— Вот только беда, их осталось немного.
— Ну, еще-то одна найдется…
На лице Миллике появилась обычная вымученная улыбка, открывавшая его испорченные зубы.
— О! — сказал он. — Для вас…
— Вот только, — произнес долговязый, — к отличному вину — отличная девчонка. Мы клиенты солидные, а ты посылаешь к нам малолетку. Другую что, для себя одного приберег? Кто она и откуда? Расскажешь нам или как?
Миллике напустил на себя серьезный вид и не торопился отвечать (есть же у него самолюбие), но клиенты и вправду были хорошие, и нечего было упираться.
— Это моя племянница…
— Племянница?
— Да, дочь моего брата.
Он отвечал холодно и немного свысока, но потом принялся рассказывать историю приезда Жюльет (было приятно, что в запасе у него есть вот такая история, и лестно показать себя в роли заботливого дяди).
— Вот как, так она, может быть, и богата вдобавок? Она из Америки, страны долларов!
Тут Миллике покачал головой; это была уже совсем иная история.
Был субботний послеполуденный час, слишком рано для постоянных клиентов, терраса пустовала; прямо над Миллике нависала толстенная ветка, на которой распустился пока только один листок, похожий на утиную лапку.
Мужчина с черными усами поднял кулак.
— Нам все равно. Племянница или кто другой, мы хотим только ее.
Кулак грохнул по столу.
— А почему нет? Почему, черт возьми? Еще бутылку вина и твою племянницу, иначе мы сматываемся… Сколько с нас?
Он потянулся к карману за кошельком. Тут уж пришлось ей выйти, и она вышла на террасу (Миллике ушел).
— Мадемуазель, у нас в повозке есть еще место; оно для вас…
Савоец как раз проходил мимо террасы; он уже второй раз был там. Остановился, прислушался к голосам из-за стены и пошел дальше.
— Повозка на четверых, а нас только трое, мы вас забираем с собой.
Это был голос длинного.
— У вас будет прекрасная комната с окнами на юг. Да, два окна и зеркальный шкаф… А теперь ваше здоровье!
Он пил стакан за стаканом.
— Вы не чокнитесь с нами, мадемуазель?
Чувствовалось, что он начинает смущаться и с трудом подбирает слова; остальные двое молчали; было слышно, как они встают.
Встал и верзила:
— Тем хуже, отложим.
Копыта лошадки процокали по мостовой, а она побежала к Миллике и протянула ему купюру и монетки:
— Ну что, теперь вы довольны? — И еще: — Мы в расчете?
Она бегом поднялась в свою комнату, а через минуту как раз и пришел савоец.
Так уж случилось, что стоило торговцам скотом исчезнуть за поворотом, как он и появился, известно же, красота притягивает. Ведь нам на земле не так уж много и есть на что посмотреть. Мы тянемся к ней, хотим распробовать, овладеть. Вот и савоец явился; он устроился на террасе и заказал пол-литра. Выпив вино, он пошел купить сигарет в лавке, а когда вернулся, положил пачку перед собой и стал дымить, прикуривая новую сигарету от предыдущей. Он больше не пил, и Миллике, памятуя о своем интересе, стал прохаживаться поблизости. Савоец подозвал его и говорит:
— Я хочу выпить. Где ваша племянница?.. Да, ваша племянница… Мадемуазель Жюльет. Пришлите ее обслужить меня.
Миллике повернулся к нему спиной.
Где красоте найти место среди людей, как отыскать его? Савоец был в клетчатой кепке и воскресном платье с воротничком, галстуком, пиджаком, жилетом и красным поясом (в тон галстуку). Он увидел девочку-прислугу и позвал ее, потом запустил руку в жилетный карман и достал полную пригоршню монет.
— Сходи-ка разыщи ее, а вот это тебе, если она придет.
— Да, так она и придет. — Девочке было смешно. — Спрячьте ваши деньги, вот уж не думаю, что она снова спустится… Деньги здесь ни при чем, если она захочет прийти, то придет, а уж если нет…
Савоец ушел, но вернулся к семи или восьми часам.
Между ветвями платанов на рейках были подвешены лампочки. Теплыми вечерами, когда клиенты охотно располагались на террасе, Миллике оставалось только повернуть выключатель (мирясь, само собой, с мошками, ночными бабочками и комарами, которые, впрочем, начинали действительно досаждать только летом).
В тот вечер терраса была переполнена: среди клиентов виднелся Алексис-бешеный с приятелями; люди сидели словно в аквариуме, сквозь прозрачные стенки которого в мягких сумерках светились небо и озеро. Вдруг словно опустилась ночная завеса, скрывшая и небо, и гору, и озеро. Это зажглось электричество, и все оказались как будто в комнате, для которой мир вокруг перестал существовать. О нем напоминал лишь плеск волн, набегавших на берег и мерно вздыхавших, как гнущееся дерево или шар теста в руках пекаря.
Маленький четырехугольный мир с трех сторон был занавешен сумраком; пространство сместилось, и казалось, что он вдруг непомерно раздался: три стены, пять столов для клиентов, снующие туда-сюда Миллике и юная служанка Маргарита, которой Миллике что-то втолковывал.
Можно было различить цвета, руки, плечи, макушки голов в фетровых и соломенных шляпах, кепки — всего чуть больше дюжины клиентов; сначала савойца не было видно, потом он вернулся.
Миллике как раз сказал что-то Маргарите, и теперь она исчезла. Он без устали метался между кафе и террасой. Служанка мигом поднялась на второй этаж (можно было услышать, что дверь мадам Миллике в это время открылась)…
Маргарита постучала в дверь:
— Патрон велел попросить вас спуститься.
— Нет.
— И вдобавок савоец о вас спрашивал. Я сказала, что вы не захотите идти…
Потом она толкнула дверь и тихонько произнесла: «Мадемуазель, это я»; вошла. Внушительный кожаный чемодан на полу был раскрыт, ставни за оконными рамами заперты. Маргарита в своем черном платьице в белый горошек остановилась на пороге.
— О! Мадемуазель… — И, помолчав: — Там внизу их целая орава, и все ждут вас…
Она указала на ставни, из-за которых и вправду доносилось нечто похожее на звук ударов камешков один о другой. Снизу послышался смех, удар кулака об стол, кто-то позвал Миллике.
— Я боюсь, что патрон сам поднимется, он сказал, что придет, если вы не спуститесь… — И вдруг, словно ни в чем не бывало: — О, как красиво! Что это? — Она указала на вынутые из чемодана и разбросанные по кровати вещи: — Это оттуда?
Надо было спешить, ее уже звали на лестнице.
— Я еще поднимусь, мадемуазель… Расскажу, как там дела…
Она промчалась по лестнице вниз, и дверь мадам Миллике закрылась.
А там внизу, на террасе, все смотрят на второй этаж. Сквозь просветы в путанице ветвей платанов они вглядываются в два окошка под самой крышей. Все знают, что она там (по крайней мере, некоторые), но видят лишь закрытые ставни. Маргарита спускается. Миллике направляется к ней, но тут служанка слышит, как его зовет жена, а потом — как они препираются на лестнице. Наверху по-прежнему никакого движения; Маргарита выходит на террасу и видит в углу савойца, который устремляет на нее пронзительный взгляд из-под козырька кепки. Савоец делает знак, что у него закончилась выпивка, потом облокачивается на стол и упирает кулаки в подбородок.
Около десяти часов.
Она спрашивает его: «Что будете пить?» Тот ничего не отвечает.
На всякий случай она приносит ему триста граммов выдержанного и бежит назад, но тут ее кто-то хватает за руку; это Миллике с помятым лицом (а на втором этаже хлопает дверь).
— Пошевеливайтесь с заказами и послушайте-ка: если на этот раз она не захочет спуститься, скажите, что будет иметь дело со мной… Если ее не будет через пять минут… На этот раз ей не отвертеться, как раньше… — Он отводит девочку в угол и, подняв палец, шепчет ей на ухо: — Если она запрется на ключ, я высажу дверь. Я осрамлю ее перед всеми.
Маргарита бросается наверх со всех ног.
Она снова, как мышка, скребется ногтями о дверь и говорит:
— Мадемуазель, я могу войти?
В замке поворачивается ключ.
— Мадемуазель, мадемуазель, он придет! Он сказал, что дает пять минут… — Она на секунду умолкает, потом продолжает: — Мадемуазель, мадемуазель, вы уж поверьте мне, вам лучше лечь, я скажу, что вы заболели, может быть, он не посмеет… — Снова молчание, и вдруг: — О! Как это прекрасно! Это ваше? Это из ваших краев? Что это? Гребень? А эти шарики, они из кораллов? А из чего гребень? Золоченая медь…
Она протягивает вперед руку и всякий раз отдергивает, потом складывает руки на своем слишком просторном переднике. Со своими горящими глазами она похожа разом на девочку и старушку, не решающуюся больше прервать молчание. Жюльет все так же стоит к ней спиной перед зеркалом.
— О! Какие забавные серьги! Вы их наденете, да?
В комнате только одно убогое зеркало в металлической оправе, крашенной под дерево, да тусклый свет с потолка. Зеркало висит в простенке между окнами; ей приходится склоняться над туалетным столиком, вплотную приближая лицо к стеклу, но ей все нипочем; пальцы скользят по губам, пуховка пудрит щеки…
— У нас все вечером прихорашиваются. Вот увидите, как там одеваются женщины. Сейчас, сейчас…
В этот миг до них доносятся звуки аккордеона.
На террасе все тот же гвалт, но звуки пронзают его со всех сторон. Они рождаются где-то вдали, но становятся все отчетливей.
— Это он, это он! Я знала, что он придет. Сама не знаю почему, но я была уверена…
Она берет пуховку и проводит ею по лицу, потом говорит Маргарите:
— Дайте мне гребень. — И подносит руки к волосам. Как же она изменилась, ее и не узнать! Она стягивает волосы на затылке и просит: — Принесите мне шаль, большую шаль с цветами…
— Мадемуазель, вы, правда, хотите спуститься?
— Ну, конечно, ведь там музыка.
— А ваш дядя?
Жюльет смеется.
Аккордеон уже под окнами.
— Я же знала, что он придет, надо спешить; поскорей, Маргарита, пожалуйста, гребень… И шаль, как носят в моих краях…
Внизу голоса умолкают один за другим. Не слышно совсем ничего, даже ветра и волн; только кружит мелодия дивного танца. На секунду она затихает, и все замирают, но вот аккорды снова несутся один за другим.
В этот миг падает стол, и все слышат голос:
— Остановите его! Остановите! Он просто спятил…
И аккордеон немедленно умолкает.
Своим напарникам по работе в карьере савоец сказал:
— Сегодня я не работаю… Предупредите патрона, пусть на меня не рассчитывает.
С утра все ушли на работу в карьер, а савоец умылся водой из фонтана и начисто выбрился. Он вынул из шкафа воскресный костюм, чистую рубашку, воротничок и галстук. Неторопливо переоделся в своей комнате одного из домов у вокзала, где все они снимали жилье. На нем был совсем новый костюм с приталенным пиджаком; он даже попытался сделать себе пробор, но его густые вьющиеся волосы не поддались. Тогда савоец надел кепку и выпустил волосы из-под козырька на лоб.
Он выкурил несколько сигарет, открыл окно и, высунувшись наружу, спросил хозяйку, нельзя ли сегодня получить свою порцию супа раньше, чем обыкновенно. Потом съел суп и вышел. Он перешел большую дорогу и улегся неподалеку от нее под деревом. По дороге летели автомобили с блестящими капотами и козырьками от солнца, посверкивающими пламенем на манер винтовок. Они фыркали, лаяли и заходились кашлем, словно залежавшиеся сторожевые псы; мчались по дороге, не поднимая пыли, навстречу друг другу или вдогонку, исчезали за изгородью и снова выныривали наружу, снова кашляли, свистели и лаяли. Десять, пятнадцать, двадцать: савоец достал часы и от нечего делать принялся считать секунды. Потом он сплюнул, поднялся и пошел вдоль дороги. Выйдя к Бурдонет уже у железнодорожного моста, он стал спускаться по склону, у подножья которого был тот самый карьер, где уже принялись за работу его товарищи. Со дна карьера разодетый савоец стал делать знаки каменотесам на верхних уступах: эй, наверху, привет! Все они были в майках или обнажены по пояс. Все его видели: куда это он так вырядился? «Да ну, — сказал кто-то, — он вообще немного того. Иногда лучше не обращать на него внимания, это может плохо кончиться». Рабочие снова взялись за лопаты и стали всаживать их в месиво из камней и песка. Савоец пошел прочь и начал спускаться вдоль Бурдонет, где и встретил промышлявшего форелью Боломе в резиновых сапогах. Тот шел как раз вверх по течению. Они поравнялись и разошлись, не сказавши ни слова. Чуть дальше берега речки сходились, она становилась глубже, прыгая с уступа на уступ, через которые форель перемахивала одним движением хвоста. Именно там, повыше, любил ловить рыбу Боломе, нацепив свои резиновые сапоги и пристроив за спиной плоскую корзину. Он курил сигареты, засунув руки в карманы. Струи воды здесь пробивались вперед с барабанным боем. Дальше река становилась спокойной и гладкой, там начинались камыши, и в илистом русле появлялись маленькие каменные островки. Именно там савоец свернул направо.
Как раз в это время плотник Перрен привез к дому Ружа заказанные балки. Словно чего-то опасаясь, савоец замедлил шаг и направился к ним. Он заметил пристройку к дому и сказал себе: «Ага, он строится! Отчего бы этому типу строиться?» Руж как раз измерял складным метром сваленные на землю балки, сверяясь со своей тетрадкой. Он не заметил савойца, и только хруст камней под ногами заставил его поднять голову.
Савоец остановился, держа сигарету в уголке рта.
— Строитесь, значит? — спросил он.
— Как видите, — ответил Руж.
— Это для себя?
Савоец как-то странно ухмыльнулся, а Руж сначала и не нашелся что ответить.
— А вам-то что за забота? Займитесь лучше своими делами…
Но савоец уже повернулся к нему спиной и, сплюнув на землю, пошел прочь. Тут-то дорога и привела его к заведению Миллике, куда он сначала хотел зайти, но передумал, увидев внутри торговцев скотом.
Тогда он прошелся по деревне и вернулся позже, но снова решил не входить.
Где среди нас найдется место для красоты, когда на нее открыта такая охота? Ведь мы знаем, он все-таки зашел, устроился на террасе и заказал пол-литра вина, которые ему принес Миллике. И выпил эти пол-литра.
Потом он отправился в лавку за сигаретами, вернулся и положил пачку перед собой на стол.
— Где ваша племянница? — спросил он Миллике.
Тот повернулся к нему спиной, и савоец сказал:
— Ага, значит, так! — А потом велел маленькой служанке: — Позови ее!
Но та только рассмеялась. И он снова:
— Ага, значит, так!
И савоец отправился к вокзалу — выпить в тамошнем кафе.
Под окном слышатся голоса:
— Я-то видел, что он взял нож, я давно за ним наблюдал. А что прикажете делать? Как знать, для чего ему нож: может, ноготь обрезать или бородавку, а может — шнурок на ботинке…
— Верно.
— К тому же он бросился на инструмент, а человека пальцем не тронул…
— Ну, тут…
— Да говорю я тебе, не тронул.
— Потому что его скрутили. Хорошо еще, что здесь был Алексис…
Она слушает там, наверху, в своей комнате. Слушает все, что доносится снизу. Откуда-то изнутри, словно вода из крана, беспрерывно и монотонно льется голос хозяйки:
— Ну вот, теперь ты доволен! Какая удача, можешь себя поздравить! Дурень! Ты получил, что хотел, вот уже и до смертоубийства у нас тут дошло, лучшей славы и не придумать! Было чем гордиться, когда ты говорил: «Сегодня сто франков» или «Сегодня сто двадцать». Бестолочь, если так пойдет дело, то завтра будет ноль франков и послезавтра тоже ноль франков… Эта оторва, эта уличная девчонка, эта не пойми что, сказать стыдно…
Бежать бы от этого голоса на лестницу, но укрыться от него негде. Она стоит у окна и слушает.
— Бояться нечего, Алексис там за ним присмотрит. При нем еще трое-четверо. Ему и шагу ступить не дадут.
Где-то закрылась дверь, и смолк голос мадам Миллике. Жюльет видит, что до нее никому нет дела. Малышка Маргарита спустилась в самом начале, оставив ее одну; она сможет уйти незаметно, а если ее остановят — тем хуже: она сможет за себя постоять.
Ей все-таки удается уйти.
Как и в прошлый раз, она проскальзывает в переулок и карабкается на стену террасы, а он, увидев ее, снова лишь приподнимает голову. Он сидит перед столом, держа инструмент на коленях.
Видно, что удар ножа пришелся поперек мехов так, что прореха тянется от складки к складке. Осторожно, словно хирург, он ощупывает пальцами рану, стягивая ее края.
Он лишь кивнул головой. Заметил ли он вообще, что она вошла?
Все-таки да, заметил и говорит:
— Для меня здесь нет места… — И, помолчав, добавляет: — Да и для вас тоже…
Она хочет что-то сказать и делает шаг в его сторону, но он жестом просит ее молчать, словно они у постели больного.
«Так вот, — рассказывал Руж, — в тот вечер (следовало бы сказать — ночь, ибо полночь уже миновала) я уже давно улегся и вдруг услышал шаги возле дома. Сначала я подумал о припозднившейся парочке, ведь влюбленные не очень-то стесняются меня, возвращаясь с прогулки по лесу. Я не попал тогда к Миллике, оттого что Перрен привез балки, а в июне можно работать почти до десяти вечера. Вот мы и ставили их с Декостером на место, а потом еще пришлось забить досками отверстие в стене кухни. О чем это я? Ах да, я заснул — и вот шаги: шаг, а потом еще один, совсем непохожий. Вот я и решил, что их двое, — и тут вдруг стук в дверь. Я говорю: „Кто там?“ — а они не отвечают. Тогда я встал, натянул штаны и пошел на кухню, потому что только оттуда можно войти внутрь. Тут-то я и услышал: „Это вы, господин Руж?“ — „Конечно, а кто же еще?“ — „О, господин Руж, вы не могли бы открыть?“ Мне показалось, что я узнал голос. Я открыл. Светила луна, и это и вправду оказался Морис Бюссе, молодой Бюссе, сын синдика; в руках у него был большой кожаный чемодан, а за ним стоял кто-то, кто вроде как прятался. Ну да разве может она спрятаться? А еще эта шаль блестела, понимаете, шелковая шаль на плечах. Я им говорю: „Что вы тут делаете?“ — а Морис отвечает: „О, господин Руж, мы не могли бы войти, я вам все объясню…“ Я говорю: „Погодите, сейчас лампу зажгу“. И еще: „Я только запру дверь на ключ“. Тут малыш Морис мне все и рассказал. Он спросил, не могла бы она провести у меня эту ночь и еще несколько дней. Что я мог сделать? Я им сказал: „Конечно, вот только… Жаль, мадемуазель, что вы пришли на два-три дня раньше…“
У меня там в углу кухни валялась куча мусора, да и дыра в стене была плохо заделана. „Жаль!“ А она все это время ни слова. Несколько дней прошло, пока я узнал все про эту историю с савойцем и аккордеоном; ну, и все, что потом было с ней… И вот еще что: она ведь боялась за горбуна… Она там у него была.
Ну, а матушка Миллике… Она мне потом говорила, что слышала, как пробило одиннадцать, но когда пришла, то увидела только ее чемодан. Мадам Миллике засунула внутрь ее вещи, ну, и выставила его за дверь. Она обошла дом, но везде было темно. Она сказала, что сразу подумала обо мне, но не могла справиться с чемоданом, он был слишком тяжелый. Тут-то и появился Бюссе. Откуда он там взялся, это другой вопрос… Я сказал Жюльет: „Ясное дело, оставайтесь здесь, ни о чем не волнуйтесь и будьте как дома. Раз уж они вас прогнали…“ Да, позабыл, у меня, к счастью, нашлись два матраца. Ну, я и взял себе на кухню тот, что похуже…»
Глава седьмая
На другое утро Декостер увидел шедшего ему навстречу Ружа, а, надо сказать, такого не случалось ни разу за все десять лет, что они работали вместе.
Декостер жил в деревне и вот уже десять лет каждый день с утра пораньше он заставал Ружа за приготовлением кофе, который они выпивали, перехватив чего-нибудь перед рыбалкой.
Они садились в лодку, стоявшую в мутной, как после стирки, воде. Иной раз если не поднести руки к самому лицу, то их и видно не было. Случалось, что они не могли различить ни друг друга, ни огни бакенов, отмечавших их сети. Иногда они плыли на запад, иногда — в сторону гор, туда, где встает солнце, где Иерусалим. Плыли в тумане, который из серого становился желтым, а потом розовым; весной, летом, осенью и зимой — вот уже десять лет каждый на своей паре весел. И каждый день утром, когда Декостер приходил, он заставал Ружа у керосинки, которая всегда загоралась с первого раза и гасла от поворота краника, — а это большое подспорье в доме без женской руки.
Но в тот день Декостер увидел, как Руж вышел ему навстречу и делает рукой знак остановиться. Что-то стряслось, решил он, но скоро понял, что ошибается. Руж был явно смущен и не мог подобрать слов; Декостер не торопил его, и слова не сразу и не без труда, но все же нашлись. Засунув руки в карманы, они шли бок о бок по берегу. Руж не спешил, он все время замедлял шаг и наконец остановился.
— Послушай-ка, Декостер, вот что… Сегодня мы не пойдем за рыбой. Нельзя… Нельзя оставлять ее совсем одну…
Они остановились у самой воды на полоске твердого песка, где шаги не оставляли следов. До дома была еще добрая сотня метров, но Руж говорил едва слышно:
— Это Жюльет, племянница Миллике. Она пришла этой ночью.
— А!
— Да, ее выставила мамаша Миллике. Она поживет здесь.
— А!
Тишина.
Руж помолчал и наконец продолжил еще более нерешительно и смущенно:
— Скажи, Декостер, не знаешь, булочная уже открыта? Ты ведь можешь и с заднего хода… Нам бы нужно свежего хлеба…
— Ну да.
— А в молочной, если бы ты зашел, — полфунта масла. У нас-то все вышло…
— Да.
— А я пока сделаю кофе.
— Значит, масло и хлеб? — уточнил Декостер.
— Масло и хлеб.
— Хлеб, масло, и все?
— Хлеб, масло, и все… — Спохватившись, Руж добавил: — Погоди-ка, я дам тебе денег…
Он открыл кошелек; его лицо светилось, хотя солнце было у него за спиной, да оно и не вышло еще из-за горной гряды, где ему суждено было еще долго карабкаться по камням, обдирая колени и локти.
Декостер в своем вечном жилете пошел в булочную, перебирая длинными худыми ногами и размахивая несуразно вытянутыми руками.
Руж на цыпочках возвращается к дому. Он в домашней обуви, но галька все равно скрипит под тяжестью его грузного тела. Руж ставит ногу на землю, лишь уверившись, что другая не будет скользить. Он входит на кухню, прислушивается, но ничего не слышит.
«Делать кофе сейчас, — спрашивает Руж себя, — или подождать, пока она встанет?» Он что-то прикидывает и говорит себе: «Декостер будет здесь через двадцать минут, самое большее — через полчаса. Может, дождаться его?..»
Руж не решается сесть, боясь неловко вытащить скамью из-под стола, потом зажигает спичку и тушит ее, так и не поднеся к фитилю горелки.
Снова выходит наружу.
Он хочет посмотреть, не показался ли Декостер, хотя еще вовсе не время ему возвращаться; подходит к воде и смотрит в сторону деревни.
Одна за другой, по-собачьи чуя хозяина, к ногам его подкатывают волны. Руж смотрит туда, откуда должен прийти Декостер, и не решается бросить взгляд на единственное окно без ставень, которое он каждый вечер занавешивает куском полотна, пристраивая колечко на длинный гвоздь.
Он стоит спиной к окну, а легкие волны выгибаются и протягивают к нему лапы с белыми когтями. Руж приземист и грузен, с одного бока его голубая майка и брюки солнце окрасило в желтый цвет. Когда он поворачивает голову к деревне, его волосы тоже меняют оттенок; о трубке он и думать забыл. В небе над его головой кричат птицы, реющие над скалой на востоке. Синицы, щеглы, славки и дрозды никак не хотят угомониться. Руж думает: «Что это с ними сегодня?» Ему не по себе. «Нам-то что, мы со своим ремеслом и так встаем рано, а бывает, и раньше птиц. А вот ее они разбудят». Хорошо бы заставить птиц замолчать. Руж ошарашен шумом; воздух дрожит вокруг него, словно кто-то раздувает горелку. Вдруг наступила тишина, и лишь дрозд знай себе заливается где-то.
Дрозд все пел и пел, когда Руж услышал шаги и обернулся:
— Как?.. Это вы, мадемуазель…
Он не двинулся с места. Она рассмеялась. Над чем это она смеется? Руж хотел что-то сказать и не мог. Он смотрел на нее, вот и все. Он смотрел на ее шею, глаза и щеки… Он едва пересилил себя.
— Вы… Вы хорошо спали?
Она не услышала. Он сделал к ней шаг, потом другой; она даже не замечала, что он тут рядом. Она повернулась к востоку, туда, где возвышались большие горы. Между двумя вершинами была похожая на гнездо впадина; как раз там появлялось солнце, которое словно взмахивало крыльями, раздувая пух из крохотных розовых облачков, ну совсем как петух, воинственно топорщащий и складывающий блестящие крылья. Облака неспешно скользили ввысь, а снежные поля в горах сверкали, как серебристая бумага, которую дети разглаживают ногтем.
Она не видела Ружа, она не слышала его слов:
— Простите, мадемуазель… Я пойду приготовлю завтрак…
А она стоит и не слышит, потому что там, над скалой, все никак не умолкнут птицы с этим дроздом в придачу. Руж на кухне; слышно, как он наливает молоко в кастрюлю. Она смотрит через его плечо, смотрит на озеро. Руж держит за ручку коричневый кувшин с нарисованным на нем букетом цветов. Утро; она дышит полной грудью, медленно вдыхая живительный воздух, похожий на свежую воду. Руж чиркает спичкой под молоком. Вот и Декостер, который смотрит на нее, не говоря ни слова; он держит в руках буханку хлеба с завернутым в белую бумагу полуфунтом масла.
— А! Это ты… Поторопись. Возьми-ка чашки… — Руж вспоминает, что она может его услышать. — О Господи! У нас и скатерти нет…
— Ясное дело, нет.
— Надо бы купить… Поищи-ка чистую тарелку для масла.
В тот день Руж побывал у Перрена, чтобы попросить того помочь с крышей, потом отправился заказать черепицу и, наконец, зашел к Миллике, не желая откладывать разговор о Жюльет.
Утром, когда Декостер явился за маслом, работники на ферме как раз вставали с одноногих табуретов, собираясь водрузить на спины тяжелые жестяные бидоны. Приход Декостера развеселил их, заставив отвлечься от весов и тетрадок.
— Эй, Декостер, ты что, теперь на посылках?
Внутри стоял такой кислый дух, что из глаз текли слезы. Утварь из красной и рыжей меди прыскала бликами от лившегося в дверь солнца. Ясно было, что работники фермы уже все знают, оттого-то и веселятся.
Декостер не ответил ни слова, спросив лишь свои полфунта масла. Хозяин нарочно не сразу принес товар, и Декостеру пришлось вдоволь наслушаться шуточек дымивших сигаретами юнцов и попыхивавших трубками стариков:
— Он не такой уж дурак, твой хозяин.
— Еще бы.
— Покупки теперь на тебе?
Декостер хранил молчание, но дело получало не такой простой оборот, как можно было подумать.
Когда Руж пришел часам к трем в кафе, там было пусто. Грамоты с виноградарями, бочками и медалями из золота и серебра (о бронзовых обычно забывают), помешенные в рамочки или подвешенные за кольца, скучали на стенах.
К Ружу вышла молодая прислуга и не дала ему и слова сказать:
— Ой, это правда, о чем тут все говорят? Она у вас? Тем лучше!
Руж был недоволен и предпочел бы помолчать; он сел на свое обычное место, но служанку было не остановить:
— И, будьте добры, передайте, что я не могла ей помочь вчера вечером. Я очень хотела спуститься, но не было никакой возможности.
— Миллике тут?
— Даже если бы я звала ее через окно, она бы все равно не услышала…
— Так что Миллике?
— Он только пришел… Да, вы видели эту прелесть у нее в чемодане?
— Пришел откуда?
— Он ходил за врачом для жены.
— А что с ней?
— Не знаю. По-моему, что-то с сердцем…
— Не могли бы вы сказать ему, что я здесь?
Но Миллике уже и сам вышел. Хмурый, он встал в дверях, заложив руки за спину, и сделал знак Маргарите оставить их.
— Да, в смелости тебе не откажешь!
— В смелости?
— Ну да, а если ты узнаешь, что у нас траур, то вспомни то, что я говорил и могу повторить: «Это твоя вина». Да, твоя вина. Кто убедил меня пригласить эту девицу? Кто говорил: «Брат есть брат»? Брат, которого я не видел лет тридцать! Это что, брат? А она что, Боже мой, племянница?.. Ты этого хотел, да, да, ты, Руж, слышишь меня? А теперь моя бедная жена больна…
— Постой, постой! — перебил его Руж и заговорил спокойно и медленно, усевшись с другой стороны стола: — Я тебя не узнаю. Раньше мы были с тобой заодно… Я и пришел обсудить все с тобой. Ты знаешь, она сейчас у меня и у меня останется…
— О! Прибереги ее для себя! — сказал Миллике. — Десять или двенадцать франков на кассе вчера за вечер, да еще проблем с полицией мне не хватало. Оставь ее себе, если хочешь. Те еще клиенты за ней волочились…
Он был рассержен.
Но тут он посмотрел вокруг и как-то сразу сменил тон, увидев, что в кафе никого нет:
— Мне-то что? Это меня не касается. Девицу выставила моя жена. По мне, так могла и сама уйти… Я ведь ее законный опекун, и только на будущий год…
— Да брось, Миллике, довольно. — Руж сам начал побаиваться. — Ты не в ладу сам с собой, ведь ты же только что сказал, что рад от нее отделаться. Послушай, мы могли бы договориться. Мне шестьдесят два года, я ей в деды гожусь. Я оставлю ее у себя, но ты как опекун договоришься со мной о ее месте жительства. Бумагу какую-нибудь напишешь.
Миллике не желал ничего слышать.
— Посмотрим, — сказал он. — У меня сейчас других дел по горло… Бедная женщина, у нее совсем сдает сердце. А девчонку можно всегда поместить в приют…
— Ты просто свихнулся. Послушай… Я выделю ей содержание, а так как она под опекой, то получать его будешь ты. Сколько тебя устроит? Тридцать франков? Сорок?
— Ничего… — ответил Миллике.
Руж был снова сбит с толку.
— Мне что, брать деньги со старого клиента? Как это будет выглядеть? Пусть она пока у тебя побудет, что тут еще говорить… Кроме того, у меня ведь ее бумаги… Без них она ничего не может…
Они все еще были вдвоем, и у Ружа не могло быть свидетеля на всякий случай; у него не было ни свидетеля, ни бумаги, а разговор был окончен. «Но у меня есть я сам, — сказал себе Руж. — И я могу сам говорить за себя…»
«К тому же пока ни Миллике, ни властям нет до нее дела, — успокаивал он себя. — За Миллике я как-нибудь пригляжу… Ну, а законники знают, на что я способен».
На обратном пути к Ружу вернулось присутствие духа. Ему не терпелось дойти поскорей. Камни жгли подметки его башмаков.
У новой пристройки Перрен подавал Декостеру стропила цвета свежего масла; осколки посуды и кусочки стекла маленькими свечками переливались чуть поодаль. У самой кромки воды намокший песок вился цветной полоской на фоне более светлого берега.
Руж шел и глядел во все глаза, словно выискивая недостающую часть картины; потом он еще прибавил хода и издалека крикнул Декостеру:
— А… А… Мадемуазель Жюльет?
Декостер стоял на недостроенной крыше, расставив для равновесия тощие ноги.
— О! Ее уже давно нет.
— Что это ты говоришь?
— Да, она уплыла на лодке. Я сам дал ей весла…
Они и вправду всегда забирали весла от лодок домой, чтобы не вводить в грех прохожих, вполне способных соблазниться прогулкой по озеру.
— Она попросила у меня весла, ну, я и решил, отчего бы не дать…
Руж прошел дальше. Солнце било прямо в скалу. Оно завершало свой путь по небу и теперь уже низко висело на западном его склоне, уперев лучи прямо в карьер с набухшими на манер губок каменными пузырями. Они вспучивались прямо над берегом, просвечивая сквозь колючие кусты, приземистые дубы и какую-то привычную к сухой почве поросль с хилой листвой и тонкими стволами, мыльнянку и хвощи. Все это нависало над Ружем, как гигантский рефлектор, а он что есть сил раздвигал камыши и все повторял про себя: «Она просто голову потеряла!» Он знал, что из двух лодок она выбрала (как и в первый раз) крашенную изнутри охрой, а снаружи — зеленью, маленькую и старую, названную «Кокеткой». «Лодка, которая протекает, как решето». Руж посмотрел вдаль, сорвал фуражку и замахал ею над головой.
Она не сразу заметила Ружа. Она свесилась через борт и смотрела в воду. Там, в глубине, неподвижно стояли рыбы размером с руку, и видно было, как они открывают рты. Иногда они лениво шевелились, чуть поворачиваясь, как на шарнире; потом чмокали губами и выпускали гроздь пузырьков, всплывавших сквозь толщу воды, как связки воздушных шариков, упущенных нерадивым торговцем. Она еще немного перевесилась через борт…
— Мадемуазель, мадемуазель Жюльет!
Она увидела фуражку, потом голову над камышами, потом, наконец, всего Ружа, шедшего к ней. Она взмахнула веслом всего раз. Всего один взмах правым веслом, упор и рывок всем телом, еще один — и вода вынесла ее куда нужно.
Руж стоял на мостках (сколоченных кое-как из кольев и щелястых досок) и, опустив глаза, протянул ей руку, помогая выйти из лодки. Он не смог сдержаться:
— Вы что, не видели? Еще минута…
— И что? Будто я плавать не умею!
— Дело не в этом. Не надо брать лодку, пока мы ее не починим. Прямо сейчас и начнем. Кстати, здесь и Перрен, он поможет. Втроем тут и дел-то…
Он стоял к ней спиной и казался целиком поглощенным маневрами с лодкой. Она подняла руку к волосам, и солнце вспенилось вокруг них; расстегнулись застежки на узком корсаже…
Он на нее не смотрел. Сложив руки у рта, Руж крикнул:
— Эй! Вы там…
Над камышами пронеслось:
— Эй! Вы там, Декостер…
— Ого! — донеслось в ответ.
— Давайте-ка, идите сюда с Перреном.
— С этими лодками не так-то легко управляться, — заметил он. — Но уж если надо…
Мужчины подошли, и Руж сказал:
— Мне б тут помочь…
Немного удивившись, они помогли Ружу дотащить лодку до самого дома.
Все дела навалились сразу, ибо тут-то и привезли черепицу. «Кокетку» уложили на козлы килем вверх и взялись за работу. Выбрав момент, Руж сказал:
— Что это за имя такое дурацкое — «Кокетка»?
Он соскребал ножом остатки старой краски, слезавшей лохмотьями и открывавшей живое дерево.
— Раз уж мы за все это взялись, можно дать ей другое имя. Если вы, конечно, согласны, мадемуазель Жюльет. Согласны? Тогда будете ее крестной… Назовем ее вашим именем. Лучше и не придумать.
Дымка погожего дня плыла над горизонтом, будто кофейного цвета пыль, вьющаяся над дорогами и амбарами в день жатвы. Красное солнце было безупречно круглым. На него можно было смотреть, не отводя глаз.
Руж скреб лодку. На берегу отсвечивал огонек.
Глава восьмая
В то воскресенье около одиннадцати малышка Эмили в своем самом красивом платье подошла к большому розовому дому семейства Бюссе. Сбоку к нему прилепилась терраса, на первом этаже помещались комната прислуги, кладовка, хлев и амбар. Чтобы подняться наверх, приходилось пройти на террасу, куда вела каменная лестница с железными перилами, укрытая буйно разросшимися ветвями платана. Обычно Эмили поднималась прямо наверх, но в этот раз осталась стоять во дворе. Она посмотрела на окна, стоя на хорошо выметенных накануне плитах; следы метлы еще виднелись на земле вокруг. Эмили смотрела на окна, амбар и кладовку; дверь амбара, высокая и закругленная сверху, была закрыта; у кладовки была квадратная дверь, а у хлева — вся в пучках соломы. Нигде не было ни души. Прежде она шла наверх и там уж точно встречала кого-то в этот час перед полуденной трапезой. В этот раз Эмили не решалась войти. В левой руке она держала книгу гимнов в черном переплете. «Вдруг кто-нибудь выйдет, просто заметит меня и выйдет», — думала она.
Но она ждала напрасно, вокруг по-прежнему не было ни души.
Тогда Эмили вышла со двора и пошла по улице, переходящей в большую дорогу; встречала прохожих, здоровалась, не поднимая головы и пряча глаза под полями шляпки. Она дошла до конца деревни и повернула обратно.
На ней было нарядное белое платье с голубыми цветами и кружевным воротничком, белые перчатки и в левой руке — книга гимнов. Вся эта красота была для него. Ей было едва семнадцать, ему восемнадцать. Перед сном Эмили мыла свои светлые волосы шампунем с ромашкой, любовно накручивала их на кожаные папильотки, а утром радовалась их славному медовому цвету — и все это даром, все совсем зря.
И никому не нужны были открытые ботинки орехового цвета, белые шелковые чулки и вся она, свежая и благоухающая; ее щеки, которые стали бы еще прелестней, стоило только ему пожелать.
Но он, чего уж тут, не хотел, и она возвратилась той же дорогой. Вот тот же дом, та же улица, одним концом упирающаяся в озеро, а другим — в кафе Миллике. Три ее подружки шли навстречу, держась за руки.
— Вот хорошо, ну и встреча! Что у тебя сегодня вечером?
— Еще не знаю.
— Тогда ты с нами, нас всех приглашает Матильда. Она просила зайти за тобой, но мы не знали, вдруг ты… Но можно ведь взять Мориса…
— Спасибо, посмотрим.
Больше они ничего не сказали. Морис…
Они ушли, бросив на прощание: «Ну ладно, тогда до скорого…»
Она шла, все замедляя шаг: вдруг он все-таки выйдет… Вот снова показался тот двор; Эмили едва подняла голову, но не остановилась, у нее просто не было сил, она бы хотела, но сил не было.
Часа в два она приняла решение. В конце концов, разве они не были почти официально помолвлены?
Они были знакомы всю жизнь, но никто не решится сказать, когда стали близки. Хорошо проводить границу на картах и в книгах — в человеческом сердце ее не заметишь. Все происходит само собой, и только потом понятно, что это случилось. Она могла, даже должна была туда пойти, говорила себе Эмили, и маме Мориса нечего было удивляться.
Когда Эмили вошла, та была на террасе.
— А! Эмили.
Мадам Бюссе читала газету, сидя в плетеном кресле под платаном. Она сняла очки и сказала:
— Бедняжка Эмили, ты опоздала… Морис уже ушел… Ах, ты не знала… Он сказал, что у него собрание молодежной ассоциации, они готовятся к празднику… Так вы не условились? Ну хорошо, садись… Я одна, и мне будет приятно. Он может вернуться пораньше.
Эмили продолжала стоять.
Мадам Бюссе снова надела очки и взялась за газету; девчушка была для нее почти членом семьи. Лишь увидев, что Эмили так и осталась стоять, она взглянула на нее сквозь сверкнувшие стекла очков:
— Ты не хочешь присесть? Боишься со мной соскучиться? Ну, конечно, ведь ты так молода. Хорошо, возвращайся к чаю, он уже должен быть здесь…
Эмили ничего не ответила. Она спустилась по лестнице. Надо было идти, но куда? Жизнь только там, где он, без него пустота. Она хотела дойти до кафе Миллике, сама не веря тому, что он может быть там.
У Миллике на террасе было немного народа; на площадке для игры в кегли два-три старика потягивали трубки.
Несколько стариков с трубками, мелок и прибитая к стволу грифельная доска, и это все, и вокруг пустота. И только сердцу было еще больней от похожего на смех звука падающих кеглей.
В это время Морис пролез по дикому склону на самый верх скалы. Прямо под ним на песчаном берегу стоял ставший трехцветным дом Ружа. Крыша новой пристройки была светло-красной, старая часть побурела от солнца и непогоды, а сарай был покрыт пропитанными битумом черными листами картона. Крыша крышей, но сам дом весь был выкрашен в задорный желтый цвет лугового масла (если коровы едят траву, масло становится более темным).
Как раз в этот день Руж достал из шкафа металлическую шкатулку и показал ее Жюльет.
— Я никогда не клал деньги в банк, — объяснил он. — Приходя к ним, я казался бы себе вором… Мои денежки всегда при мне. Я говорю это вам, мадемуазель Жюльет, чтобы вы знали, где их взять. Видите, как удобно: никакой писанины, никаких акций…
Когда дом был перекрашен и крыша уложена, пришла пора обновить все внутри. Вот Руж и достал шкатулку.
— Хорошо, что деньги здесь, под рукой, — сказал он Жюльет. — Вы должны только сказать мне… Хватит им туг почивать… Вы должны выбрать обои для вашей комнаты, да и мебель… Вот ведь, как дело выходит. Все-то я расширялся да расширялся, а зачем, спрашивается? Старея, становишься меньше… Ремонт, снова ремонт, а я сам-то… Вот, как оно поворачивается… Все словно специально для вас. Ведь было написано… Да, так какие обои? — перебил он себя.
— Не знаю, могу ли я…
— Ясное дело, можете…
— Ну, ладно! В наших краях обходятся без бумаги, а просто белят стены…
— Решено! Проще некуда… Даже чище будет, да и работы меньше. Значит, всю комнату белым?
— Всю белым.
Руж с Декостером взялись за дело, а она помогала им, веселясь при виде огромных кистей и вёдер с известкой, похожей на сметану. Для пола отыскалась красная плитка, и, когда все было закончено, она принялась танцевать на ней, приговаривая:
— Все, как у нас.
— Как у вас? У вас — это теперь здесь.
Но она не унималась и пела:
— Как у нас, как у нас!
Вокруг все пропахло замазкой и клеем, но лившееся в открытое окно солнце должно было скоро все высушить.
Руж казался весьма довольным, и можно было видеть, как он уткнулся в какой-то справочник.
В тот день Декостер уходил к себе.
— Декостер, — сказал ему Руж. — завтра ты будешь нужен. Приходи пораньше и ни ногой отсюда. Поможешь повесить занавески мадемуазель Жюльет.
Руж заказал занавески у мастерицы в деревне, но оставался еще вопрос мебели.
— Ну да, мебель, — сказал он. — Я бы взял вас с собой, но… С Декостером бояться нечего; вам лучше остаться здесь, вот только вы бы сказали мне, что вам больше нравится…
— О! Берите на свой вкус… У нас было…
— Какая была у вас мебель?
— Не важно… Берите что угодно…
— Хотите белого цвета?
— Можно.
— Так, стол, один или два стула… У меня есть тут адресок… — Руж делал пометки в тетрадке. — А еще, — сказал он, — я куплю вам большое красивое зеркало, для женщин это ведь самое важное… Я пойду прямо с утра и вернусь к полудню. Ждите меня. Лучше бы вам не выходить. Как бы кто… Но с Декостером вы будете в порядке… — Помолчав, он добавил: — Да, и вот еще что… Ну, раз уж мы об этом… Деньги-то лежат без дела. Можно бы… Одежду… Я хочу сказать, что если у вас не хватает белья или платьев…
Она рассмеялась:
— О! Платья. Вы их еще не видели, они в чемодане. Отец хотел, чтобы я наряжалась по воскресеньям, когда он приезжал в город. Он всегда привозил мне подарки… Это платья из наших краев…
На ней все еще было короткое черное сатиновое платье; Руж бросил на нее взгляд и, помолчав, сказал:
— Раз так, хорошо… Если мне попадется что-то, что вам к лицу, уж раз я там буду…
На следующее утро Руж сел в поезд, а через день вся деревня в изумлении следила за зеленым фургончиком с золотыми буквами, который, покачиваясь на ухабах, медленно въехал на песчаный берег. За ним увязались любопытные, издалека наблюдавшие за разгрузкой.
— Деньжата у него есть, как же иначе. Сами полюбуйтесь.
— Черт побери! Сколько лет он уже вкалывает? Сорок, не меньше. Да и работник он дельный, чего уж тут. Куда ему было тратить…
Двое рабочих в одинаковых кепках все еще выгружали большие коробки из серого картона.
— Это, должно быть, стул…
— А это каркас для кровати…
— Да, вот еще…
— Боже мой, он купил ей кровать…
Рабочие поставили на землю последние три упаковки и забрались в фургон, который, пыхтя голубым дымом и переваливаясь, пустился в обратный путь по песчаной косе. Ему приходилось несладко, и задние колеса подчас увязали по самую ось.
Это было в пятницу после полудня. Прошло с лишком три недели, как она поселилась у Ружа. В субботу с утра она отправилась с ними ловить рыбу. Руж усадил ее на корме.
— Нам бы здорово помогло, если вы справитесь с рулем, — сказал он.
Она знала, что надо делать. Они отчалили на рассвете и поплыли к огонькам двух фонарей, укрепленных на бочках. Они стали рыбачить, и в этот раз им повезло. Они начинали привыкать жить втроем, и в этой жизни девушке нашлось место.
Декостер повез на вокзал ящики с рыбой, а Руж повязал на поясе тиковый фартук с большим карманом и пошел в сарай, где громоздились весы, несколько пар старых и новых весел, сваленных друг на друга, в углу садки для рыбы и прочая утварь. Вдоль стен гирляндами висели сети, ставшие от купороса зелеными и голубыми.
Через некоторое время Руж появился снаружи и обогнул сарай. Он направлялся к шестам, на которых сушатся сети; та, что они брали утром, была уже там. Сети надо сушить, а иначе они сгниют. Она тоже пошла с ним и видела, как он вынул из кармана фартука ткацкий челнок и, повернувшись к стене из ячеек, принялся за дело. Они начали со стороны сарая. Оттуда, похожие на туманную дымку над росистым лугом, сети тянулись метров на десять. Руж склонил голову в фуражке с блестящим козырьком и стал пропускать сеть между пальцев. Дырки в сетях надо заделывать сразу, а не то они расползутся. Мало ли от чего рвется сеть: от волн, крупной рыбы, от кольев. Руж ведь рыбачил каждый день, а сейчас стоял перед сетью, держа челнок в огрубевших пальцах острием кверху и подправляя распустившиеся узлы. Он стоял, опустив голову и одним движением руки завязывая узел. Взмах рукой — узел. Потом он вынимал из кармана нож и обрезал нить.
Дело это тонкое и требующее внимания, оборотная сторона ремесла, вовсе не похожая на другую. Он пропускал сквозь пальцы сеть, и она падала вниз под тяжестью грузил; шел дальше, все так же уперев живот в прозрачную стену. Потом поднял глаза. Она была рядом и следила за ним, присев у склона и сложив на коленях руки. Руж посмотрел на нее и сказал:
— Такая уж работа. Вам интересно?
Она встала.
— А это трудно?
— О! Нет.
— Покажете мне?
Она подошла к Ружу.
— Конечно. Вы и вправду хотите этим заняться? — Он посмотрел на нее. — Это как раз женское дело.
Ремесло диктует всем нам свои законы, но у этого есть оборотная сторона. Приходится быть и мужчиной, и женщиной, ибо женщины рядом нет. Или не было раньше. И вот…
Руж пошел за другим челноком.
Она заняла среди них свое место, его и искать-то не приходилось. Лучшего для нее и придумать было нельзя.
Руж вынес челнок, и теперь они на пару склонились над сетью, черноволосая девушка и мужчина в фуражке.
Ну, что ж, на другой день можно было и отдохнуть.
— Завтра можешь прийти к восьми, — сказал Руж Декостеру, посвящая его в свои планы. — Завтра отдых. В воскресенье больше не будем ловить. Надо дать ей поспать, потому что теперь она каждый день будет с нами. Самое раннее — в восемь. Или в половине девятого.
Декостер так и сделал. Руж был на ногах к восьми. Она еще спала, и Руж осторожно ступал в своих тапочках. Он подошел к двери, приоткрыл ее и убедился, что погода хорошая. А вот и Декостер, он шел, ставя ноги с оглядкой, неся булку под мышкой и что-то еще в руке.
— Что это там у тебя?
— Сюрприз.
Это был большой лист мангольда, прикрытый таким же листом. О том, что лежало внутри, знал один Декостер, чей живой глаз сверкал на довольном лице, отчего другой казался совсем потухшим и мертвым.
Руж старался скрыть любопытство:
— Это ты для кого?
— А!
Руж помолчал, но вдруг спохватился:
— Послушай, пора накрывать на стол… Раз уж это сюрприз, положи его у ее тарелки.
— Это мне? Что там? — спросила она, посмотрев на листья.
— Понятия не имею, — сказал Руж.
— Я тоже, — в тон ему произнес Декостер.
— Я могу посмотреть?
Она приподняла верхний лист и в блестящей складчатой чашечке нижнего увидела ягоды лесной земляники. Самые первые в этом году.
— Это вы? — Она повернулась к Ружу.
Руж помотал головой.
— Значит, вы? — спросила она Декостера.
Тот сделал знак, что нет. Она пожала плечами.
Дверь оставалась открытой, и за ней погожим воскресным днем на воде множились лодки и паровички: при случае люди из деревень на горах и за ними любили спускаться вниз по воде: ее дивная гладь сверкала между жердей заборов и манила всех на простор из их тесных мирков. Те, кто хотел, всегда могли взять напрокат у Перрена лодку на часок-другой. На простор выходили и белые пароходы под красными, зелеными, белыми и трехцветными флагами, предупреждавшие о своем появлении глухим шлепаньем огромных колес, а иной раз — хоровым пением мальчиков и девочек. Они пели в два голоса, и бывало трудно определить, откуда доносятся звуки, потому что над водой они разносятся всюду. В открытую дверь неслись голоса, а на свежевыбеленном потолке мелькали тени от набегающих волн. Свет лился и сверху, и снизу, серебря стоявший на столе кофейник. Один из пароходов (можно было прочесть название Рона), чей нос и корма были словно отрезаны, а труба уперлась в притолоку, на мгновение заполнил дверной проем. Кофейник блестел, а чашки сверкали не одним, а всеми боками. Они только что закончили завтракать, и Жюльет осторожно брала пальцами ягоду за ягодой. Вдруг Руж поднялся с места. Мимо проплыл пароход. Декостер проскрежетал скамьей по цементному полу. Воскресенье выдалось на славу. Руж вышел, засунув руки в карманы, и по привычке двинулся к берегу. Декостер занялся посудой. Она хотела помочь, но Декостер лишь сказал: «Нет, мадемуазель, это мое дело». Тогда она пошла в свою комнату, где все сверкало новизной: кровать, стены, потолок, плитка. На окне были белые занавески, и лучи солнца переплетались в воздухе, отражаясь в большом настенном зеркале. Зайчики плясали в ее волосах и на плечах. Она подошла к зеркалу и закрыла глаза, крутя в пальцах прядь волос над ухом. Вокруг была благодать, но тогда отчего это вдруг?..
Она была в комнате, а Руж — на песке у воды; было слышно, как он ходит туда-сюда.
Она отодвинула занавеску и выглянула наружу; она увидела, что Руж тоже не знает, чем бы заняться, и бродит, сунув руки в карманы.
Что такое? Она не знала. Кто-то в лодке пел вдалеке. Купальщики перекликались у подножья скалы, их смех приглушала вода. Она вышла и пошла к Ружу, и тут вдруг зазвонили колокола. Над верхушками деревьев виднелась колокольня с жестяной проржавевшей крышей и красным флюгером-петушком. Она подошла и встала рядом с Ружем, тот показал ей на колокольню, потом на другие места вокруг, а в это время рыбки выпрыгивали из воды за его плечом. Декостер наводил порядок на кухне и гремел посудой. На колокольне качались два колокола, один звонил отрывисто и часто, другой — глухо и редко.
— Не правда ли, красивый перезвон?
Все оттого, что сегодня было воскресенье. Мир вокруг стал прекрасным.
— А что же вы?
Руж замолчал, он внимал воскресному дню. Кто-то пел в гребной лодке, купальщики под скалой кричали и звали друг друга, пели напоследок дрозды. Он посмотрел на нее, и она сама оглядела себя: черное платьице, голые ноги в старых кожаных туфлях.
— О, — сказала она, — я не решалась… В прошлый раз, вы ведь помните, мне досталось…
— Теперь, — сказал Руж, — вам нечего опасаться.
— Тут это не принято, да и моды здесь не те, что у нас…
— У нас?
— Ну да, у нас там.
— Вот именно.
— О! Раз вы хотите, — сказала она, смеясь, — подождите минутку…
Вот отчего Морис — там, в кустах на скале, — не сразу узнал ее, когда она появилась. Она вышла на яркое солнце, вся увитая желтым, и шла в его свете. Он узнал ее только тогда, когда она дошла до воды и повернулась, словно обращаясь к кому-то.
Морис видел переднюю часть дома Ружа немного наискось и не мог понять, с кем она говорит, но ее-то лицо он разглядел хорошо — лицо девушки в просторной желтой шали с цветами, спускавшейся ниже колен.
Теперь он все видел, словно в бинокль: она была здесь, перед ним, вот она выпрямилась, рассмеялась и сказала что-то через плечо, пошла назад. Все — угол дома скрыл ее от Мориса и вернул нам.
Оттуда, из своих кустов, он наблюдал происходящее. Вот подплыл плот с двумя мальчуганами; они не могли сесть и стояли на нем по щиколотку в воде, орудуя самодельными веслами. Плот они смастерили из досок, прибитых к двум половинкам бочек. Если не считать коротких трусов в голубую полоску, они были голые и уже загоревшие.
Плот появился из-за сосняка; было слышно, как мальчишки громко спорят:
— Эрнст, не зевай, мы опрокинемся…
— Сам виноват.
— Говорю же тебе, это ты.
Они еще не доплыли до сияющей полосы, пересекавшей озеро наискосок от солнца до самого берега, — точь-в-точь их большой дороги с кочками, выбоинами и сучками (как на истертом полу). Вот и мальчишки, и плот стати черными…
Послеполуденный час в воскресенье. Везде голоса, песни и смех. Морис видит гуляющих по берегу людей, лодки чуть дальше на воде. Он слышит детские крики и пытается разглядеть плот, но солнце слепит ему глаза. Мгновение он ничего не видит, кроме плывущих перед глазами красных и розовых кругов, постепенно заполняющих весь горизонт. Вот и она, когда появляется снова, становится лишь желтым пятном в желтом круге неверного взгляда. Потом пятно приходит в движение и тоже становится черным на фоне блестящей воды.
— Эй, вы, там! — кричит Руж. — В первый раз, что ли? Гребите одновременно…
Руж подходит к Жюльет, а за ним Декостер. Тем временем плот вновь показывается на голубом просторе воды, и тела ребятишек снова обретают свой коричневый цвет.
— Эрнст, греби же направо… Луи, вставай слева. Ну, давай же, Луи, еще…
Она подходит к Ружу и, наверное, о чем-то просит. Вот она говорит, потом замолкает, склонив голову, настойчиво качает головой. Руж, должно быть, в конце концов соглашается. Она хлопает в ладоши.
Морис видит, как Декостер быстро идет к нему, словно обнаружив его укрытие, но он не поднимает головы, а, вытянув шею, смотрит под ноги. Вот он входит в камыши.
Морис следит за Декостером, потом переводит взгляд на берег; он обнаруживает, что она снова исчезла.
Тем временем Декостер отвязывает лодку, которая раньше звалась «Кокеткой», а теперь больше так не зовется. Лодка стала как новенькая, снаружи покрашена зеленью, а внутри — охрой. Декостер вставляет весла и гребет сквозь камыши, сворачивает направо и выходит на чистую воду. Последний взмах весел, киль скрипит о песок — и он причаливает перед Ружем. Декостер спрыгивает на берег и ждет; Руж ждет. «Жюльет», похоже, тоже ждет, легонько покачиваясь на животе; ее крутые бедра колышутся туда-сюда, а за ними из воды, словно из сковородки с кипящим маслом, выпрыгивают маленькие блестящие рыбешки.
Вот она появляется вновь, и горы ликуют. Она идет в своей шали, и видно, как длинная бахрома струится вдоль ее ног и отлетает от выпуклых икр. Прекрасные голые ноги ступают по гальке. Миг — и желтая шаль на земле; Декостер толкает «Жюльет», горы сияют, рыбки прыгают из воды; сияет она сама, ее широкие плечи и обнаженные руки. Дети кричат на плоту — это она в шутку правит прямо на них. Она гребет, и мальчишки тоже гребут, стараясь увернуться, потом видят, что не успевают, и прыгают в воду.
На все это он смотрит сверху. Он видит, как солнечные лучи падают на склоны гор и постепенно бледнеют — словно мед струится по склонам скалы. Внизу луга осыпаны золотой пылью, а над лесами парит разогретый пепел. Все вокруг, соревнуясь друг с другом, хочет стать еще прекрасней, чем раньше. Все: вода, горы, небо, то, что течет, и то, что неколебимо, и то, что ни то, ни другое, — все сущее спаяно вместе, перетекает друг в друга и делится с миром. Все — вокруг нее и из-за нее, думает он и говорит себе там, наверху. Красоте есть место…
Мальчишки смеются и силятся забраться обратно на доски. Они что-то кричат Жюльет, плюясь водой и приглаживая мокрые волосы. Теперь слышно, что они кричат: «Мадемуазель, погодите, мы вас возьмем на буксир».
И она соглашается. Вот они подплывают, привязывают к корме своего плота веревку от лодки и берутся за весла.
Она подыграла мальчишкам и теперь медленно плывет за плотом; она ближе, еще ближе. Вдруг откуда ни возьмись Шови со своей вечно мятой шляпой; он идет к берегу ей навстречу и там величавым жестом снимает шляпу, открывая плешивую голову.
Руж бросается на него, потом кричит остальным зевакам:
— А вы? Вы-то что здесь забыли? — И, не скрывая гнева: — Вы тут у себя дома, что ли? Убирайтесь сейчас же, поняли?
В тот же послеполуденный час у Миллике играют в кегли, и между двумя бросками шаров вдруг опять звучит чудная музыка и уже не стихает до самого вечера. Игрокам в кегли не до нее: очки на грифельной доске куда важнее.
Тишина.
Вот другая нота, а потом постепенно и целая гамма, сначала робко, потом все быстрей и быстрей, вверх и вниз, вверх и вниз, как струя водопада, летящая разом на землю и ввысь.
Наступает вечер, и тут начинают звучать аккорды басов. Первый аккорд, за ним еще и еще.
Их берут бережно, и слышно, сколько любви в движениях пальцев.
Глава девятая
К Миллике, пряча улыбки, стали сходиться клиенты.
Миллике стоял прямо, опершись руками о край стола. Ему говорили:
— Ну что, как племянница?.. Похоже, у нее все в порядке?
Миллике пожал плечами, завел руки за спину; однако, подцепив его на крючок, никто не собирался упускать добычу.
— Н-да, люди, похоже, болтают не зря. Кому же и знать, как не вам. Похоже, Руж обставил ее жилище… Накупил самой лучшей мебели…
Миллике снова попятился и, уже стоя в дверях, решился:
— О! Можете быть спокойны. Недолго им там осталось.
— И что ж ты придумал?
В понедельник история с плотом пришлась как нельзя кстати. Она наделала шума в деревне. Мамаши двух пареньков отправили их в постель без ужина, а потом все разболтали соседкам.
— Как же, у Ружа они не скучают. Семейные купания завели…
Миллике как раз подавал им выпивку и оторваться от стаканов не мог, но, сделав дело, грохнул графином об стол:
— Отвяжитесь вы от меня, наконец! Будто я и сам не знаю, что делать…
— Ну-ну!
— Вы-то думаете, что я попал впросак, а время работает на меня!
Раздался хохот, и кто-то спросил:
— Ну, а потом, когда ты наконец решишься?
— Чего проще? Подам жалобу.
— На кого? Ты сам же ее и выгнал!
— Я выгнал?
— Твоя жена, если хочешь… Жена или ты — для закона нет разницы.
— Сначала надо решить…
— Чего решать, все равно ты в ответе… Ну, ладно, подашь ты жалобу, а потом? Что, заберешь ее обратно?
Снова раздался смех, потому что вся соль была в этом, и Миллике приходилось слушать: «Как ни поверни, ты внакладе…» И это была правда.
Маленькая служанка часами что-то вязала в своем углу. Воробьи вили гнезда в ветвях платанов, заполняя все своим гомоном и роняя едкий помет на столы. Миллике в грязной рубахе и стоптанных туфлях едва волочил ноги. Он появлялся в дверях и смотрел на редких теперь клиентов, хотя каждый вошедший казался ему личным врагом. Вдобавок ему приходилось избегать встреч с женой, которая, к несчастью, недолго пролежала в постели.
Руж не приходил.
А она продолжала ловить с ними рыбу. Ей находилось дело каждое утро, когда они садились в лодку и плыли снимать сети. Она управлялась с рулем; Руж говорил ей: «Направо… Налево… Прямо…» — а она тянула то за ту, то за другую бечевку, сидя на задней скамье. Весь конец месяца и большую часть следующего стояла отличная погода. Казалось, что лучше места для нее не придумаешь. Серая вода порой меняла цвет на оранжевый и лимонный. Иной раз казалось, что плывешь по клеверному полю, раздвигая веслами стебли. Она была здесь как дома. Чайки и редкие гости, лебеди, раздували перья от злости, когда они подплывали чересчур близко; кроме них, ни одной живой души не было вокруг (птицы в лесу уже перестали петь), только вода и ее многоцветье, только песок и камни.
…Они были у вершины угла из двух морщин на воде, которые плавно расходились, словно складки на платье. Она еще немного подтянула левую бечеву, и они пошли прямо на бакен. Мужчины бросили весла, Декостер устремился на нос как раз в ту секунду, как лодка уткнулась в бело-красную бочку (самые различимые издалека цвета) с еще светящимся, но ничего не освещающим фонарем. Декостер взял в руки пузатый фонарь с едва заметным в розовом воздухе огоньком. Фонарь передали Жюльет, и она поставила его на корме. Чтобы не мешать, она сидела, обхватив руками колени. Мужчины потащили сеть, нагибаясь и выпрямляясь в розовом свете. Стоя бок о бок, наполовину склоненные над водой, они орудовали розовыми руками и бросали рыбу под ноги. Потом наконец солнце встало из-за горы, и тогда цвет, и свет, и сам мир словно родились заново. На руках мужчин заплясали огоньки, подобные сонму других, живших в каждой волне…
Солнце не делало разницы между нею и ними, оно любило ее не меньше их, его старых знакомых и верных спутников. Свет ложился ей на висок, на щеку, на гладкие пряди волос, сверкавшие, как стальные клинки. Мельчайшие жилки проступали на шее сбоку, у горла. Она обвивала руками колени и оборачивалась к солнцу, толчками поднимавшемуся из-за горы, словно гора крепко держала его, а солнце просило ее: «Отпусти!» В воздухе веяло теплом, пахло рыбой, пятна света играли на ее плече и изгибах тела. Не выпуская из рук сеть, Руж спросил:
— Ну что, мадемуазель Жюльет, все в порядке? Не слишком скучаете?
Сеть уже висела складками на борту, свиваясь гирляндой из поплавков и грузил; она улыбнулась и покачала головой.
Она была как драгоценность, украсившая их жизнь.
— Скоро конец, — сказал Руж и снова посмотрел на нее.
Они подплыли ко второму бакену и уткнулись носом в распиленную бочку.
— Ну вот, мадемуазель Жюльет, задело! Вы нам снова нужны…
Она вздрогнула и огляделась по сторонам. Они возвращались к берегу. Как всякий раз, когда они ловили с пяти до семи-восьми утра. Мужчины гребли, сидя спиной к земле и лицом к солнцу. Они плыли с востока, со стороны света, где Иерусалим, на запад, к камышам устья Бурдонет, которые росли прямо на глазах, образуя стену, перед которой далеко в воде расплывалось желтое пятно. Они направлялись к высокой скале, немного повернули лодку — и вот уже стал виден дом с трехцветной крышей. Вокруг никого не было, час купания еще не настал, деревня жила своей жизнью за молчаливыми виноградниками. Мужчины гребли, она сидела на руле.
Они пристали к берегу.
Был утренний час рыбаков; Руж снова посматривал на нее. Декостер только что ушел с тележкой, а Руж растянул сети. Он набил трубку и запыхтел, втягивая щеки. Дым пробивался сквозь щетину усов.
— Ну как? — спросил он вдруг.
Вокруг царило спокойствие; натянутая на колья сеть висела прозрачной стеной, как струящаяся из земли пелена тумана.
— Ваше ремесло вам по душе, верно? Ваше новое ремесло? — Руж затянулся трубкой и снова нагнал дыма в усы. — Это отличное ремесло. — Он указал на сеть, воду, небо и дом. — Подходящее ремесло для всех, для вас и для меня, для мужчины и женщины, ремесло из двух половинок… Бывает же так! — В который уж раз, но все еще недоумевая, он повторил старую мысль: — Выходит так, что мы вас ждали, вас нам не хватало, а вам… — Он заколебался: — А вам… тоже, может быть, не хватало… Здесь, знаете, тихо, нам это подходит, и вам было нужно… Как все одно к одному!
Он продолжал говорить, а она — слушать; Руж поднял руку:
— Спокойствие и свобода… Поглядите на остальных — тех, что на земле, а не при воде, как мы, — и вы увидите разницу… Все они… Вы же сами все видели… Все эти Миллике, лавочники, виноградари, пахари, владельцы кусочка луга и поля — они все на привязи… Одна дорога между двух стен или загородок… Делай то, делай это, туда не ходи… Не могут свернуть ни вправо, ни влево… Я… Мы идем, куда пожелаем. У нас есть все, потому что нет ничего…
Руж сам не знал, как отважился на такую речь, но теперь уже не мог замолчать и подкреплял свои слова жестами.
— Нам все нипочем, делаем, что хотим, ходим, куда хотим… Ну, вот хоть сейчас, ну, кто помешает нам делать то, что взбредет нам в голову? А эти… Живут на пятидесяти метрах, едва повернешься… Мадемуазель Жюльет? — Руж вдруг прервался. — Я думаю, мы сможем уладить, мы сможем уладить все это… — И снова: — Здесь иди себе, куда хочешь и сколько хочешь: соседей нет, заборов нет, никто не лезет с правилами… Вам бы такое подошло? Если мы сможем уладить…
В тот день он так и не договорил; она слушала и два-три раза кивнула головой, словно соглашаясь. Это было утро после ловли рыбы…
После полудня Руж с Декостером возились с сетями, а она была у себя в комнате. Мужчины трудились у сарая на солнцепеке, а она, должно быть, пошла соснуть — так они думали, ведь это принято там, откуда она родом. Оба они склонили головы в кепках; вдруг раздался едва слышный звук, словно камешек покатился. Руж выпрямился: это была Маргарита, маленькая Маргарита из кафе Миллике. Она стояла на вершине склона, над берегом, прямо среди зарослей, куда, иначе как полем, из деревни и не доберешься. И все же это была она, в своем черном платье с высоким воротничком и букетиками белых цветов. От бега у нее раскраснелись щеки и волосы растрепались даже больше, чем обычно. Она озиралась вокруг, как птица.
— Я из-за мадемуазель Жюльет…
Она снова огляделась, но кусты, деревья и склон скрывали ее от непрошеных взглядов. Она говорила вполголоса:
— Миллике вдрызг разругался с женой… Я-то что? Мне надо было сбегать в деревню, вот я и пришла, чтобы вы знали… Потому что она сказала, что он будет здесь… Да, господин Миллике. Он сказал, что сам придет за ней, что это его право… Он придет за мадемуазель Жюльет, а если вы ее не отпустите, подаст жалобу… Жена требовала у него двадцать тысяч франков… Двадцать тысяч, только представьте себе! Наверное, какие-то бумаги пришли, он ведь должен за дом. Жена кричала, что он ее разорил. Я думаю, они внесли за дом ее деньги… Она кричала: «А мои двадцать тысяч франков, мерзавец, двадцать тысяч, где они? Что ты с ними сделал?» А тот: «Твои двадцать тысяч франков, ты хочешь свои двадцать тысяч? Ты их получишь, клянусь, но только не мешай мне… Молчать! А, ты разорена, ну ладно, погоди же… Сама знаешь, почему ты разорена». И еще он сказал: «Прямо сегодня вечером… Посмотрим еще… Он меня выслушает. Есть же правосудие; если надо, возьмем и жандармов…» Он придет, он придет, господин Руж!
— Он не придет, — сказал Руж.
— Как же нет, господин Руж, он ведь сказал жене: «Поднимайся к себе и оставайся там… Больше не выходи…» Он придет! Ясное дело, придет…
— Посмотрим еще.
— А она, как она там?
— У нее все хорошо.
— Тем лучше, но мне пора бежать. Скажите ей, ладно? Скажите ей тоже…
— Не стоит. Я сам пойду к Миллике.
Он хотел сказать что-то еще, но малышка Маргарита уже неслась обратно в высокой траве, перебегая от дерева к дереву. Руж не двигался с места. Он пару раз мотнул головой, поднял руку и позвал Декостера:
— Вообще-то, все к лучшему. Это дело давно пора уладить… Я пойду к нему прямо сейчас. Узнает, по крайней мере, что значит со мной связываться. Жди меня здесь. Я вернусь через полчаса.
Он стоял, словно не зная, на что решиться; бросил взгляд на дом, но вдруг передумал и отвернулся.
Руж поглубже надвинул фуражку на лоб и, как был, в штанах и рубахе, быстро пошел прочь.
— Ни шагу отсюда, — сказал он на ходу Декостеру. — Приглядывай тут за всем.
Слышала ли она разговор? Поняла ли, о чем идет речь? А может быть, просто ей стало скучно?
Она поняла, конечно, что Руж ушел, что нередко случалось после работы. Поняла, что Декостер не в счет, да и не заметит ее с той стороны сарая, так что она легко выберется наружу. Она взяла в углу свой старый плащ, тот самый, в котором приехала. Она проскользнула вдоль стены дома и превратилась в серую тень на серых камнях, сгусток песка на песке. Декостер не мог видеть ее с другой стороны дома; и вот она уже оказалась у тропинки в камышах. У берега Бурдонет она повернула по тропе налево. Пройдя до большой дороги, можно было обогнуть деревню. Должно быть, она это знала, но сама еще так не ходила. Она шла вдоль берега, склон которого становился все выше и выше; напрасно она задирала голову: слева за лесом и берегом не было видно деревни, а справа вздымалась скала с ельником. Она ускорила шаг, словно волнуясь и торопясь выйти на открытое место, а может, сообразив, что дорога длиннее, чем ей показалось сначала. Так она вышла к густо заросшему узкому ущелью, где Бурдонет гудел, как переполненное кафе Миллике, в котором все перебивают друг друга и стучат по столам кулаками. Она не сразу услышала, что кто-то идет по склону чуть выше нее. Он появился внезапно, как в прошлый раз на террасе кафе Миллике. Она даже не вскрикнула; савоец тоже не говорил ни слова и лишь улыбался, скаля зубы из-под усов. Он двинулся к ней, протянув руку; она отскочила назад. Она поняла, что вряд ли сумеет убежать назад той же дорогой. Должно быть, она доверилась своей молодой крови и упругому дыханию — она бросилась бежать сквозь кустарник по склону. Густые заросли были и врагом ей, и другом: их приходилось раздвигать руками, но зато потом они били прямо в лицо преследователю. Он замешкался на мгновение; ей хватило этого, чтобы очутиться внизу. Она сбросила плащ и расхохоталась. Перед ней была стена зарослей у самой воды — и обрыв; она бросилась вниз, споткнулась, но успела схватиться руками за ветки, повиснув на них перед тем, как очутиться в воде. Савоец на что-то наткнулся, она услышала ругательства и побежала по воде, подобрав юбку. Ей показалось, что среди шума воды и камней она различает его голос: он, похоже, звал ее и что-то кричал. Она бросила взгляд через плечо и снова рассмеялась, увидев, что он потерял кепку и откидывает падающие на глаза волосы. Как играющий ребенок, она размахивала руками, стараясь сохранить равновесие. Она смеялась и летела вперед, и тут он отчаянно кинулся к ней — но поздно: между ними была река, он поскользнулся и погрузился в воду по плечи. Она уже была на другом берегу и карабкалась вверх по склону. Здесь были ели и словно ступени из камня, поросшие мхом; склон был крут, а сверху, сквозь прорывы в дымке, как по колодцам, лился солнечный свет, нарезая круги на земле. Она цеплялась за черную землю, похожую на въевшуюся в кожу кофейную гущу, и мох невесомыми клочьями застревал у нее между пальцев; она вгрызалась в него пальцами, словно зубами. Теперь было видно, сколько в ней молодости и упорства, как ловко она огибает выступы скал или взбирается на них, цепляясь за ветки и корни, струящиеся по камням, как борода или волосы. Она смогла оставить его позади. Он был без кепки, со спутанными волосами и расстегнувшимся поясом, волочащимся по земле. Он едва дышал, и ему пришлось остановиться.
Она уже наверху — и перед ней могучие стволы деревьев. Направо путь к пляжу и дому, налево — к большой дороге и людям. Времени у нее предостаточно, но вдруг она останавливается, идет назад и заглядывает за гребень склона.
— Ну что, идите! — кричит она. — Вас тут ждут… — Она склоняется над савойцем и снова кричит: — Ага! Слабак! Слабак! Испугался!
Он слышит и бросается вперед.
Она не двигается с места, а он лезет наверх; она наклоняется, чтобы лучше его видеть, но вдруг нависающий край склона проваливается у нее под ногами, и она скользит вниз, прямо к савойцу, пропахивая башмаками черную землю. Он взбирается к ней (или так кажется?), она видит его зубы за усами, ему осталось только протянуть руку — но удар так силен, что он тоже не может устоять, успев лишь обхватить ее тело руками и сжать изо всех сил. Он переворачивается и оказывается сверху, и они катятся вниз; он не отпускает ее, и она чувствует крепкое его тело, его дыхание у шеи и жар его лица. Они катятся и катятся, она видит то небо, то землю, в нос бьет пряный запах сырой земли, гнилья и опавших листьев. Вдруг на пути у них дерево… И вот она лежит, он стоит на коленях, его глаза все ближе и ближе, и вот только они одни и остались на свете. Он крепко вцепился в нее и не отпускает, но он еще до конца не знает ее. Рывок — и она отводит лицо и поворачивается к нему затылком; платье ее трещит сверху донизу. Он втягивает в себя воздух, но вдох переходит в крик, и он отпускает ее левую руку; она вскакивает, и он за ней, но не так проворно; он взмахивает рукой, из прокушенного запястья сочится кровь. Он бросается за ней, хватает за рукав, но рукав рвется. А!.. Куда бежать? Что делать? На ее прелестные плечи снова падает солнце, а река уже близко. Он замешкался, на левой руке у него кровоточат ранки от ее зубов; ярость туманит ему голову, и он не в силах овладеть собой. Она боится, что он нагонит ее на другом берегу, и бежит по колено в воде против течения реки; ей легче бежать по камням в эспадрильях, чем ему в тяжелых кованых башмаках. Она оборачивается и видит, что он скользит на каждом шагу, ослепленный летящей в глаза водой. Она смеется, видя, как он падает на четвереньки; русло Бурдонет становится все шире и шире, берега расступаются и становятся плоскими.
Как красива она на солнце! Он видит ее красоту, но понимает, что ему не догнать ее, потому что уже виден маленький дом Боломе, стоящий на склоне и вросший в него задней частью крыши. Из дома выходит сам Боломе, мгновение стоит на пороге и снова исчезает из виду.
Она уже не бежит по воде; савоец тоже выскочил из реки и хочет перехватить ее на склоне.
Из дома выходит Боломе, в руке у него ружье.
Она исчезает. Красота исчезает, видение гаснет.
Теперь перед ним лишь маленький смуглый мужчина с висячими усами, делающий несколько шагов вперед. Савоец не останавливается, и тогда тот переламывает стволы и вставляет в них патроны…
Она глубоко дышит. Прислоняется спиной к двери. Все хорошо. Она глубоко дышит. Небесный свод опять неподвижен и целен. Она делает еще один вдох, и свежий воздух переполняет ее как заслуженная награда. Она снова свободна и может забыть о том человеке…
Боломе тут, со своим карабином; он говорит:
— Вам бы зайти в дом, мадемуазель…
Сказав это, он опускает глаза, и она опускает глаза вслед за ним.
— Постараюсь найти вам одежду, и то сказать, я не богат, да и женское платье… — Он входит первым, идет в комнату и оттуда зовет Жюльет: — Вот, я нашел вам куртку. Я иногда ходил в ней на охоту. Идите сюда, на комоде иголки и нитки…
Комната маленькая, душная и темная даже погожим днем. Он выходит и оставляет ее одну. Она надевает полотняную серо-зеленую куртку с карманом на спине и пуговицами с головой кабана. Она смотрит в покрытое черными точками зеркало, потом зашивает висящую клочьями юбку, сквозь которую просвечивают колени…
Руж вернулся домой; его разговор с Миллике был коротким. Не прошло и получаса, как Декостер увидел, что он возвращается. Руж шел, повесив голову, будто она налилась свинцом, и сдвинув фуражку, как будто враз ставшую меньше размером. Лицо его побурело, и усы стали казаться еще белее. От виска до шеи пульсировала надувшаяся жила.
Он пришел и не сказал ни слова.
Он стоит перед Декостером, который все возится с сетями, работая челноком. Декостер смотрит на него своим единственным, но видящим не хуже, чем иные два, глазом и ничего не спрашивает. А Руж ничего и не говорит. Какая в этом нужда? Декостер берет свой нож, раскрывает его, перерезает нить и закрывает. Его полотняная фуфайка расстегнута.
У самого устья Бурдонет, там, где вода становится желтой, белеет целая стая чаек (они кажутся черными, если солнце светит с другой стороны).
— Ты не видел Жюльет? — спрашивает Руж.
Он видит, что дом притих, берег пуст и вокруг никого, ни на крыше, ни в окнах; ни дымка из трубы, ни отсвета на стекле…
— Жюльет… Ты не видел ее? — повторяет он.
— Нет.
— Она не выходила?
— Откуда мне знать, я все время был здесь.
Волнение подгоняет Ружа; он идет к дому, встает у двери, прислушивается. Ни звука.
Он входит на кухню, нарочно скрипит скамейкой — а вдруг она спит? Никого.
Тогда он зовет:
— Жюльет! — потом громче: — Жюльет!
Он стоит перед только что крашенной дверью и ждет, будто она сама откроется; дверь неподвижна, и он толкает ее…
Он ведь знает, что никто не ответит…
Руж выходит, кричит Декостеру:
— Ты не видел, она брала весла?
Декостер что-то бурчит в ответ и направляется в сарай. Но он знает, что весла будут на месте.
Они там и есть. Над камнями сгустился сумрак, и они кажутся мокрыми. Камыши вдали посерели, забыв о своем веселом бело-зеленом цвете. Да нет, они белые снизу и зеленые сверху, но не для него, когда он идет сквозь заросли, решив все же взглянуть на лодки: ведь с ней никогда ничего нельзя знать наверняка… Она ведь может уплыть и без весел, говорит он себе, идя по тропе между стен камышей. Говорит и не верит; так и есть, обе лодки на месте. Вот «Жюльет» блестит свежей краской, зеленая снаружи и желтая внутри; она привязана и смиренно ждет, когда к ней придут, но никто не пришел, и никто не приходит. Вокруг пусто, темно и сыро; темнеет скала, пусто в колючих кустах, среди дубков и лиловых цветов; никого на самом верху, где клочья мха висят на уткнувшихся в небо стволах…
…Он увидел Боломе и с ним кого-то еще. Боломе подошел к Ружу, а она стояла поодаль, в слишком просторной куртке с головами кабанов на пуговицах. Она ждала, но он словно не видел ее. Вот Боломе подошел к Ружу, и тот вдруг поднял голову. Было слышно, как он спросил у Боломе:
— Сколько у тебя этих винтовок? Ты должен дать мне одну на время. Она мне может понадобиться.
Глава десятая
— О, Жюльет! Вы не хотите остаться здесь? Вам не по душе наша жизнь?
Он усадил ее перед домом на скамью, покрашенную оставшейся от сарая краской.
Вечер, солнце уже зашло, но мокрые камни у берега и сухие подальше еще розовеют — два розовых оттенка.
— Здесь вы ничем не рискуете, я обещаю, мы будем вас охранять…
Руж идет на кухню и возвращается с ружьем, взятым у Боломе. Она молча смотрит; он ставит ружье у стены прикладом вниз.
— Если только вы сами хотите уйти… — Он, помолчав, продолжает: — Оно исправно и заряжено крупной дробью. С этими дикарями в самый раз… — И снова: — Мы так хотели, чтобы вы были довольны, мы так хотели… Скажите, мадемуазель Жюльет… Жюльет… И Декостер, и я, да, мы оба… Разве мы не делали все, что могли? Скажите, вам чего-то недостает?
Она качает головой, медленно, туда-сюда, туда-сюда…
— Тогда что? — И другим голосом: — А все бы могло так славно устроиться, если бы вы захотели, так легко… А Миллике я беру на себя…
Она снова качает головой.
— Вы же знаете, что они за вами следят. Их двое, а может, трое. Мужчины уж так устроены. О! Грош им цена, одна злоба и зависть. А похоть… Этот савоец… — Он говорит без разбора, забывая о чем: — Вы, должно быть, решили, что он от вас так легко не отстанет… Они бродят по лесу… Они могут все видеть… Оттуда, сверху… — Он указывает на розовый склон скалы. — Вон оттуда… Ладно, если хотят… Если бы я захотел, от савойца легко избавиться… Можно подать жалобу…
Она в третий раз качает головой.
— Конечно, я все понимаю, — говорит Руж, не понимая ничего. — Мы не станем жаловаться. А в остальном… Вы же еще не знаете: Миллике хочет забрать вас назад… Все против нас.
Он думает, что она удивится, но она не кажется удивленной, во всяком случае, насколько можно заметить в пепельно-серой дымке, постепенно затопляющей розовые уголья вокруг. Жюльет поднимает лицо, смотрит на него и молчит.
— Да, — говорит Руж, — вот оно как… А Миллике — это все от зависти, но уж она его крепко скрутила. Теперь он знает, что его ждет здесь, и не посмеет прийти… — Он показывает на ружье: — Отлично знает, что у меня есть чем его встретить, но дело еще не улажено. Савоец — это раз, да еще Миллике — всего два… Но это не все. Тут и другие есть… — Он поднимает руку и обводит ей весь берег: — Все эти парни там… Кто их знает… Все, кто хотят, кому бы хотелось… Большой Алексис, малыш Бюссе, даже этот алкаш Шови… — Он злится: — Вся эта орава, пойди знай, где они все. Тут и там, и каждый вас поджидает. Ну вот, если вы скажете, что вам здесь хорошо…
Она кивает в знак согласия.
— Если вам не в чем нас упрекнуть… Декостера, меня…
Она отрицательно качает головой.
— Тогда зачем вы убежали? Жюльет, маленькая Жюльет. Отчего захотели меня… нас покинуть?
Она снова кивает головой, прерывая его, и что-то говорит Ружу.
Руж слушает, как она говорит, говорит, говорит, со своим глуховатым акцентом, и вдруг вскрикивает:
— Боже мой! Вам надо было сказать! Все из-за горбуна? Вы шли к нему?
Она все не может остановиться, путается в словах, смеется; ей не хватает слов, она выдумывает их на ходу, снова смеется.
— Почему вы мне все не сказали? — спрашивает Руж.
Он тоже смеется.
— Ну да, почему не сказали? Я бы сходил за ним сам. Я против него ничего не имею. Он… он не считается, он не опасен… Маленький горбун, черт возьми! Его музыка, надо же, я понимаю! Ах, Жюльет, будьте уверены, вы меня так напугали! Я старик, вот и решил: «Ну, я ей уже надоел…» Так дело в этом итальянце, ведь он итальянец, верно? Он вам нужен? Ну да, горбун, он работает с Росси. Музыка, я понимаю… Чего же проще…
Она говорит, и снова он:
— Я отыщу его завтра… Если вы захотите, пусть приходит в любое время. Он ведь тоже здесь никого не знает, бедняга, да и горб отпугивает людей… Так вы скучаете без его музыки? Я понимаю! Я ведь и сам такой, тоже скучаю! Вы видите, Жюльет, видите, мы похожи!.. — Вдруг он прерывается: — Когда вам исполнится двадцать лет?
— В марте на будущий год.
Руж считает на пальцах:
— Восемь месяцев, чуть больше, чем восемь месяцев… — Он принимается ходить туда-сюда. — Да, Миллике. Плохо то, что пока на его стороне закон… Потом все будет зависеть от вас. Если вам подойдет, мы могли бы… Мне надо все разузнать. Жюльет, мне шестьдесят два, я мог бы быть вашим дедом. Но ведь мог бы быть и отцом, на это тоже закон есть…
Она молчит.
Засунув руки в карманы, он бродит у воды, в которой рождается звезда, похожая на качающийся поплавок заброшенной кем-то удочки.
Потом он говорит совсем другим голосом:
— А пока я запрещаю вам отходить далеко от дома. Вы слышите, Жюльет, я запрещаю вам выходить одной.
Видит ли он, как подается она вперед всем телом и склоняет голову? Может ли он не увидеть?
Она сцепляет руки в замок и прячет их между колен.
— Ну, а горбун… Договорились, я пойду к нему завтра.
Они опрыскивают виноград купоросом в третий или четвертый раз, никуда не денешься от всех этих новых методов. Сейчас положено купоросить и шесть, и семь раз; сразу же после ливня они бегут наверх к своим чанам. Наверх — это значит на склон над деревней, за полями, садами. Летом прошло несколько сильных дождей, после которых все эти работяги в синих блузах, с посиневшими от купороса усами, бродящие вверх-вниз, вверх-вниз между лозами, сразу хватались за пульверизатор.
Малышка Эмили идет к ним со своей корзинкой. Она должна отнести завтрак отцу и братьям. У нее красивое платье в полоску, соломенная шляпка с шелковой лентой, красивые светлые волосы;
Господи, что еще надо в жизни? Она спрашивает у деревьев: где он? Она идет среди вишен по заросшей травой дороге с двумя колеями; Боже мой, какой можно быть одинокой! Она поднимает глаза, вокруг пустота, вокруг ни единой живой души. Только ее собственная тень на траве слева и чуть впереди. Тогда она смотрит назад и видит деревню на склоне и все ее крыши, но что ей за дело до этих крыш? До этих яблонь, орешника, слив, загородок, железной дороги, вокзала? Когда идешь вверх, озеро сзади становится шире, а за ним встают горы, дрожащие в теплом воздухе, словно готовые к отлету воздушные шары. Она идет вместе со своей тенью. Она уже видит виноградник, где должны ее ждать отец и два брата. Виноградник с другой стороны стены, туда ведет железная красная дверь; она видит резные листья с голубыми разводами на дивном зеленом цвете, как после голубого дождя. Голубой дождь пролился на землю, подпорки и камни. Она видит своего отца и двух братьев, в плетеных шляпах и с медными чанами; усы у них — как мокрая штукатурка, грудь — как кирпичная кладка, штаны — как столбы из цемента.
Они говорят: «А! Это ты» — и уходят мыть руки. Вот и все. Она ставит корзину на стену, откидывает белую тряпицу, вытаскивает две бутылки, ставит их в тень, вынимает ножи и стаканы (они едят без тарелок руками) и ждет. В ее голове одни только обрывки мыслей… Вот таков мой отец. Отец и братья молчат, потому что говорить им не о чем, да к тому же они проголодались. Они устраиваются бок о бок, между их головами виднеется озеро. Много чего можно видеть между их головами: муху и бело-желтую бабочку, а еще парус. Они нарезают хлеб и сыр, подцепляют еду кончиками ножей и отправляют в рот. Потом руки их опускаются, а челюсти ходят туда-сюда; никто не двинется с места, не скажет ни слова. Они свесили головы, руки и ноги вперед. Обычно они не такие. Но в чем дело? В чем дело? Как так выходит, что ничего и нигде не выходит? Между их плечами вода, вот и все; между головами вода, вот и все. О, расставание! Они здесь, и я тоже здесь, они едят хлеб и сыр. Она видит воду: прощание; она видит деревья: прощание, прощание! Но вот там, у изгиба реки, под скалой, виден кусочек берега; конечно, он там, он там, а я здесь. Морис там, а я тут, о, прощание! Она опускает глаза, она не может смотреть, у нее больше нет сил, а отец и братья — те ничего не замечают. Как им понять ее, ведь никто не может понять другого, человек один, всегда один; вот они, вот он, а вот я. А ведь мы думали, что он и я… У меня было все оттого, что был он… Все уходит, и как тут сдержать рыдание, но они пьют и едят, ничего не видят и ничего не слышат. Они пускают по кругу стакан, причмокивают губами, облизывают кончики усов и встают. Но мне-то, куда мне идти?
Они снова берутся за медные чаны и идут набирать раствор; она складывает в корзину бутылки, ножи и стаканы; куда же идти?
Она снова идет по вишневому саду. Теперь ее тень идет следом и справа. Тень вертится вокруг вас до самой смерти, а потом конец.
Она входит в деревню. С ней здороваются, она отвечает — вот и все. Вдруг она останавливается. Она видит Ружа, который идет перед ней и сворачивает в переулок; сама не зная зачем, она следует за ним. Вот он проходит за сараями, там, где мастерская итальянского коротышки-сапожника…
В тот час все работали на виноградниках, и Руж никого или почти никого не встретил, кроме детей, игравших на берегу, и женщин напротив жилища Перрена, да и те стирали, стоя к нему спиной. Он не заметил Эмили, свернул за сараи и подошел к двери с надписью сверху черным по белому: «Сапожник». Этот старик сапожник был итальянцем, Руж хорошо его знал — звали итальянца Росси. Но уже месяца два, как Росси увезли в больницу с двойным переломом ноги, и в мастерской заправлял его работник — горбун. Он появился в деревне как раз перед тем, как с Росси стряслась беда, и Руж ничего про него не знал, да и никто ничего про него не знал. В один прекрасный день он пришел к Миллике со своим аккордеоном, и люди сказали: «Он чертовски здорово играет». Потом он пришел еще раз, и все согласились, что таких, как он, еще поискать. А потом был этот вечер с савойцем, и больше его никто и не видел. Откуда пришел он? Никто не знал. И вот Руж толкнул дверь, зная только то, что горбун в мастерской, потому что видел его в окно. Он услышал стук молотка, потом наступила тишина, и прозвучало: «Входите!»
Горбун сидел на низеньком табурете, потому что не поместился бы на стуле со спинкой: он не мог держать голову прямо или откинуть ее назад. Он повернул лицо к Ружу, и его красивые глаза сверкнули; он занес молоток над латунным гвоздем. Руж подошел поближе, засунув руки в карманы.
— Я пришел не за башмаками, — сказал он. — С нашим ремеслом они не так-то быстро снашиваются. С нас своя шкура слезает…
Он начал с того, что прошелся по комнате, разглядывая верстак и лежащую на нем всякую всячину: куски кожи, колышки, горшочки с топленым варом, сапожные ножи.
— Так что я пришел не к сапожнику, месье… — Он хотел вспомнить имя, горбуна, но так и не смог. — Потому что кто ж станет спорить, что второго такого, как вы, не найти… И вы, наверное, не знаете… — Он бросил взгляд на горбуна, который, с трудом задрав голову, тоже смотрел на Ружа. — После этого дела с савойцем, вы знаете, нам всем было так неприятно… Но мы надеемся… Я-то сам там не был, это она… Вы же помните, Жюльет, мадемуазель Жюльет…
Горбун встал, стараясь совладать со сгибавшим его весом горба. Он молча прошел к двери в соседнюю комнату, на минуту исчез и вернулся.
— О! Я вижу, что ваш инструмент в порядке, — заметил Руж. — Надо же, как вы ловко сумели… Кожу подобрали, да и клей, если вы его склеили… Надо же, как он отлично звучит… Не хуже, чем прежде, я вас поздравляю… О! Она будет довольна… — Он замолчал, оттого что горбун все равно бы его не услышал. — Я вам еще не сказал, месье… — И замолчал снова.
Пальцы горбуна пронеслись снизу вверх по перламутровым клавишам, потом он обеими руками сдавил мехи…
— Она скучала по… Ну да, по этому, по вашей музыке. Она хотела знать: может быть, вы придете? Ей не хватает… В ее краях… — Тут Руж поправился: — Вообще-то, ее края — это как сказать… Ее настоящая родина здесь… Она Миллике, как и дядя, а какое еще имя у нас… Просто она там родилась и выросла, а ведь у них целый день танцы и музыка… Она говорит, что там больше любят гитару, но в горах на железной дороге немало итальянцев и они играют так же, как вы… Ее надо понять… Она еще не совсем привыкла…
Он замолчал. Снова полилась музыка, высокие аккорды, потом низкие, словно кто-то встревожил пчелиный рой и хочет поживиться медом. Руж был в их власти, звуки летели со всех сторон и метили прямо в него, заглушая любые слова. Надо было ждать. Потом он снова услышал себя:
— Это как с парусами: только представьте себе, она смеется над нашими, потому что они из холста… Там-то у них плетенные из рафии, как циновки, и к тому же квадратные. Она смеется над нашими, потому что они белые и острые… Сантьяго, вот как… Но место хорошее, там тоже много воды… Так что она умеет грести, ловить рыбу и плавать. Ну, я и сказал себе: «Она и здесь может все это делать», вот только музыка…
Одна протяжная нота — и вдруг перебор клавиш, словно мышь пробежала над потолком.
— Но если вы согласитесь пойти… Потому что она… она приглашает вас. Выпьем по стаканчику вместе… Она будет довольна.
Снова звуки.
— Вы, это, не то, что… не то, что другие… Все эти проходимцы. Этот парень, савоец… Вы — совсем другое дело, — говорил Руж, а музыка витала вокруг его слов. — Вам я верю… Но все же лучше поостеречься, если вас увидят идущим ко мне. Пусть с вами пойдет Декостер… Может быть, прямо сегодня? Это был бы сюрприз для Жюльет. Она знает, что я пошел к вам, но это и все… Вы поиграете ей немного, вот так, вдруг… — Он обрадовался и начал смеяться. — Вы согласны — тогда решено… Сегодня вечером. Я пошлю Декостера за вами…
Горбун с трудом поднял на него глаза, которые блеснули и снова погасли; он кивнул, и комнату снова наполнила музыка, рассыпаясь дождем стеклянных осколков, словно от рухнувшего потолка теплицы; на верстак, на горшочки, на молотки и кусочки кожи.
Кивок головы в знак согласия — и Руж отступил на шаг; добрые мехи надуваются, корчатся и выпрямляются, сойдясь наконец с одного конца в мелкие складки, а с другого — выпятив гладкий бок.
— Большое спасибо, — сказал Руж, — и до вечера. Не беспокойтесь.
Горбун не стал вставать. Руж толкнул дверь и вышел, и теперь музыка лилась сквозь стену и из окна, лилась, не переставая. Она сопровождала его до самого переулка, и только там, нить за нитью, начала таять и растворяться в воздухе. Руж быстро шагал в лучах солнца; вокруг была благодать, и солома в пыли блестела, как золотые цепочки часов. Как хороши были тени от крыш домов, словно по линейке проведенные вдоль дороги. На повороте Руж наступил на ту, что отбрасывала терраса кафе Миллике с уже зазеленевшимися платанами; но и то сказать, она была самой нечеткой, да и места занимала изрядно. Что ж, не грех было показать Миллике, что ему до него нет дела. Пусть знает, что его никто не боится, подумал Руж и срезал угол. Он шел вдоль железной ограды, сквозь которую были видны зеленые столы и сам Миллике. Хозяин кафе и единственный в этот час его клиент; если соскучится, пусть поставит себе стаканчик!
Руж услышал, как Миллике его позвал, но ответил на это неопределенным жестом, означающим «как-нибудь в другой раз», а может, «сегодня есть дела поважнее».
Да, были дела поважнее.
— Руж, послушай, я должен тебе сказать…
— Да, дружище…
— Что-то важное…
— Послушай, дружище, давай не сегодня…
— Вот видите, — сказал Руж, поравнявшись с женщинами у воды.
Они обернулись, стоя на коленях.
— Вот видите, теперь он ищет разговора со мной, ну и пусть его… Да и день сегодня отменный, жаль тратить попусту время.
Они втирали в доски квадратные куски марсельского мыла, которые были слишком велики для женской руки, но со временем смыливались по углам, превращаясь в белую пену. По голубой воде белые пятна пены плыли рядом с белыми лебедями. Руж шел дальше.
Придя домой, он не сразу увидел ее, она была у себя, но тем лучше. За едой в полдень она не сказала ни слова — тем лучше. Она все молчит — что ж, тем лучше. Она словно где-то далеко-далеко — тем лучше; она кажется грустной — тем лучше.
«Теперь-то я знаю, в чем дело, и приготовил сюрприз», — думает Руж.
Немного спустя он говорит Декостеру:
— Послушай, пойдешь в кафе на вокзале и купишь две бутылки эгля… Нет, пожалуй, возьми-ка шесть… Полдюжины как раз влезут в сумку. Эгль 23, это самое лучшее. Ты помнишь, мы выпили бутылку с Перреном, когда он проиграл пари год назад… И вот еще что: когда купишь, иди боковыми проулками. Ты ведь знаешь, где мастерская Росси? Ну вот! Просто войдешь — горбун будет там, он придет нам поиграть… Я сказал, ты зайдешь за ним, потому что лучше ему не идти одному… Приведешь его к нам, и, если случится, можешь пройти мимо кафе Миллике. Знаешь, сделай-ка так, чтобы бутылки торчали из сумки, ничего, пусть позлится… Уж если затеяли праздник — отчего лишать себя удовольствия… Ты понимаешь, ей было скучно, это нормально, мы жили-то по-стариковски… Но мы ведь не такие уж старики, не настоящие старики, не старики на веки вечные, а, Декостер?
Наступал вечер, и они как раз закончили приводить сети в порядок; Декостер пошел помыть руки с мылом.
Он направился к берегу и пристроился там, где кончается галька и у воды остается узкая полоска песка, на которую по-девичьи игриво набегают легкие волны.
Вот волна. Декостер берет ее в руки. Мыло почти не мылится, потому что вода в озере слишком мягкая и никак его не берет.
Нужно время, чтобы обзавестись белыми перчатками.
Волна за волной, волна за волной, и вот Декостер берет в руки еще одну, чтобы ополоснуть их.
Потом он идет за сумкой. Руж дал ему на вино ассигнацию.
Оставалось только ждать. Руж ходил взад и вперед перед дверью. Вдруг он о чем-то вспомнил, заторопился, вошел в дом. Да, надо было поспешить, надо было успеть отыскать в глубине шкафа костюм, который он уж и не помнил, когда надевал, костюм из голубого шевиота. К счастью, не пришлось зажигать керосиновую лампу, света хватало, чтобы завязать галстук; огрубевшие пальцы шарили за жесткими отворотами и путались в мягкой мешанине шелка. Руж стоял перед маленьким зеркальцем в алюминиевой рамке, висящим у окна, а вокруг, в пыли и грязи, там и сям были разбросаны вещи, потому что к его комнате не прикасались во время ремонта. Но главное было успеть. Руж был готов вовремя. У него даже осталось время выйти навстречу гостю.
Небо все в облаках, смеркается, и Декостера можно узнать только по росту, а горбуна — по инструменту в вощеном холщовом футляре, висящему на нем, словно второй горб. Руж делает знак обождать его. В зеленой прогалине на небе между двух облаков мелькает бледная звезда.
— Ну, вот, — говорит Руж, — я вижу, что на вас можно положиться. — И, подходя к горбуну: — Вы просто молодчина, истинная правда… Спасибо. Я только хотел вам сказать… Ну как, Декостер, с вином все в порядке?
Вино на месте, чего же еще?
— Послушай, — говорит Руж Декостеру, — попридержи немного бутылки. Не надо, чтобы она нас услышала. Мы оба встанем к сетям, а вы (это уже горбуну) садитесь тихонько на эту скамью. Ни звука, пока не готовы, но когда приготовитесь, тогда уж давайте вовсю…
Как распорядился Руж, так и сделали. Горбун был так осторожен, что она не должна была ни о чем догадаться. Он пристроился на скамье у пятна света, лившегося из открытой двери, среди камней — сгусток тьмы в полумраке. Вот он присел, подтянул к себе инструмент, положил на колени и расстегнул футляр, словно мать, раздевающая свое дитя. Прежде чем заиграть, он задумчиво приподнял лицо и пошевелил пальцами в воздухе.
Ничего не скажешь, он был настоящим артистом — Декостер знал в этом толк. Аккорды вырвались наружу, словно ядро из пушки, но во всем этом было и то чувство меры, которое не каждый день встретишь. А сам ведь он — только взгляните: руки ни к черту, пальцы, как у скелета, тело… О теле лучше и не говорить. Но у него была сила весь мир закрутить в танце. Он словно притягивал волны с того конца озера, и они накатывали на берег не по своей прихоти, а по его желанию. Руж попросил его:
— Постарайтесь сыграть что-нибудь, что она знает, что-то оттуда, из ее страны…
Горбун начал с танцевальной мелодии.
А потом…
Ни Декостер, ни Руж не тронулись с места, потому что они и так все отлично видели. Сначала в раме окна за белыми занавесками появилась тень, потом она сдвинулась в сторону, уменьшилась, выросла, руки поднялись к лицу, волосам. Аккордеон расточал гаммы, потоки звенящих звуков, струившихся между пальцами и повисающих в воздухе, словно драгоценное колье, выставленное на продажу. Декостер и Руж не двигались с места, они ждали ее, а она все не появлялась. Тут Руж спросил:
— А бутылки?
Они так и болтались в сумке за спиной Декостера. Тот и не подумал поставить ее на землю.
— Господи! — воскликнул Руж. — Надо быстрей остудить их. — Он взял сумку у Декостера, спустился к воде и обернулся: — А ты живо готовь стаканы!
Руж наклонился и выложил на песок бутылки. Вечер был тихий, и волны набегали на них, ласковые и низкие. Руж присел и положил бутылки одну подле другой. Декостер был уже на кухне. Горбун на скамье даже не поднял лица, — наоборот, он склонился еще ниже и почти касался им своего инструмента, покачиваясь в такт музыке; вдруг он замер, снова начал двигаться в такт… А Декостер в это время искал стаканы в шкафу.
Никто не услышал, как она отворила дверь и вышла; она ступала так легко, словно вообще не касалась земли, но шелест ее юбки, похожей на крыло диковинной бабочки, заставил Декостера обернуться. Он так и застыл на месте со стаканом в руке. Руж как раз встал, опустил руки и замер, позабыв про свой праздничный голубой костюм, белый воротничок, галстук и внушительные усы.
Она стала еще прекрасней. Ее юбка всколыхнулась, одним движением она откинула волосы назад.
Руж хотел захлопать в ладоши, но передумал. Он неловко переступил ногами и сказал:
— Ну вот, глядите-ка… Вот видите, все хорошо.
Декостер поставил на стол стакан, слегка постучал им, и Руж словно проснулся:
— Декостер, надо бы отодвинуть стол в сторонку, будет побольше места… Помоги-ка. Приставим его к двери в мою комнату.
Они переставляют стол.
— А сейчас — мигом за бутылками! — говорит Руж, сам идет за ними и возвращается, неся по бутылке в каждой руке.
Он открывает бутылки, не решаясь на нее взглянуть. Она прислоняется к стене и ждет. Она улыбается, ее зубы блестят. Руж суетится, машет руками, откупоривает бутылки, говорит Декостеру:
— Тут все четыре стакана? Да уж, со стаканами у нас плохо… — Потом кричит: — Эй, месье Урбэн! Вы как, идете? Мы ждем. Давайте-ка чокнемся!
Он наполняет стаканы, в них льется чистое золото, чуть зеленоватое, дивно прозрачное: что ж, этого не отнять у нашей жалкой маленькой жизни.
Руж поднимает налитый доверху стакан:
— За ваше здоровье, мадемуазель Жюльет! Здоровье и благополучие.
Она тоже поднимает руку; он отводит глаза. Вино славное, свежее, терпкое, теплое, оно говорит с вами; он не решается говорить, он не может больше сказать ни слова, он только выпивает за пришедшего к ним горбуна.
Декостер прихлебывает вино, втягивая тощую шею с камушком адамова яблока; между двумя глотками он бросает взгляд на парадный шевиотовый пиджак, белую рубашку и шелковый галстук…
В ту ночь ее разбудил стук входной двери; она услышала, как кто-то тихо идет по камням.
Она не засветила лампу в своей чудесной новой комнате, но лунный свет падал ей на кровать. Бледный свет шел из-за пелены облаков, нависших над перевалом, где, должно быть, уже выпал снег. Без труда можно было увидеть, кто ходит перед домом, всего-то и требовалось отдернуть занавеску. Это был Руж, без фуражки и башмаков, на нем были только штаны и открытая рубаха. В руках он держал ружье, взятое у Боломе. Должно быть, он что-то услышал. Стальные стволы блестели в лунном свете.
Он прокрался в сторону деревни, потом вернулся и прошел мимо окна. Больше она ничего не слышала; он пошел, должно быть, к скале и зарослям камыша.
Глава одиннадцатая
Морис слезал с крыши курятника; он повис на обеих руках, и теперь оставалось только спрыгнуть вниз. Еще не было и десяти, и большой розовый дом был погружен в сон. Хозяин с хозяйкой спали на старой кровати из орехового дерева, прислуга — на еловых или железных кроватях, а нанятые недельные работники — на сеновале. Он связал ботинки шнурками и повесил на шею. Окно его комнаты выходило на задний двор. Рама заскрипела, но его все равно никто не услышит. Морис перекинул одну ногу, потом другую. Он приземлился у самой решетки, натянутой между бетонных столбов: синдик Бюссе любил, чтобы все было солидно и прочно. Кормушки из дерева заменили железными, поставили электромотор в амбаре, купили механическую сноповязалку. Надо идти в ногу с прогрессом.
Юный Морис Бюссе покидал свой дом как раз тогда, когда Декостер начал волноваться за Ружа: тот по секрету сказал ему, что кто-то ночью бродил по берегу. Декостер хотел было пожать плечами, но вдруг подумал, что Руж, возможно, не так уж не прав. Когда он провожал горбуна (а было это уже в третий или четвертый раз), ему тоже почудилось, что кто-то бродит меж деревьев.
Они с горбуном шли вдоль озера и как раз подходили к сосняку, как вдруг Декостер услышал шаги и подумал, что там человек и он крадется за ними. Он ничем не выдал своих подозрений, а горбун, похоже, вообще ничего не заметил. Стояла кромешная тьма. Декостер не стал останавливаться, хотя и не мог избавиться от ощущения, что за ними следят. Небесные светильники были надежно запрятаны в упаковку из облаков, и он не мог ничего разглядеть вокруг.
В другой раз Декостеру случилось идти одному, и он услышал, как кто-то идет ему навстречу по переулку. Человек шел не таясь, но вдруг остановился; Декостер понял, что его поджидают.
— А, это вы, месье Морис.
Перед ним стоял сын синдика, очень воспитанный молодой человек. В темноте нельзя было ничего разглядеть, кроме его светлой соломенной шляпы.
Мальчик учился и оттого был худым и бледным. Его отец, синдик, отправил Мориса в колледж. Каждый вечер он вылезал в окно и спрыгивал на крышу курятника…
Переулок был пуст, но, наученный горьким опытом, Декостер взял Мориса под руку и отвел за сараи, где были свалены солома и сено, а также инструменты и детали машин; из живых существ можно было встретить разве только мышей и кошек, которым все же случалось забыть о прогулках в саду под луной и вспомнить о своем ремесле. Здесь не было лишних ушей, по крайней мере способных понять человека, и глаз, чтобы узнать их в лицо. Оттого-то он и завел Мориса за стену сарая. Тот что-то сказал ему, но Декостер принялся возражать:
— О, вы шутите, месье Морис… Он просто голову потеряет… Знаете, ведь у него есть ружье… Он взял его у Боломе… Если он вас увидит, то с него станется выстрелить… Вот уже несколько дней все идет неважно… О! Горбун — это верно, но Руж говорит, что он не в счет, наверное, из-за горба… Я тоже, у меня и вовсе один глаз… Поймите… У вас-то их два, да и горба нет.
Послышался голос Мориса:
— Так что же мне делать?
— Откуда мне знать.
Снова Морис:
— Все дело в ней. Ее нельзя держать там так долго… Они же не знают, какая она… другая. Да, может быть, только вы, — он заговорил тише: — Потому я и пришел к вам. Я подумал, мы сможем договориться. По вечерам я слушаю музыку, а она иногда выходит, и я могу ее видеть, вы понимаете. Музыка и она — это так хорошо вместе, но никто же не понимает, и мой отец тоже не понимает. Он же синдик, и ему придется разбирать это дело; как раз сегодня он всем так и сказал за столом. Он говорил, что, если Миллике подаст жалобу, будет расследование, а еще сказал, что для таких, как она, есть приюты. Они могут послать за ней жандармов…
— Вот это будет и вправду скверно…
— Ну вот… Что же делать? Ладно, скажу, у меня есть идея. Если бы вы согласились помочь, ее можно было куда-то отправить отсюда. Нам бы помогли Алексис, Боломе, может быть, вы… У меня есть старая тетка в Бужи, она живет одна, и я мог бы ее попросить… Вы бы нам помогли… Через три недели как раз праздник Лилии. Если только она придет… Вот было бы здорово! Лучше места и не придумать…
— Ну, а горбун? — спросил Декостер.
— Он сможет видеть ее и в Бужи, это не так далеко. Я попрошу тетку принять ее; это сестра моего отца, она меня любит и сделает все для меня… Все это можно устроить, только бы вы помогли, ведь без вас ничего не выйдет, и даже тогда…
Он замолчал на мгновение; Декостер как раз успел почесать в затылке.
— Черт возьми, я боюсь Ружа… К тому же я думаю, что будет… да, будет жаль…
Снова молчание.
— Посмотрим.
Декостер помолчал.
— Пусть так, но вы должны мне довериться. Когда этот праздник? А, третье воскресенье августа… Это будет, постойте, пятнадцатое. Лишь бы жандармы… Да нет, они не успеют прийти, знаем мы эти расследования… Главное, чтобы Руж ничего не почуял, он ведь на ней прямо помешан. Но я-то всегда рядом, да и Боломе… А вы со своей стороны… Да, еще и горбун… Попробуем, месье Морис.
Остаток их разговора растаял за глухой бетонной стеной, возвышавшейся под скомканной бурой оберткой небес; а там, в кафе, был слышен голос Миллике и дружный смех в ответ, снова голос — и снова смех. Что ни говори, жизнь запутывалась и усложнялась, так что Декостер в ту ночь не сомкнул глаз в комнатке, которую он снимал в деревне. Завалившись на кровать прямо в одежде, он думал…
Несколько дней погода стояла ненастная, и они не ходили за рыбой. Потом лето вернулось, но они так и не трогали сети.
Случалось, что Руж ходил к лодкам, но чаще поднимался по тропе вверх по Бурдонет, стараясь никогда не отлучаться надолго.
Надо признать, что он нигде не встречал ничего необычного; напротив, у воды ему попадалось гораздо меньше людей, чем две или три недели назад.
Объяснялось все это просто: работа сельчан была в самом разгаре, а озером кормилось не так уж и много людей. Большинство работало на земле; сначала подоспел сенокос, потом жатва и опрыскивание растений. В школах были каникулы, но даже детей нигде не было видно, потому что с восьми-девяти лет им находилось место при взрослых. В апреле, мае и даже начале июня — другое дело, но в разгар лета пора заниматься эспарцетом, цветущим клевером, скошенные круги которого похожи на закатное солнце, местной и селекционной пшеницей, виноградом с его болезнями; пора в горы, поля, на склоны и в долины, в сады, где приютились ульи, к вишневым деревьям, с которых ягоды без лестниц не соберешь. Только в субботу вечером и в воскресенье или после особенно знойного дня мужчины шли окунуться в одну сторону, женщины — в другую. Бродя по окрестностям, Руж встречал только случайных людей — гуляющих, приехавших издалека. В конце концов он успокоился.
Главное же, что она с ними; она здесь, она с ними, чего же еще? Несколько дней Руж совершенно спокоен; идет дождь. Снова над озером появляется дождевая пелена, словно простыня, вывешенная на веревке. Небо погасло. И она — она тоже потухла. Сегодня она словно светится — а назавтра нет. Она закутывается в свое черное платье, сидит неподвижно, уперев подбородок в ладонь, а локти в колени, и смотрит на дождь. Небо словно забывает о своей дивной расцветке, и поневоле спрашиваешь себя, сумеет ли оно снова разродиться такой красотой.
Руж подсаживается к ней на скамью. Надо перестать думать о невозможном… Над ней выступ крыши, защищающий от дождя. Большие волны с барашками несут клочья водорослей, дохлую рыбешку, прочий мусор; они разбиваются о берег. Как угадать, какая из них обставит другие и доберется дальше других? Вот та, решаете вы, лизнет мои башмаки, и как бы не так! Самые низкие волны часто упрямей других. Третья от берега!
— Жюльет, давай пари?
Точь-в-точь как на скачках. Она отвечает:
— Я выбираю четвертую.
Похоже, это ее забавляет. А может, и нет ничего лучше, чем вот так, вдвоем, смотреть на высокие волны, разбивающие бутылки о камни и разбрасывающие осколки по берегу? Где-то грохочет. Бабах! Эхо докатывается до Дененса и Редегенса, но там уже звучит глухо, на манер ударов, которые отвешивал по двери Шови, когда, припозднившись, возвращался в пансион к старой хозяйке. В кафе Миллике его было прекрасно слышно. Старушка запирала все в девять, а он сначала лупил по двери кулаком, а потом ногами, и хозяйка, укрывшись за ставнями, лишь приговаривала: «Стучи, стучи хоть до утра, может, возьмешь в толк…»
…И все-таки она здесь, здесь, рядом с ним. Он указывает ей на дыру в облаках, похожую на пробитое в стене окно, по краям которого торчит бутовый камень.
— Жюльет, — говорит он, — вон перемена к лучшему. Холодный ветер идет сверху.
Она поднимает голову и смотрит по направлению его руки на громоздящиеся, как скалы, облака: черные, рыжие, бурые с серыми жилами, разом обваливающиеся на гору. Она видит в небе грозную битву и вечные перемены. Здесь, на берегу, ветер упруго швыряет в лицо воздушные шары, словно подбрасывая их обеими руками, но там, в вышине…
— Завтра будет хороший день, — говорит Руж. — Вам будет приятно, правда? Дождь вам не к лицу, Жюльет, вы становитесь грустной.
Он встает, обходит дом, по привычке озирая окрестности, но вокруг, как всегда, никого, если не считать Декостера, который решил не упускать такой случай.
— Глядите, патрон, завтра выглянет солнце. Может, пойдем за рыбой? Я все думаю, не скучает ли рыба по мне так же, как я по ней?..
«Надо его как-то отвлечь», — думает Декостер.
— Отчего бы и правда не пойти? — говорит Руж. — Завтра или послезавтра. Лучше уж послезавтра, если тебе все равно…
Между тем именно на другой день и явился к ним маленький старичок (так что они не ловили ни в тот день, ни в другой).
Маленький старичок был одет в серую блузу (он был одновременно секретарем суда и сельским стражем порядка), полотняную рубаху с неглаженым, но очень чистым воротничком, голубые штаны и сдвинутую на лоб, похожую на панаму, соломенную шляпу.
— Я принес вам повестку, месье Руж.
Под мышкой он держал трость — знак своего положения.
— Повестку?
— Да, повестку от господина судьи… Это по поводу расследования.
— Что за расследование?
— Расследование по жалобе месье Миллике… О похищении малолетней.
— А! — только и сказал Руж. Лицо его набухло, словно кто-то сжал ему горло. — А! Ладно, ладно… На какое число?
— На следующую среду.
Старичок вынул бумагу из кармана, который жена специально вшила ему в подкладку.
Жюлю Ружу, рыбаку… В среду, 11 августа, в десять часов…
— А! — снова сказал Руж. Толстая вена на шее вдруг резко вздулась. — Это что же? Значит, и вы!.. Вы…
Декостер едва успел схватить его за руку, а старичок невозмутимо сказал (привык ко всему, должно быть):
— Что вы хотите, месье Руж? Такая уж у нас работа. Да к тому же это всего лишь бумажка… Одной больше…
Горбун подал Жюльет знак и спросил:
— Не хотите пройтись?
В тот день он пришел после полудня и улучил момент, когда Руж, как обычно, пошел побродить возле дома. Жюльет кивком головы показала на Декостера.
— Это ничего. Я вам все объясню, но не здесь, здесь мы не у себя.
— А где мы у нас?
— Сами увидите.
Горбун говорил на странном наречии, и она едва его понимала.
Он с трудом поднялся с кучи плоских камней и битой розовой черепицы и перекинул ремень инструмента через плечо — без него никуда.
Она зашла в свою комнату и вышла в другом платье и с черным платком на плечах.
Декостер стоит к ним спиной и, похоже, ничего не видит. Справа от них ветер вычерчивает на воде узоры, похожие на голубой муаровый дамский веер, украшенный серебряными блестками. Природе нет до них дела, они в согласии с ее законом. Они идут между стен камыша, как среди лоз винограда, серебристых внизу и зеленых сверху; они не вторгаются в их жизнь, и камыши невозмутимы. Она идет впереди, он за ней. Тропинка узкая, и ему приходится передвинуть аккордеон за спину; за одним горбом вырастает другой. Они не мешают миру, лишь вспугивая там и сям лягушек, прыгающих в свои лужи. Они подходят к лодкам; она останавливается, но Урбэн качает головой: мы еще не у нас. Он показывает на скалу. Инструмент с застежками на боку висит у него на спине. Она смотрит на него, смеется и показывает на воду, прозрачную, чистую воду погожих дней, а не кофейную бурду ненастья. Ее глубина пестрит золотыми монетами, похожими на желтые тополиные листья, устилающие дно осенью. Как дивно все в этом мире, но где то, что укажет вам в нем дорогу? Вода глубокая, но она подтыкает юбку — вот и готово. Он стоит на берегу, как когда-то Руж, а ей вода поднялась уже выше колена. Поглядывая по сторонам, она идет в сплетении и путанице кругов на воде, расходящихся по сторонам; она снова смеется, поворачиваясь к горбуну. Она превращает в осколки все, что вместило дивное зеркало: куст, клочок травы, песчаный склон, небо; ель покачнулась и тает в воде, разойдясь кругами. Вся утварь земная, прекрасные ломтики мира — и она среди них; и они исчезают и снова являются на воде и находят свои места. Она машет рукой горбуну над кусочком синего неба и отражением земли. Ему надо идти вверх по берегу, а она пойдет по своей стороне до брода. Зимородки взлетают с земли и в лучах света становятся синей стрелой, а потом — черным росчерком в небе. Он идет со своими двумя горбами, склонив голову и скользя в темной глине.
Уже снова слышен голос реки, которая здесь-то тихоня, а выше заводит свою болтовню. Он идет по прибрежной напоенной соком траве; толстые стебли путаются под ногами, и он снова скользит. Она уже идет ему навстречу, переступая прелестными ногами с камня на камень, и протягивает руку. Она говорит: «Вот видите, вы хотели меня вести, а выходит, что я вас веду», — ему трудно идти со склоненной головой, короткими и слишком худыми ногами; ему трудно перейти брод и еще трудней будет дальше. Они идут по склону, иногда на крутом месте она берет его под руку, и они вместе проходят среди колючих кустов, кишащих кузнечиками. Они шагают высоко над водой на выступе скалы; они еще не у себя, не совсем у себя, как сказал горбун. Но вот наконец и впадина в заросшем елями крутом склоне. За их спиной все исчезает одно за другим, все контуры старого мира стираются. Все куда-то скользит и тает: Декостер со своими сетями, и дом, и прибой; все это у них за спиной, и горбун говорит:
— Мы пришли.
Они присели на один из уступов, покрытый сухой травой и желтенькими цветами, присели, как на скамью. Они никого не видели, никому не мешали, и им никто не мог помешать. Перед ними была только пустынная гладь воды, похожая на пол в большой комнате, а по бокам — ничего, кроме выступов скал. Три-четыре лье воды перед вами, а на ней лишь одинокий парус. Внизу под ними пенилась лужа, где из скалы бил источник, через заросшее ивами болото питавший водой озеро. Там снова слышался плеск лягушек; вот и все, и ничего больше.
Он пристроил аккордеон на коленях, расстегнул его и выпустил на свободу его красное нутро, потом попробовал «до», «до диез»… Он прислонился щекой к инструменту, извлек из него одну гамму, другую…
Он говорил на странном наречии. Казалось, что слова не давались ему без помощи аккордеона и он призвал его на помощь. Здесь все было мило глазу и слуху, они ничему не мешали, и им не мешало ничто. Именно это он и сказал на своем смешном диалекте, но его можно было понять, оттого что до слов, за словами и вместе с ними звучала музыка; она смеялась, ворчала, вздыхала и торопилась, звучала насмешливо и удивленно. Он сказал:
— Там мешали…
Инструмент позабавился шаловливой гаммой, взлетевшей по склону скалы и перебившей трель разошедшейся птицы.
— Для вас там не было места…
Так он сказал и призвал на помощь могучий аккорд.
— И для меня тоже…
И снова тот же аккорд.
У него бледное личико, впалые щеки без признаков бороды, жилы на тщедушной шее и на руках, словно струны, гуляющие под кожей.
— Нет места, нет места… Нет места для вас, нет места для меня…
Но ведь сам-то он есть, он ведь есть — тогда что же, наше место тут?
Музыка говорит: нет.
Оно дальше, гораздо дальше, поет она, выводя мелодию, летящую за горизонт.
— Надо идти, — говорит он. — Скоро воскресенье, а в следующее…
Он играет мелодию марша, фанфары звучат для идущих солдат…
— Вы и я… Мы не можем… Нам нельзя здесь оставаться… Теперь послушайте… Декостер… — Он с трудом выговаривает это имя: — Да, Декостер… Он все рассказал мне вечером по дороге, потому что они за меня боятся. Они и за вас боятся, они боятся Ружа…
Пальцы бегут по клавишам.
— Они не хотят, чтобы вы оставались у Ружа, потому что туда придут жандармы. Они хотят вас увезти…
Он все играет.
— Это все для себя, не для вас, они вас увезут для себя…
Аккордеон смеется, и вот там, наверху, обманулись еще две-три птицы, хотя вообще-то не время уже им и петь.
— Эти ваши друзья хотят оставить вас при себе. Они попросили меня помочь, они думают, я соглашусь. Пятнадцатого будет праздник, да, в воскресенье… Они просили меня привести туда вас. Они говорят, что устроят все так, что Руж ничего не заметит, а уж там… Я согласился… Вы знаете почему… Я сказал «да», и они на меня положились. Я приведу вас, и они думают, что сумеют… Но вы возьмете свои вещи, а я свои, и мы уйдем прочь отсюда…
Или вместо горбуна говорят клавиши из перламутра? Она смотрит на мир вокруг, а музыка летит впереди.
Она кивает: да, мы уйдем прочь, никому не мешая, и никто не станет мешать нам.
На губах у нее улыбка. Мы не мешаем здесь птице, наоборот — она принимает нас за своих; вот зяблик подхватывает в вышине смолкнувшую мелодию, за ним синица и славка. Мы уйдем прочь, с нами будут петь птицы.
Она улыбается; улыбка становится шире, она поворачивает к горбуну лицо:
— Но мои бумаги у дяди…
В ответ он смеется, аккордеон смеется, а наверху смеется зяблик, или славка, или синица.
— Да и денег у меня совсем нет.
Но он только проворней перебирает клавиши.
Музыка меняет ритм, и птица там, высоко, две или три птицы молчат, они слышат, что музыка изменилась, — славка, синица и зяблик.
Он нарочно запнулся, он ошибается и словно теряет дыхание и равновесие, топчется на месте, прерывается, чего-то ждет; интересно, она понимает?
Он отводит в сторону руку (другая бежит по клавишам), снимает шляпу и кладет ее рядом с собой. Ей кажется, что она начала понимать; тогда он снова отводит руку от инструмента, подбирает с земли камешек и кладет в шляпу.
И музыка хлещет через край; два камня, три камня, четыре — так мы пойдем по свету…
Ему нет нужды ничего говорить; она встает. Здесь совсем мало места, не больше, чем на столешнице, ну да что еще нужно, ведь частенько (в наших краях) как раз она-то идет в ход, и получается в самый раз.
Он смотрит и видит, что все хорошо. Шляпа на земле, музыка.
Он ведет мелодию дальше, набегает легонькая волна, словно от аплодисментов.
Все в согласии.
Он перестает играть, и она поворачивается к нему. Она видит, как по его бледному лбу течет пот. На лбу мокрая прядь волос. Он выгибает вперед свою тонкую шею и дышит с трудом. Она глядит на него, приближается, сбрасывает платок на песок; она склоняется к нему и протягивает руку.
Она кладет ему на спину свою прекрасную руку.
Он резко встряхивает головой, отстраняется и отталкивает ее.
Лягушка прыгает в лужу.
Она понимает, что он прав. Лягушка прыгает в лужу.
Глава двенадцатая
И вот наконец настало предпоследнее воскресенье августа.
В тот день Боломе ловил рыбу все утро. В воскресенье запрещено рыбачить, но инспектор был его другом. После полудня он натянул резиновые сапоги до бедер и надел свою куртку цвета хаки с кабаньими головами на металлических пуговицах. Потом пошел вверх по течению Бурдонет и добрался до железнодорожного моста с большими каменными арками, под одной из которых протекала река. Боломе остановился как раз под аркой и, облокотившись о камни, взглянул вверх, где шли рядами голубоватые блоки, опоясанные цементом. Его взгляд скользнул по конструкции выше и чуть назад, упершись в синее небо без единого облачка. Приближался поезд. Боломе не мог его увидеть, но услышал выросший из пустоты потусторонний грохот, неизвестно откуда взявшийся и куда исчезнувший, как это бывает с приближением грозы или тучи с градом; вот и опять тишина… Боломе отвел взгляд от опоры моста, он хотел прикинуть ее высоту: метров тридцать уж точно. Он не взял с собой удочку, потому что пришел сюда, чтобы последить за округой. Ему сказали: «Приглядывай за карьером и Бурдонет». Вот так. Он побывал возле глубокой заводи, потом прошел вниз по течению, прислушался. Дело ясное, воскресенье. Грозовой гул уже не доносился с железной дороги. Боломе шел вдоль реки под ельником. Сверху были слышны крики, песни; было воскресенье, люди гуляли или искали в укромных местах боровики и лисички. Он подошел низом к своему дому. Вот он поднялся по тропе. Достал из кармана ключи и отпер дверь.
Воскресенье, погожее августовское воскресенье, воскресная жизнь идет своим размеренным чередом почти без неожиданностей. Наверху по-прежнему голосят мужчины, женщины, дети; Боломе входит в дом, а когда появляется снова, на плече у него ружье. Он же в друзьях с инспектором, который по совместительству и местный егерь, и может гулять с ружьем за четыре-пять недель до открытия сезона охоты без риска нарваться на приключения. К тому же ему все объяснили. Ему сказали: «У тебя есть револьвер… Все дело в этом савойце. Отправляйся к карьеру, а я пойду к дому Ружа…» Боломе со своим ружьем идет по мху и черной земле к скале, поросшей ельником; он поднимается по тропе, стараясь никому не попадаться на глаза, минует ельник, заходит в заросли, и вот он уже наверху, откуда виден дом Ружа с трехцветной крышей. Свет здесь накатывает волнами; это словно взмахи мотыги — удар, взмах — удар. Надо бы последить за тем, как там у Ружа дела, а лучшего места, чем здесь, не найти, это еще малыш Морис знал, когда прятался тут в кустах. Теперь на его месте сидит Боломе, и солнце бьет ему прямо в лицо. Лучи ходят туда-сюда, словно кто-то открывает и закрывает оконную раму. Боломе прикрывает глаза рукой и, глядя сквозь пальцы, пробирается в колючих кустах и зарослях, покрытых фиолетовыми стручками; он отводит руку и видит дом, похожий на сарай, с трехцветной крышей, стоящий прямо на камнях. У дверей никого. Чуть дальше, на берегу, две взрослые девочки держат за руки малыша, едва умеющего ходить. Что-то такое творится на воде, в воздухе, в небе и на горе прямо напротив, над склоном которой хорошо потрудился едва ощутимый здесь ветер. Гора сверкает, она чистая, скалы словно только что после ремонта. Воду тоже как будто натерли воском до зеркального блеска так, что берег напротив двоится и высоченная гора тоже. Лодки плывут вокруг перевернутой вершины Ден Д’Ош, а другие словно подвешены к опрокинутым утесам Мейери; люди сидят в лодках, которые похожи на кабинки подъемников, скользящие над ущельем по тросам. Боломе оглядывается, но вокруг все спокойно; он прячет ружье в сухом месте, где оно полежит, пока не придет в нем нужда, потом спускается с крутого берега и идет по вьющейся в камышах тропинке.
Предпоследнее воскресенье; ни Руж, ни Декостер, ни она не ловили рыбу уже несколько дней. Сеть все так же висит на кольях и совершенно побелела от солнца, «растаяла», как сказал Декостер. Она стала пепельного цвета, а ведь изначально сеть бывает голубая, как небо, зеленая, как молодая трава, или золотистая, словно мед.
Но сетью больше не пользовались, и Боломе не преминул это отметить, подходя к дому Ружа. Декостер как раз расставлял посуду на кухне, а Руж пристроился на скамейке и слушал Жюльет. Боломе увидел, как Жюльет что-то сказала Ружу, и вид у того стал недовольный; он покачал головой и спросил:
— А это не опасно, Жюльет? — Тут он заметил Боломе, обернулся к нему и продолжил: — А ты как думаешь, Боломе? Она хочет немного поплавать на лодке…
— Отчего бы и нет? — сказал Боломе.
— Но ты же сам знаешь, что делается вокруг.
— Да ничего такого не делается, успокойся, я тут сейчас все обошел.
Но Руж все так же качал головой. На нем был уже не парадный костюм, а потертая одежда и стоптанные кожаные башмаки.
Ветер совсем стих, и жара все больше давила на песок, гальку и даже деревянную скамью; вода начала куриться белым паром. С вершины скалы доносилось пение; люди семьями наслаждались оттуда отличным видом. На воде виднелись лодки, а к берегу, меняя курс, приближалось приличных размеров крашенное черной краской суденышко с косыми парусами. Ясно, что в конце концов гостья Ружа тоже не могла не поддаться воскресному настроению, пусть даже Руж со своей скамейки продолжал качать головой. Все увидели, как она встала. Боломе остался сидеть рядом с Ружем. Тот больше ничего не говорил, а только потягивал погасшую трубочку.
Предпоследнее воскресенье; никогда еще не было так хорошо вокруг. Люди в лодке натягивали паруса; один из них изо всех сил уперся спиной в ручку руля. Лодка все время меняла галс с востока на запад и с запада на восток. Ее экипаж уже наигрался в карты. Высокая черная мачта дрожала над ними, как огромная черная змея, порезанная на толстенные куски, а паруса походили на пятна крахмальной воды. Плывя бортом к берегу, они разглядывали его в свое удовольствие и не могли не заметить, что оживление там возрастало.
Большой Алексис снял воротничок и жилет, а потом отправился на конюшню за своей лошадью, Морис снова пробрался на утес. Вот Алексис уже показался на тропе, идущей вдоль Бурдонет; он ехал на большой рыжей лошади, настоящей лошади-драконе, сгустке нервов и жил. Ее начищенная шкура блестела, как омытая дождем оцинкованная крыша…
Вот дивный мир вокруг, вот они все: Боломе, скрытый от всех Морис, Алексис на своей рослой лошади, Шови с палочкой среди торжествующих гор. Алексис держал лошадь за повод и тихонько похлопал по шее, успокаивая. Затем он снял ботинки, а лошадь затрясла загривком, демонстрируя клеймо военных властей. Все лягушки попрыгали в воду.
Алексис спрятал башмаки в камышах, снял белую рубашку, обнажив завитки волос на груди.
— Давай! Давай! Д’Артаньян, потерпи же. Что это ты? Тихо, тихо…
Лошадь с беспокойными глазами цвета мыльной воды вдруг повернулась всем крупом, по которому пробегала дрожь, словно рябь под порывом ветра.
— Давай! Давай! Полегче, Д’Артаньян…
Они могли все видеть с лодки. Стоило ей появиться, они увидели и ее тоже. Она направляла лодку к открытой воде. Руж не поднял головы. А она все плыла вперед, чертя веслами по морщинам воды.
Один Руж не смотрел на нее, все остальные не сводили с нее глаз. Где-то там Алексис снова взобрался на лошадь: подковы зарывались в песок, вязли в тине, погружались в воду; пятками он со всей силы гнал ее вперед. Смотрели с вершины скалы, смотрели с лодки, смотрели с берега и со скамьи. А она — она неторопливо встала, обернулась и помахала рукой. Боломе ей ответил. Руж не шевельнулся. Он сидел неподвижно, все так же склонив голову.
Большой коршун, летящий с высокогорья, неторопливо спускался кругами. Он коснулся воды кончиком крыла, пытаясь зацепить лапой одну из болтающихся на волнах дохлых рыб; вот он поднялся снова, лапа его была пуста, рыба ему не досталась. Люди в большой черной лодке смотрели на берег; Алексис сжимал бока лошади голыми пятками.
Вот мир вокруг словно погас; вот он осветился снова.
В большой черной лодке был маленький ялик. Один из парней кинулся к корме и потянул за веревку ялик, словно жеребенка, привязанного к кобыле. Все хохотали, когда он садился в него.
Но что-то вокруг стало неладно, что-то стало не так, потому что все увидели, как Руж вдруг резко встал и пошел в дом. Через секунду он появился снова, и в руках у него что-то блестело. Потом: бах! бах!
Два выстрела слились в один, так что дрожь в воздухе не успела уняться и трижды обрушила грохот на скалы, лес и ущелье…
Ближе к вечеру пришли два жандарма при полном параде. На берегу никого больше не было. Дом Ружа оказался закрыт. Где-то вдалеке угадывалась деревня, а здесь все замолкло: даже волны, даже вода, даже воздух.
…Жюльет так быстро причалила к берегу, что карабин Ружа еще дымился. Парень в ялике бросил весла. Она выскочила на берег, и Декостер едва успел подхватить веревку от лодки, чтобы не упустить ее. Не говоря ни слова, он отвел ее в заводь. Когда он вернулся, Боломе уже не было.
Сам-то он хотел остаться, но Руж сказал:
— О! Я и один управлюсь, теперь я знаю, что делать. Ты понимаешь, это так просто… Если они станут давить на меня…
И он поглядел на ружье.
Потом бросил взгляд на лицо Декостера.
— Ты здесь не нужен, иди уж… Ты понял?.. — И повторил: — Ты понял? — глядя на Декостера с гневом и нетерпением; тот решил, что лучше не перечить Ружу…
Вокруг все молчит. Волны стихли, вода онемела, и не движется воздух, а небо из желтого становится розовым. Руж покашливает на кухне, ведь жандармы давно ушли. Вода из желтой становится зеленой и розовой, потом просто розовой; он кашляет и прикрывает рот рукой. Он смотрит на старые кожаные башмаки и нитяные носки, потом встает и стучит в дверь Жюльет. Никого.
— Ладно уж, — говорит он. — Что сделаешь?
Он зажигает керосиновую лампу и ставит ее на еловый стол, покрытый вощеным холстом с изображением битвы при Бурже (везде война, и конца этому не видно).
Она просто неблагодарная.
Ружье опять висит на гвозде в комнате; Руж берет его за стволы и несет к лампе. Битва при Бурже, битвы, везде битвы… Разве мы не делали для нее все, что могли?
У баварцев — каски с гребнями, а у морских пехотинцев — береты с помпонами. Пехотинцы атакуют во главе с офицером в адмиральской форме. Руж снова берет карабин и кладет его на колени; за изгибом приклада виден офицер, размахивающий саблей, и баварцы, появляющиеся из-за резных собак, ведь это старое ружье для псовой охоты. Чуть выше, на склоне, — белое пятно взрыва и облако дыма. Он поправляет ружье на коленях; да что уж там, у нее ведь все было или все могло быть. Своя комната, своя мебель, свое белье, своя часть дома, да хоть бы и весь, только пожелай… Ей ни в чем не отказывали и не откажут… Ведь это же так? Он смотрит прямо перед собой, но чуть-чуть правее; под висящей на латунной цепочке лампой действие обрывается, картинка стерлась и облупилась. И что же? А то что все так, как будто мы ничего и не делали… Уже давно они не доставали этот вощеный холст, который Декостер обнаружил в недрах шкафа и сказал: «Он еще ничего…» — и, значит, офицер снова взмахнул саблей, а гребенчатая каска баварца опять стала валиться на землю после лихого удара штыка. С тех пор она так и падает, с самой войны семидесятого, той, что была перед большой войной; под самой каской в холсте красуется дыра. А ведь так все устроилось… Только пожелай, ведь все было здесь для нее, и где бы она еще так пришлась… (Ведь женщин им не хватало, им всегда не хватало женщин.) Все эти переделки, стройка и краска… Руж вкладывает палочку в ствол, поставив ружье на пол между колен, вынимает, оборачивает тряпицей и смазывает ее жиром. Вот вам, если решите пожаловать — сами знаете, как вас встретят… Вам, если вздумаете прийти; вас двое, а я один-одинешенек, но на двоих меня хватит… Битва при Бурже начинает его раздражать. Каска баварца никак не хочет упасть на землю. Он водит палочкой вверх-вниз, усевшись верхом на лавке; один ствол, потом другой, бормоча: «Как-никак уже шестьдесят два года. Мог быть ее дедом. Но ведь у нас здесь свобода, она же создана для такой жизни, да и ремесло она пусть не совсем, но знает… Если бы только она захотела!» Он прислушивается, склонившись в сторону, изо всех сил прислушивается к тому, что происходит за дверью, которая никак не хочет открыться, ну хоть чуть-чуть; но за ней тишина. Гнев бросается ему в голову, наполняет плечи и руки, ходящие ходуном: он-то, в конце концов, чем виноват… Ладно! Они увидят еще! Стволы, собаки — главное, все привести в порядок и вычистить; потом два заряда крупной дроби, просверлить дырку в ставнях, хотя можно встать за досками сарая; дней десять ему еще осталось, а там посмотрим…
Руки опускаются сами собой, кончик палочки упирается в пол. Сколько ни слушай, ничего не услышишь, как будто и вправду ты один в целом мире. Он кладет ружье на стол. Надо пойти посмотреть, хорошо ли заперта дверь. Он идет обратно и снова садится. В голове его все никак не уляжется: воскресенье, Миллике, судья, секретарь, судебный исполнитель, жандармы, следствие, суд; вот он там, целый мир, а мы здесь, в стороне. Еще неделя, неделя и три-четыре дня. Он думает, думает изо всех сил, сведя брови.
Она слышит, как ее зовут во весь голос, зовут вечером этого предпоследнего воскресенья (последнее не в счет). Она лежит одетая на кровати, не зажигая свет; Руж берет карабин и снова вешает его на гвоздь. Она слышит, как он спрашивает:
— Жюльет, вы спите?
— Нет.
— Что ж, тем лучше. Мне надо с вами поговорить. У меня есть предложение. Возможно, что вы согласитесь.
Он идет к двери и берется за ручку, но отдергивает руку и делает шаг назад. Он смотрит на стол: какой мирный свет бросает лампа с белым фарфоровым абажуром в латунной оправе; он переступает с места на место, подвигает к себе скамью. Она слышит, как он говорит:
— Нам придется что-то решать…
Она натягивает на себя одеяло. Пробивающийся сквозь занавески свет звезд позволяет увидеть белые пятна: кусок стены, кровать, мебель. Потом уж ее саму, потому что она будто бы и не тут; она лежит неподвижно. Только голос выдает ее, а другой голос звучит из-за двери. Она говорит:
— Нет.
А из-за двери доносится:
— Нам придется что-то решать… Вы хотите возвратиться к Миллике? А! Вы не хотите? Только если вы к нему не вернетесь, вами займутся они… Они вас заставят, они пошлют за вами жандармов. Вы не видели тех, что уже приходили.
Она их не видела.
— А! Вы их не видели, что ж, я-то их видел… — И снова: — Что вы об этом думаете? Жюльет, идите сюда, пожалуйста. — Он обхватывает руками стол, изо всех сил противясь желанию встать. — Я хотел с вами серьезно поговорить, вы же знаете, времени больше не будет… У меня предложение. Жюльет, Жюльет, если бы только вы захотели… У нас есть деньги… Жюльет!
Он прислушивается: ни звука, ни шороха.
— Жюльет, вы у себя?
— Да…
Он снова встает и идет к двери, но вдруг останавливается, опустив руки. Он поднимает руку, она безвольно падает, он засовывает ее в карман, потом другую руку в другой карман.
— Деньги и лодка, чего же еще.
Она говорит «да», потом «нет», потом «да», потом «нет»; он просит ее выйти, она не выходит; но ведь есть деньги, Жюльет, и есть лодка… У нее ваше имя…
— Послушайте, в следующее воскресенье праздник Лилии. До того нас оставят в покое… Суд примет решение еще дня через три. В воскресенье все будут на празднике, нам останется только дождаться ночи, никто ничего не заметит. Даже Декостер будет там, ну, и горбун, конечно. — Он кружит вокруг стола, останавливается и снова… — Сложите вещи, Жюльет, мы возьмем вашу лодку. Просто уедем, никто и не заметит, ищи потом… Поплывем на ту сторону, там другая страна, и они ничего не смогут… Останемся там до того… до того, как вы станете совершеннолетней, ведь это всего несколько месяцев. Тогда вы решите. Я удочерю вас. Если вы захотите. Вы станете моей дочерью, у меня же детей не было, ни жены, ни детей… Там, у савойцев, мы тоже сможем ходить за рыбой… Я напишу Декостеру, чтобы он приглядел за домом. Нам плыть всего три часа. Ну что, решено или как?
Она молчит, но он думает, чего ж тут и говорить.
— Что может быть легче? Вы соберете вещи, и поплывем на ту сторону, так будет лучше… Здесь недалеко до беды…
Он все стоит, держа руки в карманах.
— Да, до беды… И не осилить нам их… Но только никому ни слова… А теперь надо поспать. — И добавляет: — Спокойной ночи.
Глава тринадцатая
Их было трое, Мари, Мадлен и Гортензия, три девушки с двумя корзинами. Они шли под елями вдоль Бурдонет и время от времени нагибались, отдирая с земли полосы мха — они собирали мох для гирлянд. Был вечер пятницы. Они отдирали мох и укладывали его слоями в корзины; кое-где деревья росли так часто, что девушкам приходилось идти гуськом, а потом деревья расступались, возвышаясь колоннами с потеками белой смолы, как на чадящей свече.
Снизу до них доносился рокот воды, а совсем рядом начинался прелестный склон, весь рыже-зеленый, с усыпанными иголками каменными ступенями; с них тоже свисал мох, но не тот, что нужно, — худшего качества. Он был изжелта-белым, словно клочья бороды. Девушки шли по гребню ущелья, нагибались, смеялись и перекликались. Вдруг они разом смолкли.
— Вы слышали? — спросила Мария.
Снизу сквозь шум воды донесся какой-то звук. Было похоже, что хрустнула у кого-то под ногой ветка, а потом камень стукнул о камень.
— Вы слышали?
— Говорят, что эти леса полны проходимцев. Люди рассказывают про савойца и Жюльет, племянницу Миллике, которая сейчас у Ружа, потому что дядя ее прогнал. Мы слышали, что она будет на празднике в воскресенье.
— Не может быть!
— Да, ее пригласили.
Потом снова Мария:
— Вы слышали?
Они все подались назад, укрывшись за гребнем оврага.
Кто-то был внизу, они посмотрели, вытянув шеи; на другом берегу реки колыхнулся густой кустарник.
— Смотрите! — прошептала Мария. Она указала пальцем на соломенную шляпу, которая то появлялась, то исчезала, и окликнула: — Эй, месье… — Она склонилась над обрывом и снова позвала: — Эй, месье… — Потом крикнула громче, а с ней и ее подружки: — Эй, месье! Месье!
Тишина. Листья кустов не двигались.
Шляпы больше не было видно.
Она засмеялась:
— А может быть, это немец?
Девушки потащили ее назад, но Мария крикнула:
— Эй! Mein Herr…
Тишина.
— Да это небось англичанин. Эй, sir…
Если надо, мы и на трех языках умеем, но, выходит, ее все равно не поняли. Снова кто-то шел под кустами, но шляпы уже не было видно.
— Вы что, не поняли, кто это? — спросила Мария. — Это Морис, как его? Морис Бюссе. Только он один…
— Куда это он идет?
— Как же! Куда!
— А Эмили?
— О! Эмили…
Они посмотрели друг на друга, и Мария пожала плечами.
Девушки вдруг заговорили хором, взахлеб:
— Ну да, так и есть… Морис передал через Декостера, чтобы его ждали… Горбун приведет Жюльет… Ну, этот итальянец, ты знаешь, он часто бывает у Ружа и играет на аккордеоне…
— Кому?
— Ей.
— Так они придут?
— Да, придут. Они будут вдвоем, а парни уже обо всем сговорились.
— Боже мой! И что же они задумали?
— Точно не знаю, но ты можешь спросить Мориса или этого верзилу Алексиса.
— Да уж, скажет он мне…
Они увлеченно переговаривались на ходу, шаг за шагом возвращаясь в мир, наполненный ярким светом. Уже было слышно, как забивают гвозди. Девушки вышли к давно расчищенному месту, где рос подлесок; за ним виднелись электрические столбы с красными кругами и надписями: «Опасно для жизни». Хлопая крыльями и отчаянно крича, перед ними пронесся дрозд. Они прошли еще немного между двумя изгородями, скрывавшими вид на округу. Ну вот, они и на месте. Внизу стояли дома с латаными крышами, на самом большом из них было выложено свежей черепицей: «Цветок лилии», а чуть ниже красовался и сам цветок. Это был ресторан, перед которым росли две старых липы, а под ними стояли столы и скамейки. Их заметили. Парни, заколачивающие гвозди, закричали: «А! Это вы, давайте сюда…»
Скоро праздник. Парни все еще не слезли с лестниц, а девочки суетились вокруг столов, разворачивая флаги, доставая гербы и бумажные розы. Мориса среди них не было, и Эмили тоже — да и ее тоже. Ну, где он — теперь ясно, а вот она? Стучали молотки; девушки уселись прямо на столе, болтая ногами в модных чулках телесного цвета. Их работа — нанизывать на бечевку пучки мха, ведь скоро праздник. Зажгли электричество. У девушек работа тихая (если бы еще Бог языки отнял), и разве что стук молотков нарушает тишину… Принесли хлеб, сыр, ветчину, салат и много литровых бутылок белого. Все ели, пили и чокались. Потом парни снова взобрались на лестницы, а девушки подали им большую пахучую зеленую змею, приятную на ощупь и все еще дышащую лесной влагой, которая под собственным весом кое-где провисала до пола. Парни наверху потянули за бечеву, девушки одна за другой подняли руки с гирляндой, и тогда под тонкими корсажами из белого полотна и муслина стали видны их плоские и налитые груди, худенькие и округлые руки. Пахло еловыми ветками, влагой и горечью. Выпили еще…
На длинной гирлянде, натянутой между деревянными столбами, были нанизаны красные, желтые и белые бумажные розы. Они чокались: «Твое здоровье!» — «Твое!» — и это звучало, как мелодичный колокольчик козы, пощипывающей траву. Потом снова раздался стук молотка. Один гвоздь никуда не годился, надо было его заменить. Десять парней и десять девушек. Уже был двенадцатый час. Одиннадцать пробило на удивление медленно и отчетливо. Что ж, это и понятно, часы были уж очень старые. Они били так размеренно, что не услышать их было просто невозможно, они находили в любом шуме лазейку, словно говоря: «Ну, вот, время пришло». Попробуй не расслышать.
Пришло время всем идти по домам. Они шли, держась за руки, и пели, сначала одну песню, потом другую — и так все песни, что знали, подряд. Вдруг между песнями кто-то сказал:
— Вы слышите?
Все смолкли и услышали аккордеон.
Откуда-то с озера, из-за деревьев и ночи, едва слышная сквозь говор воды звучала музыка. Они рассмеялись:
— Да это горбун… Руж зазывает его скрасить ей жизнь… У нас-то все одно лучше… А если горбун придет на праздник?.. Там будет оркестр Гавийе, восемь музыкантов как на подбор… Ему придется попотеть, если захочет тягаться с ними…
«Ведь это сам синдик, — говорили в деревне, — позвонил жандармам и доложил о двух выстрелах; да только похоже, что Руж стрелял в воздух. Парень в ялике оказался не прав, вот дела никакого и нет, но синдик все равно беспокоится. Он так и сказал: „Давно пора положить этому конец“. Он был у судьи. Тот обещал выслушать дело дня через три по-еле праздника. Пусть Миллике и Руж поспорят в суде (если, конечно, оба придут, что вряд ли), а потом уж он примет решение. Похоже, что ни тот, ни другой своего не добьются, ведь Миллике сам выгнал девчонку, а Руж не имеет права держать ее. Остается поместить ее в приют, пока годами не выйдет. Правда, Руж сказал: „Если придут жандармы, я тут как есть все взорву“. Вот синдику и не сидится на месте, да и народ волнуется, чем ближе к суду, тем больше. Не надо было доводить до такого, да только власть не хочет ничем заниматься, ей бы только обойтись без всех этих писем и постановлений; да ведь и Руж никому вовек не сделал плохого, и ей тоже, ведь где бы она без него оказалась? В том, что о них болтали, ни слова правды, но что вы хотите? Миллике подал жалобу…»
Кафе опустело, опустела терраса со слишком большими и слишком ярко покрашенными столами; Миллике слонялся вокруг. В эту субботу в воздухе зрела гроза (она и пришла под вечер). Мужчины роняли слова, помахивая метлами у дверей домов, пока дочери (если у них были дочери) готовились к празднику и сыновья (если у них были сыновья) делали то же самое. Так уж повелось, что праздник длился с субботы до вечера понедельника, и отцам с сыновьями приходилось как-то устраиваться со скотиной, а матерям с дочерьми возиться с остальным хозяйством. Потом уж они могли идти к себе прихорашиваться, сбегав сперва к фонтану за ведром воды, а парни — копаться в ящиках в поисках бритв и мыльного порошка. В такую духоту самое время было сменить старое белье на новое и надеть белую рубашку или совсем легкое муслиновое платье без всякой рубашки (ну, разве что совсем незаметной). Все надевали белые и розовые платья из муслина или самого нежного шелка. Девушки готовились к празднику, парни готовились к празднику.
Горбун тоже готовился, но к чему — об этом никто не знал. На самых задворках, за сараями, он запер дверь на ключ и сложил первый мешок. Был субботний вечер; он взял холщовый мешок, набил его, завязал двойной узел, потом поставил его в угол. Другой сверток стоял рядом с ним, тут не было секрета, что в нем, — это можно было узнать по вощеной ткани и пуговицам на боку. Он держал его поблизости, чтобы в нужный момент закинуть на ремне за спину. Он отнес клиентам множество башмаков, бывших у него в починке; те, что остались, стояли рядком на доске. Где-то вдали зазвучал оркестр Гавийе. За крышами проглядывал лес на той стороне ущелья; звук доносился как раз оттуда, где похожие на пилу верхушки елей чиркали по голубой полосе неба.
Никто не видел, как горбун вынес излома свои два узла. Теперь у него было три горба, хорошо заметных, потому что еще не стемнело. Они не уместились на спине и свалились, один направо, другой налево. Третий был неподвижен. Горбун поднялся по переулку; делать здесь больше было нечего. Он миновал вокзал, и ему оставалось пройти по большой дороге вдоль рельсов, которая начинала петлять на спуске, но горбун взял левее, оказавшись совсем близко к оркестру, от которого его отделяло лишь плоское ложе оврага. Музыка вертелась у него за горбами, покалывала бока, заставляла ускорить шаг по скользкой траве. Перед ним в трепещущей дымке возник виадук. Горбун направлялся туда, где арки начинали взбираться по склону, становясь все ниже и ниже, и очутился у той, под которой едва можно было пролезть ползком. Так он и сделал. Готово.
Теперь у него стало два горба. Он знал, что опаздывает, и вновь ускорил шаг. Очутившись в переулке, горбун понял, что Декостер уже давно поджидает его.
— Откуда это вы? Хорошо, что пришли, я уже хотел возвращаться один, и что бы сказал Руж?
Горбун пошел за Декостером.
— Решено, — говорил Декостер, — мы отвяжем лодку… А вам надо будет отвести мадемуазель Жюльет на праздник. Ребята знают, что им делать. Вам нечего бояться, поверьте. Боломе на своем месте…
Горбун лишь кивал в ответ.
Первая гроза пронеслась над ними в тот вечер. Все вчетвером они сидели у дома, и Руж все говорил Урбэну:
— Давай погромче.
Музыка из «Цветка лилии» доносилась и к ним с ветерком, гулявшим вдоль Бурдонет, и пыталась заглушить аккордеон. Руж злился:
— Они, похоже, никогда не замолкнут… Погромче, месье Урбэн.
Они сидели на скамье. Вдруг ветер внезапно переменился, задув с юго-запада.
Было видно, как немедля поднялись, покачивая белыми султанами, эскадроны волн. Гроза повисла над горами Савойи, словно занавес, на котором молнии сверкают розовыми искрами. Гроза бушевала, освещая округу и вновь погружая все во тьму. Внезапно задул сильный ветер, он поднимал ввысь и разбрасывал по сторонам ветки и всякую мелочь — и Бог знает что еще. Но дождя не было.
«Эта гроза не про нас», — сказал Руж.
Свет падал на его лицо и усы.
Руж был прав: гроза прошла стороной.
Горбун не стал сидеть допоздна. Декостер, как обычно, пошел его проводить.
Руж подождал, пока они уйдут, и сказал Жюльет:
— Ну, как ваши вещи?.. Жюльет, завтра вечером… Вы не забыли, Жюльет?
Надо сказать, что в тот день у «Цветка лилии» открылись лавочки, в одной торговали булочками с пряностями, в другой — мороженым, в третьей — разными разностями для взрослых и детей. Сначала все шли сюда. Лавочка булочника была задрапирована красной тканью, мороженщик выкрасил свою под мрамор. Стены пестрели картинками, а рядом стоял оркестрион с четырьмя рядами медных труб. Любо-дорого было поглядеть, как он сверкал.
Молодежь явилась заранее, чтобы не пропустить начала танцев. Те, что постарше, не торопились, потому что в такой день не вставали с постели раньше трех. В деревне кое-кто с утра заглянул к Миллике, но, увы, к полудню все разошлись. Одетый в воскресную одежду Миллике, с воротничком и галстуком, стоял на пороге и окидывал взглядом берег, где не было ни души, и улицу с людьми, направлявшимися к месту праздника. Он увидел Шови, который тоже вознамерился поглядеть на веселье. Миллике крикнул ему:
— А вы-то куда идете?
Но Шови только махнул своей палкой.
— Эй, Шови, эй Шови, Шови!
Но Шови уже не мог его слышать, и Миллике оставалось только поглубже засунуть руки в карманы и пожать плечами. Из дома напротив вышел Перрен.
— Эй, Перрен, мой вам совет поторопиться. Вся эта кутерьма кончится дня через два…
Перрен ничего не понял.
— Да, да, дня через два-три. Тогда и увидим, кто посмеется последним, мошенники или честные люди…
Перрен понял, в чем дело, но ничего не ответил и потянулся вслед за всеми. В довершение всего появилась маленькая Маргарита; она была вся расфуфыренная.
— Я хотела просить разрешения сходить ненадолго на праздник.
— Что?
Миллике уставился на ее розовое муслиновое платье с белым поясом, черные башмачки и плетеную шляпку.
— Вы… Вы с ума сошли…
Он никак не мог подобрать слов…
— О! Мне нужно быть там… Да здесь и делать нечего…
— Что… надо?..
В эту секунду послышался звук открываемой двери, и с лестницы донесся голос:
— Эй, старый болван, держи ее за руку, слышишь, и запри дверь на ключ…
Но было поздно. Маргариты и след простыл.
Нацепив кое-как юбку, с трудом волоча ноги в стоптанных башмаках, спустилась мадам Миллике собственной персоной, уперла руки в боки.
— Вычти из ее жалованья… Выброси ее пожитки… Чтобы ноги ее здесь не было… Я тут хозяйка, слышишь… Все твое под арестом, ты нищий… Иди спать, старый дурень, это лучшее, что ты можешь сделать…
И грохнула дверью.
Прибыли музыканты. Их было восемь. Оркестр Гавийе, самый искусный в округе: костюмы стального цвета, черные фетровые шляпы, черные шелковые галстуки, белые рубахи с отложными воротниками. Перво-наперво они выпили по стаканчику у стойки, не выпуская из рук инструментов, на славу начищенных бельгийским порошком. Потом пистон подал сигнал, и вскоре музыка волнами понеслась к деревне и лесу, отдаваясь в сердцах людей.
Эмили пришла одна. Здесь было слишком много народа, чтобы на нее сразу обратили внимание. Она прошлась вдоль лавок, напрасно ища его повсюду. Она остановилась, посмотрела направо, посмотрела налево: она видела лишь внушительных размеров руку, вынимающую из жестяного ящика фигурку, на голове у которой было два пера, красное и белое; рука поставила ее рядом с другими фигурками с глазами из белого сахара.
Подъезжали все новые автомобили. Пожаловала даже разодетая молодежь из дальней деревни на покрытых пылью велосипедах с цветами на рулях.
Человек на земле одинок. С Эмили здороваются, но она не слышит. Снова играет музыка. Эмили встает за дощатой загородкой, украшенной пахучими еловыми ветками; там обычно собираются дети и женщины вместе с теми, кто слишком стар для танцев. На помосте сидят музыканты, раздувающие щеки за пюпитрами с нотами. Она смотрит по сторонам невидящим взглядом оттого, что видит только одно: его нет, он все еще не пришел. Впереди головы, спины, взмахи рук, головы в шляпах, без шляп, лица с усами и без усов; тур танца закончен. Эмили встает у выхода, через который следуют пары, держась за руки. А Мориса все нет. Его словно нет на земле. Музыканты вынули из инструментов мундштуки, дуют в них и трясут, чтобы избавиться от слюны. Над ними гирлянды и флаги. Видите, какие мы нарядные. А вы что думали, мы оденемся как в будни? Сегодня праздник, и мы сменили платье — вот, поглядите, белые перчатки. Кавалеры ведут девушек в сад и угощают лимонадом за железными крашеными столами.
Тьма поглощает день вдоль белой дороги, закрывает тучами солнце на небе, ложится на землю, траву и столы, за которыми пьют, веселятся, смеются. Деревянные лошадки карусели кружатся на месте, дети беззвучно дуют в картонные трубы. Толпа оттесняет Эмили обратно к лавкам. Она видит инвалидную коляску и рядом клетку на складном столике. Безногий мужчина повторяет:
— Ваше будущее, месье, медам!
Эмили видит за клеткой поднос с множеством разноцветных картонных квадратиков, сложенных вчетверо.
— Всего два су, — говорит человек. — Два су с каждого.
Чего еще ждать на земле?
— Ваше будущее, месье, медам; два су, всего два су…
Она… она всего лишь невезучая девочка, вот почему она протягивает два су.
Птица садится на жердочку за дверцей клетки. Она неподвижна. На Эмили напирают люди, которым не терпится посмотреть на фокус, и какая-то девочка говорит:
— Ты видишь маленькую птичку, мама? Какая она забавная! Ой! Что она делает? Отчего она берет клювом бумажки, мама?
За ней толстая тетка:
— Подумать только, она и впрямь как будто ее знает!
Похоже на то, потому что птица не сводит с Эмили круглого блестящего глаза, потом дергает головой и выхватывает из кучи розовый билетик; нет, это не тот, она подбрасывает его в воздух и выбирает белый, но и этот ей не подходит.
— Будет этому конец или нет?
— О! Они хитрые, эти птицы!
— Ну вот, вроде сейчас… Опять нет?
Кто это говорит? Где они говорят? Теперь птица держит в клюве серый билетик, и выбор сделан, потому что птица подпрыгивает и перелетает на руку хозяина.
— Ну, месье Всезнайка, теперь готово?
Кивок головой.
— Вы уверены, что не ошиблись?
Снова кивок.
— Хорошо, месье Всезнайка, вы знаете, что надо делать.
Птица подлетает к Эмили, приветствует ее тремя кивками, а мужчина говорит:
— Мадемуазель, это вам…
Эмили протягивает руку.
— Медам, месье, кто следующий?
Рядом с ней толпа любопытных, но она засовывает бумажку за отворот перчатки, поворачивается и уходит.
Все вокруг наполнено музыкой, шумом и голосами, круговертью движения и блеска; она чувствует кожей бумажку, она никак не может решиться и сходит с дороги.
Она идет по траве в саду под деревьями, видит уже поменявшие цвет вишни без ягод, сливы и яблони, обещающие славный урожай. Господи Боже, а вдруг… Разве можно знать, разве можно…
Она прячется под ветвями, чувствуя, как углы бумаги впиваются ей в кожу. Деревенские крыши с одной стороны блестят, словно вымазанные яичным белком, с другой — едва отливают серым. Да, что ни делай, свет всегда падает с одной стороны. Только одна сторона человека… Надо решиться… Ведь, может быть…
Встав за деревом, она берет бумажку кончиками пальцев.
«Слишком нежное сердце»,
— написано на бумажке.
Четыре строки на машинке, это первая, они рифмуются, как стихи.
Каждая строчка с прописной буквы. Она читает первую строчку, потом остальные:
Слишком нежное сердце
Обречено томиться.
Отважное сердце
Все обретет
.
Горбун пришел к Ружу около четырех. Декостер, как обычно, вышел к нему. Руж воспользовался отсутствием Декостера и позвал Жюльет. Он снова говорил с ней через дверь, через еловые доски с прожилками и сучками:
— Жюльет, вы не забыли про вещи?
Она не сразу ответила.
— Сейчас появится Урбэн, так вот, я подумал, что хорошо бы все обговорить до него… Жюльет.
Снова молчание, но она приоткрыла дверь, и Руж увидел, что все готово; на кровати лежал узел, перетянутый ремнем.
— А! — сказал он удивленно. — Вы не берете ваш чемодан? В лодке хватило бы места. Эта лодка — удобная штука, чего только туда не уложишь. Но… Может быть, вы и правы. Мы найдем все, что нужно, там, нечего связываться с багажом, да еще если мы приплывем среди ночи. Я сразу пошлю Декостеру открытку. Он знает, куда будет спрятан ключ. Я скажу ему… А что, если он поживет здесь, пока нас не будет, как думаете?
Она продолжала молчать, а он, казалось, этого не замечал.
— Всегда можно ему написать… Вот только… — Он повернулся к входной двери и рассудительным тоном продолжил: — Вот только если гроза… Той, что сверкала вчера, дело не кончится.
Он вышел на порог.
— Да, — сказал Руж, — уже скоро. Но ведь гроза… — Он вернулся в дом. — Вы не боитесь грозы, а, Жюльет? И волн не боитесь? Вот и хорошо. Тогда я все беру на себя. Лодка у нас хоть куда. Ее починили специально для вас, и у нее ваше имя. На все про все три часа, и мы там. Вы поможете мне грести… Вот и славно… А! Жюльет!..
Слова застревали у него в горле, мешали дышать.
— Ясное дело… Да, ясное дело… Все это кровь… — Он с трудом говорил: — Ведь мы одной крови, как будто я отец, Жюльет и отец… — Он подался вперед, но тут же отступил, услышав сзади чьи-то шаги. — Закройте вашу дверь, Жюльет, и спрячьте узел…
Руж увидел Декостера и горбуна возле дома. Стоило только переступить порог, как лицо, словно каленым железом, обжигало солнце; это напоминало сцену в кузне — так кузнец в шутку распугивал ребятишек красным от жара прутом. Стоять к солнцу спиной было невыносимо, ибо не защищенная воротничком часть затылка сразу краснела под его палящими лучами. Декостер мотнул головой в кепке в сторону озера и прикрыл глаз, не говоря ни слова; Руж в ответ кивнул головой. На фоне воды, сверкавшей, как начищенный лист жести, Декостер казался совсем черным.
— Сдается мне, месье Урбэн, — сказал Руж горбуну, — сейчас слишком жарко, чтобы сидеть снаружи. Да и конкуренты у нас появились. — Он кивнул головой в сторону деревни. — Так скоро они не угомонятся, сегодня большой праздник… У них есть разрешение полиции… Часов до двух ночи терпеть придется. Они там могут сменять друг друга. У них бывает два или три музыканта, ну а вы…
Он рассмеялся. Урбэн поставил аккордеон на скамейку.
Небо со стороны Бурдонет между тем, казалось, то легонько приподнималось, то оседало легкими волнами; оно выглядело совсем выцветшим на фоне черного частокола елей. До дома Ружа отчетливо доносились только низкие звуки. Нигде никого не было: ни на воде, ни на берегу, никого в карьере, никого под всем этим белесым небом, никого на скале, никого на камнях. На озеро нельзя было взглянуть, не прищурив глаза.
— По крайней мере, — сказал Руж, — сегодня нас вряд ли побеспокоят. Как думаете, месье Урбэн, пожалуй, лучше пойти на кухню. У меня еще остались две-три бутылки… Случай как раз подходящий…
Все вошли в дом. Руж взял бутылки и сам отправился положить их в воду. Сегодня за сохранность бутылок опасаться не стоило — волн совсем не было, озеро казалось мертвым.
Руж был в ударе. Ну и что, что вино было не таким прохладным, как шампанское прямо со льда.
— Что скажешь, Декостер? А вы, господин Урбэн? — Потом он позвал: — Эй, Жюльет….
Они снова сели втроем на кухне за стол со скатертью, изображающей взятие Бурже. Под обрывки музыки морской пехотинец взмахивал боевым топором. Танцульки — и взрыв ядра, от которого остался лишь белый круг с черным ободком как раз там, где вощенка сошла и проглянула холстина.
Вдали над озером сгустились тучи.
Она вышла из своей комнаты как раз тогда или чуть позже — может быть, и чуть позже. Она не прикрыла за собой дверь, и в застоявшийся воздух ворвался порыв ветра, закружив между полом и потолком кусочек стружки.
Это была стружка от «Кокетки», завалявшаяся со дня ее ремонта; следы зеленой краски еще виднелись в ее волокнах.
— Мои бутылки!
Руж бросился вон из дома. Озеро начало взбалтываться (так говорят в наших краях) и темнеть, приобретая цвет ржавого железа. Озеро взбалтывалось, как будто вспухая и не посылая никуда свои волны, которые вздымались и проваливались, словно молоко на огне. Руж подхватил бутылки за горлышки и, вернувшись, водрузил их на стол; порыв ветра стих, и воздух снова стал неподвижным. Руж отер лоб рукавом рубахи, вынул нож из кармана, вонзил штопор в пробку и сказал, повернувшись к Жюльет;
— Ну как, что скажете, Жюльет? — Он был в ударе и весел. — Сейчас почти так же жарко, как в тех краях, откуда вы родом.
— Ну, не совсем.
— Смотри-ка… Ладно, все впереди… Что ни говори, — добавил он, — но в такую погоду хочется пить, и у нас тут есть чем утолить жажду, а у вас там… какое вино… В тех краях и вина-то нет…
Она кивнула. Снаружи раздавался гул, как от многоязычной толпы на ярмарке, и музыки больше не стало слышно. Хлопнула пробка; Руж разлил вино по стаканам.
— Это наше винцо, — сказал он. — Да, наше… Не такая уж гадость на вид, да и на… — Он поднес стакан к носу. — Ну, она-то в этом не разбирается, но вы, месье Урбэн, должны бы, ведь в вашей стране… За здоровье, за здоровье… Ваше здоровье, Жюльет, месье Урбэн… И ты, дружище Декостер…
Жюльет сидела за столом, а Руж — на скамейке рядом. Горбун сидел у стены на стуле чуть поодаль. Декостер вышел.
В кухню снова влетел порыв ветра, и осада Бурже всколыхнулась, приоткрыв изнанку. Прошло несколько минут. Руж говорил без умолка, все время повышая голос. В этот раз аккордеон так и остался лежать в своем вощеном чехле. Она обхватила колено руками, выставив вперед маленькую ножку и худую лодыжку, которую впору было обхватить пальцами. На ней были шелковые чулки (которые она обнаружила в принесенном Ружем пакете); издалека, откуда-то из озерной дали донесся первый удар грома. Да, теперь уже скоро (было видно, как померк дневной свет). Руж подошел к двери, загородив ее на две трети; за его плечами были видны первые белые гребешки, мерно скользившие по воде с запада на восток. Руж повернул голову в сторону скалы — кто-то его звал.
— В чем дело? — крикнул Руж.
Горбун взглянул на Жюльет; та встала и тоже подошла к двери. Ружа звал Декостер. Он размахивал сперва одной рукой, потом замахал обеими.
Руж заторопился.
Горбун не двинулся с места, а Жюльет пошла было за Ружем, но остановилась на полпути между домом и озером. Ветер закрутил ее юбку. Она увидела, как Руж подошел к Декостеру. Тот что-то пытался объяснить, бурно жестикулируя, Руж молча стоял рядом. Вдруг Руж обернулся и взглянул на Жюльет. Немного поколебавшись, он крикнул:
— Жюльет! Эй, Жюльет!
Он пошел прямо к ней, а она ему навстречу, потому что уже почти ничего нельзя было услышать.
— Жюльет, отвязалась одна из лодок, ваша как раз… Та, что мы должны были взять… Мы догоним ее, — сказал Руж. — С Декостером. Ее не могло унести далеко. Это ведь ненадолго, Жюльет. С вами останется месье Урбэн… Надо будет только запереть дверь…
Он повернулся к ней спиной и широко зашагал прочь, но потом все-таки еще раз обернулся:
— Договорились, Жюльет? Заприте дверь на ключ.
Боломе устроился на вершине скалы, Морис — с другой стороны ущелья, а Алексис — чуть в стороне от площадки для танцев (там спрятали и две мортиры). Они обо всем сговорились втроем и условились с несколькими приятелями о помощи. Те не спорили:
— Конечно, нужно, чтобы она пришла… А она будет в своем платье? Вот будет веселье! О мортирах и говорить нечего, их уже сто лет не пускали в дело. Когда еще представится такой случай… Отлично, спрячем их в зарослях.
Троица объяснила, что они нашли способ заставить Ружа разрешить Жюльет пойти, ну а там Декостер возьмется задело… Они не упустили ни одной мелочи, эти Алексис, Боломе и Морис; теперь каждый был на своем месте, а праздник шел своим чередом. О ненастье никто и не думал, потому что над площадкой для танцев соорудили навес. Домой отправились лишь мамаши с детьми, почтенные матроны да несколько старушек. Боломе с вершины скалы видел, как Декостер позвал Ружа, как тот пошел ему навстречу и как они оба сели в оставшуюся у берега лодку и отправились за второй, отнесенной волнами к самому устью Бурдонет. Боломе сбежал по склону, направляясь к Морису. Тот не сводил глаз с места, где тропа выныривала из ущелья в просвете между кустами. Два друга пошли к Алексису.
Его место было чуть в стороне от площадки для танцев и немного ниже, да вдобавок еще и в кустарнике. Там они и засели втроем около мортир. Прямо перед ними была дорога, которая шла вдоль реки по ущелью, а потом — по открытому пространству. Там, к юго-западу, небо меняло свой цвет, становясь темно-голубым, как гончарная глина, и похожим на огромный нависающий холм. Поднялся ветер, и стемнело.
Вокруг Жюльет тоже менялся свет. Они издалека увидели, как она приближается в наступающей мгле. Горбун шел за ней почти скрытый тенью. Едва-едва различались верхушки елей, словно по команде склоняющихся то в одну, то в другую сторону. Горбун нес инструмент на груди и растягивал меха. О на шла перед ним, впитывая свет и излучая его. Все вокруг потеряло свои очертания, и ростом она была уже не такая, как прежде. Ветер подхватывал ее, подгонял; те трое видели, что она все ближе, ближе, и Алексис сказал:
— Ну что, готовы? Огонь!
Из стволов вылетели длинные языки огня, бледные, как угасающий день. Огонь! Огонь! Два языка каждый в добрый метр длиной.
Они увидели, что горбун остановился. Аккордеон умолк, его больше не было слышно; первое эхо донеслось до ущелья, словно кто-то рвал холст или ветер полоскал парус. Потом — второе эхо и третье; холст намок, и ветер уже был не тот. Музыка праздника смолкла где-то за ними; восемь музыкантов оторвались от своих инструментов, надув уже бесполезным воздухом щеки; вот где было ее место — там, куда прибывал народ. Она была ослепительна в красной шали; народ устремился на праздник, вот Алексис, Боломе и Морис; тут и Шови, и маленькая Маргарита. Все держали бумажные розы и протягивали их ей. Горбун следовал за ней. Он снова наклонил голову и перебирал пальцами клавиши.
Там, на скале, никто не приметил савойца.
Она прошла на площадку для танцев, люди расступились перед ней и стали в круг. Савоец осклабился, пристроившись под дубком с раскидистыми ветвями. Кто-то сказал Гавийе, что его музыканты могут перевести дух, потому что пришел горбун. Тьма сгущалась, и послышались голоса: «Надо бы зажечь свет». Она стояла под навесом площадки для танцев, и пришедшая раньше времени ночь была некстати. «Скажите в трактире, пусть дадут электричество». А савоец все ухмылялся, сидя на скале. Он смотрел на лодку с двумя гребцами, идущую наперерез волнам. Он сунул руку в карман, проверяя, там ли припасенные два коробка спичек; они были на месте. Времени у него хватало. Тем двоим в лодке было не управиться с делом так быстро, как они, может статься, подумали; что же, тем лучше. Он смотрел, как они борются с волнами, видел Ружа, видел Декостера. Лодку сносило. Они напрягали силы, выгребая на волну, вдруг пропадали из виду и появлялись с другой стороны. Потом они снова взбирались на волну, налегая на весла изо всех сил. Он ухмылялся. Да уж, придется попотеть, если они не хотят упустить лодку. Не так-то просто и самим вернуться назад, если только они пожелают. Время есть, времени сколько угодно!.. Восемь музыкантов спускались с помоста вслед за Гавийе, который говорил: «Как вам будет угодно…» — но был все же немного задет. Не выдавая себя, он продолжал: «Все-таки два часа без перерыва». — «Вино вас уже ждет», — говорили ему. Музыканты спускались по ступенькам среди бумажных роз, а савоец вместо ступеней нащупывал песчаные кочки. В кармане куртки он обнаружил еще коробок спичек — итого три, он был человеком запасливым. Теперь увидят, кто я такой, Киприан из Сен-Долуар. Посмотрим, как они будут теперь насмехаться. Дверь в дом Ружа была открыта настежь. Внутри гулял ветер, был слышен гром и видны отблески молний. Он вошел. Когда не можешь иметь, разрушаешь. Пусть, по крайней мере, узнает, кто это сделал, я уж тут распишусь. Он вошел вместе с ветром и розово-желтыми молниями; ветер сдвинул вощеный холст со стола. Цементный пол был покрыт мусором, летающим у ножек стола: обрывками бумаги, щепками, сухими листьями, поплавками из пробки. Он схватил стул и с размаху швырнул его в висячую лампу, брызгами стекла прыснувшую в стены. Остаток керосина растекся по столу и закапал на пол. Все просто отлично. Он подошел к шкафу и взял канистру (она была полна доверху), налег плечом на закрытую дверь в комнату и рассмеялся, потому что она поддалась почти без усилия. Теперь он был у нее. Большое зеркало, в котором она отражалась так часто, больше не увидит ее. Если не можешь заполучить, разрушаешь. Он взял один из новых крашенных белым стульев… «Сначала немного вина… Для вас все готово, можете и закусить, если проголодались, вот хлеб и сыр». Бах! В зеркало. Бах! В стол. Что за работа, просто надвое развалился. Он плеснул на стол керосин, плеснул на кровать, свалил на нее кучей белье и одежду и пошел в сарай. Там было полно сетей, ага, да они уж давно сухие, три недели как в воде не были. Газеты, керосин, спичка… Готово. Хорошо, что у него три коробка. Он снова вошел в ее комнату, запихнул под кровать газеты, свалил в кучу стулья и чиркнул спичкой. Теперь на кухню. Он сбросил холст со стола на скамьи и соломенные стулья. Он захотел пойти в комнату Ружа, но между ним и дверью вдруг полыхнул язык огня; савоец едва успел отпрыгнуть.
«Для нас, — говорили в округе, — это приглашение было поводом поразвлечься и скрасить жизнь, все думали, что горбун может сыграть, а она, похоже, танцует». Вот и все, что они знали. Гавийе был не слишком доволен, но не подавал вида. Он спустился с помоста со своими музыкантами. Люди растрепали ей волосы, надевая на голову корону. В волосах у нее запутался мох, все смеялись и протягивали ей бумажные розы. Она стояла в середине площадки, ее шаль упала на пол. Надо же, еще и шести не было, а стало уже темно, можно было подумать, что на дворе зима, а не конец лета. Кто-то подобрал с пола шаль, но все успели взглянуть на ее плечи и руки. Она взяла розу. «Электричество! Электричество!.. Эй, вы там, электричество…» — ведь все выключатели были в ресторане. Она воткнула розу в волосы над ухом… «Электричество!» Удар грома. Друг друга не было видно, друг друга не было слышно. Все кричали, складывая руки у ртов: «Электричество! Эй!» Все толкались вокруг нее. Снова гром и ослепительный блеск. Казалось, что лампочки гаснут, когда он возникал откуда-то слева, из-за плеча. Все смешалось. Горбун и так был невысок, а тут его усадили — он и вовсе потерялся в толпе.
Сверкнула молния; казалось, словно помост валится вниз. Потом говорили, что в этот момент горбун снял с головы шляпу и, поставив рядом с собой, показал на нее рукой. Те, кто стоял впереди, поняли все и засмеялись. Казалось, она тоже чего-то ждет, но потом и она указала на шляпу; тогда кто-то первым и бросил монетку. Потом задние тоже сообразили, в чем дело, и стали кричать: «А мы чем хуже?» — и достали монеты, но многие не могли дотянуться до шляпы. Тогда кто-то крикнул: «Дайте-ка ее сюда!» Все от души веселились, кричали: «Шляпу!» Аккордеон, похоже, играл, но его не было слышно. Жюльет пошла по кругу; люди расступались, когда она подходила. Она протягивала вперед руки; в волосах ее все так же висели пряди моха. Ей бросали кто франк, кто два франка. Треск и грохот стояли вокруг. Снова треск. Все рылись в карманах… Напряжение упало, и вот уже в лампочках стали видны светящиеся нити, но тут… Но тут кто-то глянул в сторону озера, а там, среди переплетения молний, возник столб пламени. Он вздымался, упирался в небо; потом зазвонил колокол…
Кто-то бросился в деревню за насосом, другие побежали по дороге вдоль Бурдонет. Порой путь им освещали молнии, порой они оступались в кромешной тьме. Они скользили и падали, не обращая внимания на дождь. Они скользили и падали, продираясь сквозь ночь, как сквозь обвал. Они не спускали глаз с зарева, стоявшего за пеленой дождя и золотившего его струи. Они бежали в его сторону. Вот и ущелье, вот заросший кустами склон. Наконец они оказались на берегу, где в промежутках между ударами грома все еще слышался колокол. Насос еще не доставили, но с первого взгляда становилось понятно, что он там уже не нужен.
И правда, когда его наконец доставили, то даже не пустили в ход, хотя воды было в избытке. От сарая к тому времени уже ничего не осталось, да и дом выгорел начисто, если не считать четырех кирпичных стен. От горы обугленных балок, свалившихся внутрь, поднимался дымок. Народ сбегался теперь отовсюду, но людям оставалось только смотреть на пожарище. Люди неподвижно стояли вокруг (ветер и волны уже стихли, а гром слышался теперь издалека). В сером воздухе над серой водой моросил серый дождь, сдобренный черным дымом. Люди стояли перед пожарищем и не могли проронить ни слова.
— Этим должно было кончиться, — сказал наконец Миллике.
Он прибыл на берег с насосом и первым заговорил во весь голос. Он стоял, засунув руки в карманы.
— Сам-то он где? А она?
Тут появился Руж, но ее с ним не было. С ним шел Декостер; они только что пристали к берегу, промокнув до нитки, без кепок, с прилипшими ко лбу волосами. Сейчас дождь едва моросил. Казалось, что Руж ничего не понимает. Он молчал, Декостер тоже.
— А… вот ты где, — сказал Миллике. — Ну, и как? Удивлен?
Люди вокруг молчали.
— Нет, я гляжу, не очень-то; скажи только, где она, куда ты ее отправил?
Руж ничего не ответил.
— Так ты, хитрюга, дал ей сбежать?
Руж опустил голову, взглянув на Миллике так, словно собирался броситься на него.
— Видно, не сладко ей было с тобой… — Миллике ухмыльнулся. — Что ж, отлично, я отомщен!..
Все обступили Ружа, боясь, как бы он чего не выкинул, но быстро поняли, что у него и в мыслях этого нет, а если и есть, то не хватит сил. Тут и раздался тот голос откуда-то с озера, пробивавшийся сквозь шум волн:
— Эй, ты там, дружище…
Смех над волнами, которые уже не казались такими грозными.
— Эй, дружок, узнаешь меня?
Это был савоец. Он сидел в лодке Ружа.
— …Почтой… Я верну лодку почтой… — донеслись обрывки фраз; снова смех.
Руж не двинулся с места. Казалось, что он останется неподвижным до скончания века; все молчали, столпившись вокруг дымившихся балок.
Дым был сначала черным, теперь он стал белым.
Под навесом были только Морис, Алексис, Боломе, маленькая Маргарита и Шови; все остальные помчались на берег или укрылись в трактире. Электричества не было, и на площадке гулял ветер. Время от времени доносились обрывки мелодий, потом все снова тонуло в грохоте. Горбуна не было видно, Жюльет тоже. Тьма обступала людей и накрывала с головой, как платок фотографа. Вдруг она появилась и залезла на стол. Молния. Вот она, вот ее нет. Алексис, должно быть, решил, что время пришло, и направился к Морису, но тот куда-то исчез в темноте. Алексис протянул руку, ага, вот Морис, и положил ему ее на плечо:
— Слушай, Морис, иди и скажи ей, что пора, гроза вот-вот кончится… Сейчас проще уйти незаметно, потом все вернутся…
Морис, похоже, не услышал его, он смотрел. Она здесь, и вот ее нет.
— Морис!..
Морис не отвечал и не двигался. Порыв ветра сотряс навес. Ночь не кончалась, молнии сверкали прямо над ними. Вот она, она снова была здесь, она подняла вверх руки, роза упала с ее головы. «Морис!..» Доносились едва слышные звуки музыки, они приближались, удалялись, исчезали. Где же горбун? Его не было видно, не видно было инструмента, музыкант сменил место. Ее снова подняло в воздух; в сиянии молнии она подняла руки. Потом исчезли и руки, и тело, ее больше не было; последний удар грома, такой страшный, словно миру и вправду настал конец; она тоже исчезла, сверкнула молния, ее больше не было…
— Поторопись, Морис, нас никто не увидит… Поторопись…
Вдруг Алексис замер.
Серенький свет забрезжил между деревянными столбами с гирляндами. Вот возвратился пол, крыша, залитая водой трава, листва и стволы деревьев. Мир словно рождался вновь, но он уже был не тот, что прежде. Морис пристально и удивленно оглядывался и не видел ее. Вот скамья, на которой сидел горбун, но его больше не было. Вот стол, на который она только что забралась (если только все не привиделось им — ведь ее тоже не было). Ее не было здесь, ее не было нигде. Морис посмотрел вокруг и побежал прочь…
— Морис, ты куда, эй! Морис…
Морис не услышал. Он был окутан пеленой серенького дождя, заполонившего все между небом и землей. Вокруг стоял туман, с деревьев струилась вода. Морис вышел к большой дороге, но и там он не нашел ее. Это, наверное, оттого, что в пятнадцати шагах еще ничего нельзя было разглядеть, а может быть, он просто пошел не в ту сторону. О! Какая странная тишина была вокруг! Падали капли с деревьев, напоминая звуки шагов, он обернулся, и верно, за ним шли, но не та, которую он искал.
Он потряс головой.
Его все еще окликали с площадки для танцев, парни что есть мочи свистели — они не видели его, он не мог увидеть их. Но маленькую Эмили он видел прямо перед собой, ее нельзя было не заметить, так она стояла близко. Платье прилипло ей к плечам, поля соломенной шляпки закрывали лицо. Он не мог не услышать:
— Морис, это я…
Он склонил голову; она стояла рядом с ним, скрестив мокрые руки на платье; но ведь он искал не ее.
Она ждала, она ждала; он повернулся к ней спиной и пошел.
Шаги удалялись, удалялись неотвратимо…
Примечания
1 Матерчатые тапочки на веревочной подошве.