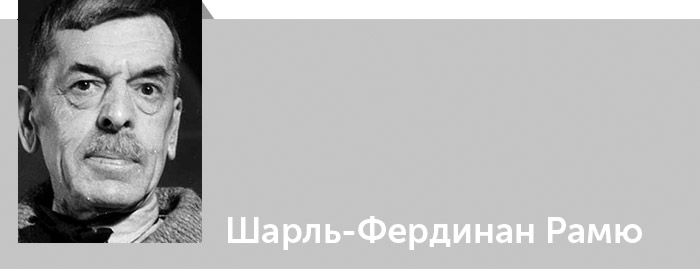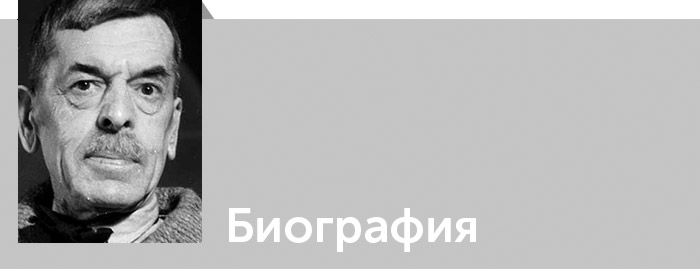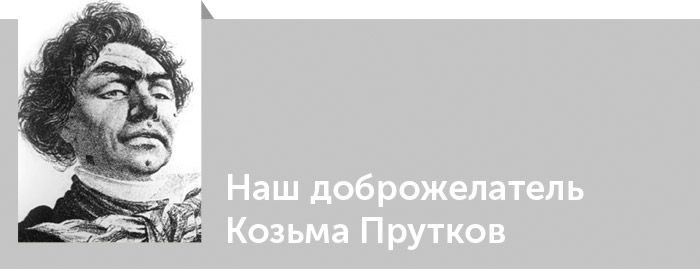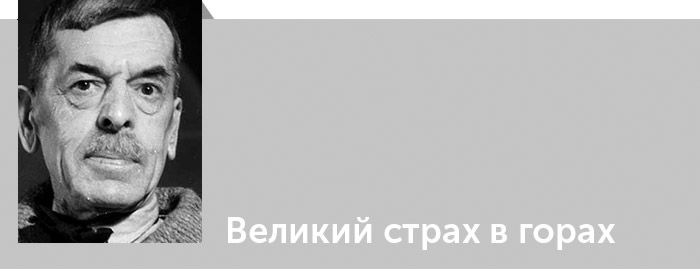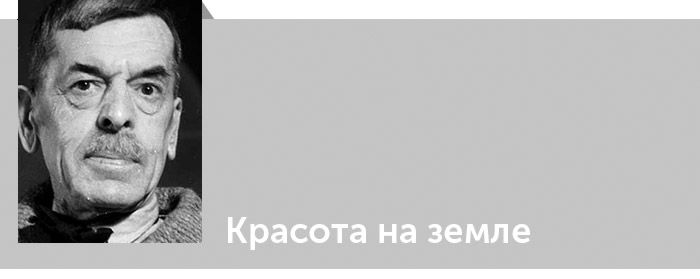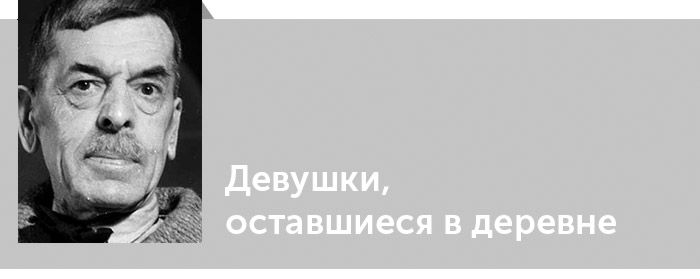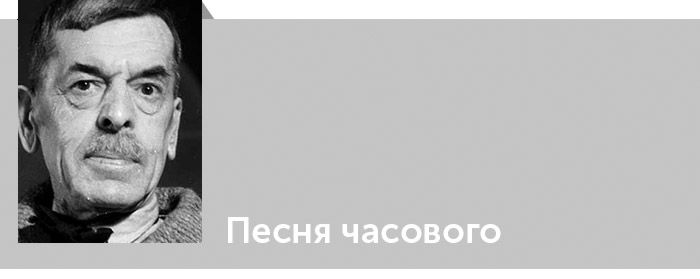Нарратив безумия в романе Шарля-Фердинанда Рамю «Великий страх в горах»
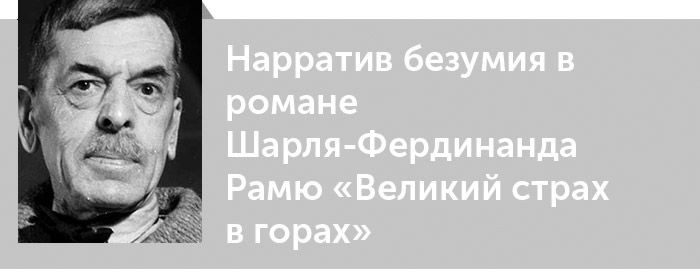
Н.А. Бакши (Москва)
Аннотация. В статье предпринимается попытка описать нарратив безумия в романе известного франкоязычного швейцарского писателя начала ХХ в. Шарля-Фердинанда Рамю. Безумие в романе Рамю выступает не как психическое заболевание, а как иррациональная сторона жизни, не поддающаяся определению. В этом он является последователем своего знаменитого соотечественника К.Г. Юнга, незадолго до того выпустившего работу «Архетип и символ» о «коллективном бессознательном». Новизна подхода заключается в сопоставлении поэтики Рамю с учением Юнга и выявлении особенностей нарратива в романе швейцарского писателя. В результате проведенного исследования автор приходит к следующим выводам: деформирующая точка зрения и ускользающий нарратор являются основными особенностями нарратива безумия как одного из типов дискурса эпохи модерна.
Ключевые слова: Шарль-Фердинанд Рамю; нарратив безумия; деформация; коллективное бессознательное.
N. Bakshi (Moscow)
Narrative of Madness in the Novel by Charles Ferdinand Ramuz “Terror on the Mountain” (“La Grande Peur dans la Montagne”)
Abstract. The paper examines the narative of madness in the novel by the famous Swiss francophone writer of the 20th century Charles-Ferdinand Ramuz. In his novel the madness is not a mental illness, but the irrational part of life that cannot be defined. Charles-Ferdinand Ramuz is therein the follower of his famous countryman Karl Gustav Jung, who shortly before had published his work “Archetypes and Symbols” on “Collective Unconscious”. The novelty of the undertaken approach consists of contrasting Ramuz’s poetics with Jung’s theory, as well as determining the peculiarities of narration in the Swiss writer’s novel. As a result of the conducted research, the author comes to the following conclusion: the deforming perspective and the fluctuated narrator are the main features of the narrative of madness as a type of the modern era discourse.
Key words: Charles Ferdinand Ramuz; narrative of madness; deformation; Collective Unconscious.
Роман франкоязычного швейцарского писателя Шарля-Фердинанда Рамю «Великий страх в горах» вышел в 1926 г. В нем описывается природная катастрофа, произошедшая в деревне кантона Вале, когда деревня оказалась погребена под сошедшим ледником. Это явление приобретает у Рамю размах античной трагедии, где личная вина и рок оказываются неразрывно связаны. Роман начинается с того, что Староста деревни, несмотря на протесты стариков, решает отправить на выгон коров вместе с шестью пастухами на горное пастбище, где 20 лет назад произошла катастрофа и которое с тех пор суеверно обходили стороной. Однако вскоре одно за другим начинают происходить необъяснимые события: непонятной болезнью заболевает мальчик, отправившийся в горы вместе с пастухами, у одного из жителей, приносившего на пастбище еду из деревни, сначала падает в ущелье и разбивается мул, затем ему неудачным выстрелом отрывает пальцы и у него начинает гноиться рука. На коров на пастбище нападает непонятная зараза, которая не поддается лечению и медленно косит все стадо. Невеста одного из пастухов решает тайно его навестить в горах, но по дороге разбивается, упав с обрыва. И последней ступенью несчастий оказывается ледник, который обламывается и погребает под собой всю деревню.
«Великий страх в горах» – один из серии так называемых «горных романов» Рамю, написанных в стиле эпохи модерна. Приблизительно в это же время «горный роман» о времени и безвременье «Волшебная гора» создает великий немецкий современник Рамю Томас Манн.
Лозаннский исследователь немецкоязычной швейцарской литературы Петер Утц пишет в своей книге «Культивирование катастрофы. Литературно-эсхатологические сценарии из Швейцарии» («Kultivierung der Katastrophe. Literarische Untergangsszenarien aus der Schweiz», 2013) о том, что спецификой швейцарской литературы является эсхатологический взгляд на природные катастрофы, их вселенское значение. Такое видение присуще и классикам швейцарской литературы («Черный паук» Готфельфа), и писателям ХХ в., таким как Рамю и Дюрренматт. В данном случае нас интересует не только эсхатологический масштаб, который приобретает повествование у Рамю, но и связанный с ним нарратив безумия, делающий повествование еще более жутким.
Основополагающую роль в развитии отечественного научного интереса к феномену безумия сыграл сборник «Семиотика безумия»1, а также статья М.Н. Эпштейна «Методы безумия и безумие метода»2, труды В.П. Руднева3. Предметом исследования в работе В.П. Руднева «Характеры и расстройства личности. Патография и метапсихология»4 является психика, рассматриваемая в качестве особенностей текста. Руднев разделяет литературный процесс на стадии, каждая из которых определяется одним из двух типов душевного расстройства – паранойей или депрессией. При паранойе «мир предстает как повышенно знаковый, полный тайных смыслов», при депрессии, наоборот, «утрачивает знаковость и теряет какой бы то ни было смысл»5.
Исследование концепта безумия становится актуальным в переходные периоды и в периоды смены культурных парадигм. «Безумие в такие исторические “промежутки” символизирует смерть старого разума и рождение нового, но еще младенческого, незрелого, погруженного в хаос становления мира новых идей, форм, образов»6.
Безумие в романе Рамю выступает не как психическое заболевание, а как иррациональная сторона жизни, не поддающаяся определению и осмыслению. Именно в этом значении безумие накрывает шестерых в горах. Поначалу они ведут беседы в горной хижине. При этом выясняется, что один из них был 20 лет назад на этом месте и смог тогда спастись, поэтому он твердо верит в иррациональные силы и взял с собой амулет для защиты от них. Парадоксальным образом, он, единственный, кто верит в иррациональность происходящего на вершине, не сходит с ума. Все остальные только смеются над ним, считая его рассказы суеверием. Однако довольно быстро у обеих сторон иссякают слова. Их накрывает одиночество. Рамю сознательно отказывается от психологизации характеров, оставляя скрытыми происходящие в душе героев изменения и недосказанной причину одиночества. Благодаря отсутствию психологической обрисовки характеров одиночество оказывется чем-то возникающем не изнутри, а накрывающим героев извне, чему они не могут противиться. Не случайно Рамю так любил Вальзера, герои которого, по известному слову Вальтера Беньямина, родом из безумия7.
Особенностью нарратива безумия является «деформирующая точка зрения», с которой описываются самые обычные вещи. Т.е. деформации происходят «на уровне формы содержания и формы выражения» уже с самого начала повествования. Например, описание наступающего вечера превращается в описание безжалостного убийства: «что-то набросилось на [солнце], стало вгрызаться в него снизу… Этот рог вонзился в нижнюю часть солнечного диска, как клин, которым раскалывают деревянный чурбан. Солнце действительно разрубили пополам»8. Агрессивная метафора, развернутая на полстраницы, придает описанию наступающего вечера жуткий оттенок. Предпоследний день перед катастрофой весь окрашен давящим желтым цветом: «Он шел сквозь липкую желтоватую массу, разрывая ее руками, потому что только так он мог двигаться вперед, и эта масса клочьями висела у него на руках»9. Многочисленные повторы и гротескные уподобления также усугубляют ощущение первозданного ужаса.
Если обратиться к самому нарратору, ведущему повествование, то очевидно, что повествование постоянно меняет перспективу: иногда это аукториальное повествование, однако довольно часто оно ведется от некоего «мы», за которым скрываются жители деревни. Но и «мы» зачастую меняет свою перспективу: иногда это «мы» жителей, непосредственно наблюдающих за происходящим, отшатывающихся от обезумевшего от горя по погибшей невесте пастуха, разбегающихся от коров, бегущих с пастбища. Порой это «мы», находящееся где-то далеко над происходящим и обозревающее деревню и ее жителей с высоты птичьего полета. Нарратор то оказывается на стороне суеверного старика, то принимает сторону Старосты. Поначалу он поднимается в гору вместе с жителями деревни, но неожиданно оказывается уже на горе и смотрит, как те медленно приближаются. В конце выясняется, что все жители деревни погибли под спустившимся ледником, но «мы» продолжает при этом вести повествование. Таким образом, перед нами все время ускользающий нарратор.
Многократно в качестве причины катастрофы 20 лет назад упоминается Он, однако Он ни разу не конкретизируется. И если поначалу кажется, что речь идет о дьяволе, то довольно быстро становится понятно, что Он вне христианской символики и связан с горами. Ему не противостоит Бог. Более того, постепенно выясняется, что вообще нет того, что могло бы ему противостоять. Он – неуловим, не называется по имени, не имеет лица, никогда себя не показывает. Перед самой смертью Его видит жених погибшей девушки Жозеф, но и это видение тут же релятивируется точкой зрения Бартелеми, старика с амулетом, который видит Жозефа, но не видит Его. Фигура неназываемого тем страшней, чем менее она лишена каких-то конкретных очертаний и христианских коннотаций.
Тема вины продолжает традицию классиков швейцарской литературы и в частности Готхельфа с его «Черным пауком», но только без его христианства. Не случайно представители церковного обновления renouveau catholique считали Рамю своим автором и не понимали, как он может быть неверующим, но Рамю до конца оставался при своем отстраненном взгляде на религию. Если у Готхельфа речь идет о вине перед Богом, то здесь скорее вина перед природой, которая «не допускает в определенные места, оставляя их только для себя». «Это ваша вина!» – кричат вслед Старосте. Причем вина эта неизбывна, и как бы ни поступил Староста, единожды совершив неверный поступок, он не сможет его ничем искупить. Вина превращается в античный рок, охватывающий вместе с ним и всю деревню. Рамю был представителем консервативного модерна и не верил в прогресс, по его собственным словам издателю Грассе10. Жажда наживы и легких денег, как в случае с ищущим клад Клу, – показатель кризиса и дьявольского начала.
Главным атрибутом безумия становится деформация, происходящая на совершенно разных уровнях. Классический атрибут безумия, смех, также присутствует у Рамю и тоже переживает свою деформацию. Поначалу Староста смеется над суеверными стариками, не желающими отправлять стадо в проклятое место. Весело смеется и взявшийся за это «хозяин» пастбища. А затем начинает смеяться еще один из шестерых, одноглазый подозрительный Клу, который все время ищет сокровища и которому никто не доверяет. Постепенно веселый смех неверующих заменяет злорадный смех Клу. И в конце в предсмертном видении Жозефа Клу превращается в дьявола, а его смех – в дьявольскую насмешку.
Деформация происходит и на уровне цветов. Поначалу это пастельные тона, серый и розовый. Правда, о розовом говорится, что это «обманчиворозовый», потому что это цвет цветов, которых, как и прочей жизни, в горах нет. В описании праздничного шествия в горы намеренно отсутствуют всякие краски, лишь многократно упоминается хорошая погода и яркое солнце. И только к концу первого дня, когда жители деревни оставляют семерых одних в горах, цвета начинают меняться: розовый ледник вдруг становится тусклым и пугающе зеленоватым. Со второго дня ландшафт начинает приобретать тревожные краски: сначала от закатившегося солнца остаются «большие темно-красные головешки», в ущелье течет зеленая «мертвая вода», «словно варево в закипающем котелке»11, в своих видениях Жозеф видит красный склон и красную хвою. И, наконец, в последний день все было залито зловещим желтым светом, а ледник светится синим и зеленым светом.
Речь и ее отсутствие также переживает деформацию: молчат, объединенные одной идеей, Староста и Креттен, хозяин пастбища. Молчаливое согласие объединяет Жозефа и его невесту Викторин, когда долгими вечерами они сидят у забора и смотрят на заходящее солнце. Но постепенно объединяющее молчание превращается в молчание разъединяющее. Так, перестает говорить старик Матью, выступающий против выгона коров наверху. Он молчит, тем самым отделяя себя от окружающих. И наконец, молчание как проклятие накрывает «хозяина» и его племянника, молчание безграничного одиночества, которое уже не победить словами. В этом молчании продолжающий говорить, т.е. разбрасываться враждебными, бессмысленными словами Клу выглядит крайне враждебно.
Деформируется природа: прекрасная погода превращается в удушающую, апокалиптическую жару последнего дня мира, почти что в адово пекло, заливаемое затем безудержными потоками воды сошедшего ледника. Апокалиптические отсылки появляются в тексте и напрямую, когда падеж скота жители деревни воспринимают как 5-ю казнь Египетскую, описанную в Пятикнижии Моисеевом, и со страхом смотрят, не окрасилась ли вода реки в красный цвет, что было бы первой казнью и началом бедствий. К книге Бытия и к началу творения отсылает нарочитые повторы: «Была очень хорошая погода, было солнце, и было три мула»12. О ночной тишине в горах говорится следующее: «…все вокруг было так, как в начале мира, прежде еще, чем появились люди; или так, как будет в конце мира, когда людей уберут с лица земли…»13. Через весь роман проходит образ камня. Сначала в ущелье сыплются потревоженные людьми камни, камни падают с ледника, камень связан с первобытной природой до появления людей. Первой жертвой гор становится мул, на которого падает камень и убивает его. Странное, тревожное видение посещает Жозефа. Он видит внутренним взором все, что происходит в деревне, и вдруг «перед ним предстала странная картина: как будто перед деревенской скамейкой возник большой камень, и скамейка исчезла»14. Ледник предстает перед Жозефом водопадом, превратившимся в камень. Клу становится человеком цвета камня. Наконец, оживший камень-ледник превращается в водопад, сметающий деревню и убивающий в ней все живое.
Незадолго до выхода в свет романа Рамю Юнг пишет свой знаменитый трактат о коллективном бессознательном, где вводит понятие архетипа. Вряд ли Рамю мог не учитывать открытие своего соотечественника. Романная ситуация изменяется, если рассматривать ее с точки зрения коллективного бессознательного. Тогда гора Саснейр оказывается не просто «пространством над жизнью», но пространством бессознательного, где человек теряет привычные ориентиры. «С ростом научного понимания наш мир все более дегуманизируется. Человек чувствует себя изолированным в космосе, потому что теперь он отделен от природы, не включен в нее органически, и утратил свою эмоциональную “бессознательную идентичность с природными явлениями. Постепенно они теряют свою символическую причастность”, – пишет Юнг в статье «Роль символов»15. Именно это происходит со Старостой и его единомышленниками, не желающими верить суевериям и откровенно смеющимся над ними. По Юнгу, есть два типа мышления – логическое и интуитивное. Если первое протекает в логических суждениях и умозаключениях, то второе – поток образов, уходящих из сферы сознательной в мир воображения. Именно как поток образов, нелогичных и нагнетающих обстановку, строится описание природы наверху. Большое количество многоточий вместо описания произошедших 20 лет назад загадочных событий свидетельствует о невозможности логического структурированного высказания о них. Юнг говорит о «вторжениях» коллективного бессознательного, приводящих к массовым катастрофам и войнам. Именно там, на горе, происходит раскрытие в себе «Другого», делающего человека не тождественным самому себе и доводящего его до безумия. При этом интересно также, что человек Рамю подобно современному человеку Юнга оказывается не гармонично вписанным в природу, не частью ее, онтологически заданной, а существом, противоречащим природе, ей органически чуждым, что делают уже саму исходную ситуацию безумной. Происходит «демонизация мира», о которой писал Юнг. Старик Бартелеми пытается противостоять ей, но не живой верой, а суеверием. Он носит на груди записку, три раза окунутую в святую воду в день святого Маврикия. «Коллективное бессознательное», по Юнгу, присуще целому клану, оно передается по наследству. Как пишет Юнг в работе «Архетип и символ», в чистом виде архетип не входит в сознание, он всегда соединяется с какими-то представлениями опыта и подвергается сознательной обработке. Ближе всего к самому архетипу эти образы сознания («архетипические образы») стоят в опыте сновидений, галлюцинаций или мистических видений, когда сознательная обработка минимальна. Это спутанные, темные образы, воспринимаемые, с одной стороны, как что-то жуткое, чуждое, но, с другой стороны, переживаемые как нечто бесконечно превосходящее человека, божественное. Именно такое видение настигает в конце Жозефа, когда отталкивающий образ Клу начинает на его глазах расти и превращаться в нечто огромное и зловещее, воплощающее собой весь ужас иррационального.
Таким образом, Рамю, основываясь на достижениях психоанализа и глубинной психологии, создает особый вид нарратива безумия как один из типов дискурса эпохи модерна. Продолжая тенденцию, выработанную еще в эпоху романтизма, Рамю обращается с помощью этого нарратива к праосновам бытия.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-24-49006.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Семиотика безумия / под ред. Н. Букс. М., 2005.
2 Эпштейн М. Методы безумия и безумие метода // Эпштейн М. Знак пробела: о будущем гуманитарных наук. М., 2004. С. 512–540.
3 Руднев В. Энциклопедический словарь безумия. М., 2005; Руднев В. Философия языка и семиотика безумия. М., 2006.
4 Руднев В. Характеры и расстройства личности. Патография и метапсихология. М., 2002.
5 Руднев В. Характеры и расстройства личности. Патография и метапсихология. М., 2002. С. 6.
6 Козлова С., Зимина М. Историческая динамика дискурса безумия в комедии
7 Benjamin W. Robert Walser // Benjamin W. Illuminationen. Ausgewählte Schriften 1. Frankfurt am Main, 1977. S. 325.
8 Рамю Ш.Ф. Великий страх в горах. М., 2014. С. 38.
9 Рамю Ш.Ф. Великий страх в горах. М., 2014. С. 141.
10 Ramuz Ch.F. Die Grosse Angst in den Bergen / Hg. P. von Matt, Nachwort B. von Matt. Zürich, 2009. S. 185.
11 Рамю Ш.Ф. Великий страх в горах. М., 2014. С. 54.
12 Рамю Ш.Ф. Великий страх в горах. М., 2014. С. 31.
13 Рамю Ш.Ф. Великий страх в горах. М., 2014. С. 40–41.
14 Рамю Ш.Ф. Великий страх в горах. М., 2014. С. 60.
15 Юнг К.Г. Роль символов // Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. С. 86.
References (Articles from Scientific Journals)
1. Kozlova S., Zimina M. Istoricheskaya dinamika diskursa bezumiya v komedii A.S. Griboedova “Gore ot uma” [The Historical Dynamics of the Madness Discourse in the Comedy “Wit Works Woe” by A.S. Griboyedov]. Sibirskiy filologicheskiy zhurnal, 2009, no. 3, p. 33. (In Russian).
(Articles from Proceedings and Collections of Research Papers)
2. Epshteyn M. Metody bezumiya i bezumiye metoda [The Methods of Madness and the Madness of Method]. Znak probela: o budushchem gumanitarnykh nauk [The Sign of Space: On the Future of Human Sciences]. Moscow, 2004, pp. 512–540. (In Russian).
3. Benjamin W. Robert Walser. Benjamin W. Illuminationen. Ausgewählte Schriften 1. Frankfurt am Main. 1977, p. 325. (In German).
4. Jung C.G. Rol’ simvolov [The Role of Symbols]. Jung C.G. Arkhetip i simvol [The Archetype and the Symbol]. Мoscow, 1991, p. 86. (Translated from German to Russian).
(Monographs)
5. Buhks N. (ed.). Semiotika bezumiya [The Semiotics of Madness]. Мoscow, 2005. (In Russian).
6. Rudnev V. Entsyklopedicheskiy slovar’ bezumiya [The Encyclopedic Dictionary of Madness]. Мoscow, 2005. (In Russian).
7. Rudnev V. Filosofiya yazyka i semiotika bezumiya [The Philosophy of Language and Semiotics of Madness]. Moscow, 2006. (In Russian).
8. Rudnev V. Kharaktery i rasstroystva lichnosti. Patografiya i metapsikhologiya [Personalities and Personality Disorders. Pathography and Metapsychology]. Мoscow, 2002. (In Russian).
9. Rudnev V. Kharaktery i rasstroystva lichnosti. Patografiya i metapsikhologiya [Personalities and Personality Disorders. Pathography and Metapsychology]. Мoscow, 2002, p. 6. (In Russian).
Наталия Александровна Бакши – доктор филологических наук, лиценсиат теологии, доцент, заместитель заведующего кафедрой германской филологии Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета, директор Российско-Швейцарского учебно-научного центра, член президиума Российского союза германистов.
Область научных интересов: немецкоязычная литература XIX–XXI вв., религиозная тематика в литературе, культурный трасфер, русско-немецкие связи.
E-mail: nataliabakshi@mail.ru
Natalia Bakshi – Doctor of Philology, licentiate of Theology, Associate Professor, Deputy Head of the Department of German Philology, Institute for Philology and History, Russian State University for the Humanities, Director of the Russian-Swiss Academic Centre, member of the Presidium of Russian Association of Germanists.
Research area: the 19th – 21st centuries literature in German, religious themes in literature, cultural transfer, cultural relations between Russia and Germany.