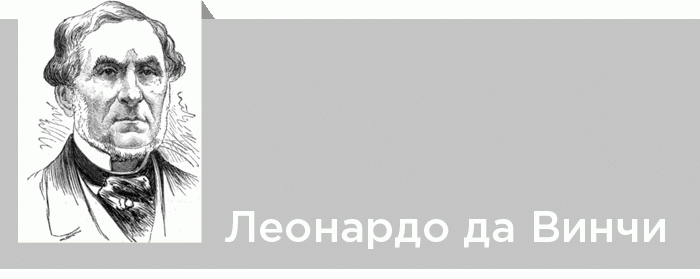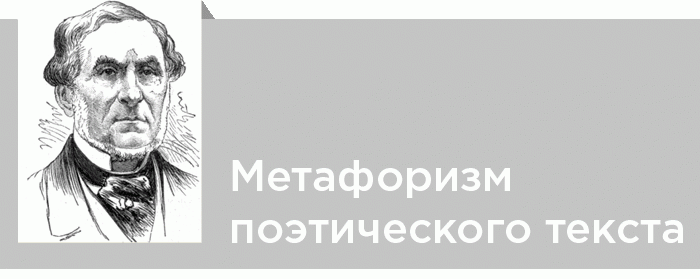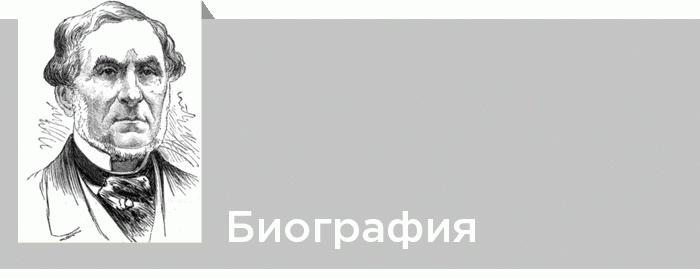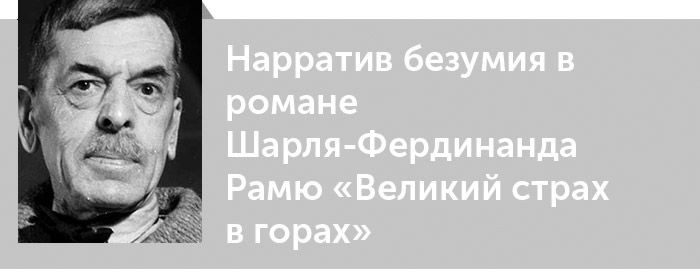Огюст Барбье и русская поэзия 1830-1840-х годов
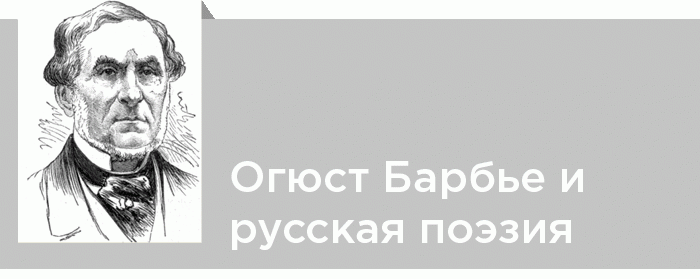
Е. И. Зисельман
Гражданская поэзия Огюста Барбье (1805-1882), в которой воплотились гнев и отчаяние французского народа, ограбленного буржуазией после Июльской революции, сегодня почти забыта на родине поэта, а в русскую поэзию входит лишь как памятник культуры.
Но в России прошлого века О. Барбье был одним из самых популярных поэтов. Интерес передовой русской общественности к революционным событиям во Франции и к литературе, ими рожденной, способствовал проникновению сборников Барбье в Россию, несмотря на цензурные запреты.
Гражданственность и обличительный характер первых сатир О. Барбье, трагический, мрачный тон его лирики (сборники: «Ямбы», 1831, «Il pianto», 1833, «Лазарь», 1837) отвечали настроениям лучших людей России последекабристского периода. Вот почему гражданская лирика Барбье была созвучна русской романтической поэзии 1830-1840-х годов.
Сохранился сделанный еще в 1830 году Н. Второвым прозаический русский перевод центральной поэмы из «Ямбов» О. Барбье «Раздел добычи». Это значит, что первую поэму Барбье в России знали уже в год ее создания. Царская цензура запретила провоз в Россию брюссельского издания «Ямбов» (1832). Цензор Л. Роде в отзыве об этой книге назвал О. Барбье «поэтом революции», который «в стихах своих критикует и бичует сатирой, полною желчи, чуть ли не крови, свое время, своих соотечественников». Говоря об этих цензурных гонениях, М. П. Алексеев указывает: «Нужно еще иметь в виду, что в сборнике Барбье была мрачная поэма, направленная против Николая I и его политики в польском вопросе... Но уже к концу 30-х годов стихотворения Барбье не только читаются, но и вызывают подражания». В библиотеке Пушкина было два сборника стихов Барбье. Е. А. Баратынский в 1832 году, сразу после выхода «Ямбов» О. Барбье, писал И. В. Киреевскому: «Для создания новой поэзии именно недоставало новых сердечных убеждений, просвещенного фанатизма: это, как я вижу, явилось в Барбье». Вскоре после выхода первого сборника «Ямбов» Барбье и его запрещения царской цензурой в России появляется первый стихотворный перевод одного из малоизвестных ямбов французского сатирика, хотя, разумеется, без упоминания имени автора оригинала. Перевод принадлежал поэту кружка Дельвига — В. Н. Щастному. В 1820-е годы Щастный получил признание, главным образом, как переводчик А. Мицкевича. Исследователь его творчества заметил, что в своих оригинальных произведениях Щастный, отправляясь от элегической традиции, деформирует ее, иной раз позволяет себе вводить в традиционную элегию бытовые, «антипоэтические» картины, что, в частности, проявилось в стихотворении «Хандра» (1832). Тот же исследователь утверждает, что стихи В. Щастного «могут служить своеобразным индикатором интересов пушкинского круга», что «Хандра» напоминает тогда еще не опубликованные пушкинские стихи «Румяный критик мой, насмешник толстопузый». Эти суждения несомненно справедливы, с одной только оговоркой. Стихотворение «Хандра» — не оригинальное произведение Щастного, а перевод «IX ямба» Барбье. Обращение Щастного к творчеству французского поэта представляется нам не случайным. И в оригинальных его стихах мы встречаем ораторские интонации, аналогичные интонациям' Барбье («Кто приподнял нескромною рукой...», 1828), и объекты изображения, к которым позднее обратился французский сатирик (ср. «Безумный» Щастного, 1827, и «Бедлам» Барбье, 1837). Для Щастного характерны типичные у Барбье контрастные афористические концовки.
Так иногда во храме божества
Мысль грешная нам в голову приходит...
(«Ревность», 1829)
«Антипоэтические» картины в стихотворении «Хандра» — это первая в России попытка воспроизвести экспрессивно-стилистические контрасты Барбье, что соответствовало творческим исканиям русской поэзии 30-х годов и, в частности, пушкинским открытиям.
У русских литераторов 1830-х годов можно найти идейно-тематические аналогии творчеству Барбье, в особенности его «Ямбам» и написанной в 1833 году поэме итальянского цикла «Киайя». В этом смысле характерны обличительные строки стихов участника герценовского кружка H. М. Сатина:
Поверь, мой друг, мечты свободной
Наш не оценит век холодный...
(«Поэт», 1835)
Внимали мнё... но глас мой, умирая,
а их душе следов не оставлял!
В холодные объятья преступленья
Их эгоизм надолго заковал...
Их мир был гробом для поэта
И для огня душевных сил!
(«Раскаяние поэта», 1835)
Поэтическое кредо Трилунного (Д. Ю. Струйского) перекликается с программными стихами Барбье не только идейно, но и стилистически (ср. «награду низкую» с оксюморонами Барбье), и даже ритмически:
Мне ль, раболепствуя пред знатными, молчать
И лестью подлости докучной
У них выманивать назло моей звезды
Награду низкую — за низкие труды?
(«Картина», 1830)
Для русских поэтов-романтиков последекабристского периода характерен интерес к личности итальянского живописца Сальватора Розы, героя поэмы Барбье «Киайя» (С. Е. Раич — «Жалобы Сальватора Розы», 1831; Д. П. Ознобишин — «Сальватор Роза», 1833). У Раича Сальватор Роза говорит:
Я родился на свет, чтоб терзаться, страдать,
И трудиться весь век, и награды не ждать...
Ср. его жалобы в поэме Барбье:
А мы, увы! жильцы земли печальной,
Осуждены в безмолвии страдать...
(перевод С. Ф. Дурова)
Не случайно именно поэма «Киайя» оказалась одним из самых популярных произведений Барбье в России 1840-х годов.
В 1829 году юный М. Ю. Лермонтов написал стихотворение «Монолог», не публиковавшееся при жизни поэта и, очевидно, не ставшее фактом русской поэзии тех лет. Знакомство с этим стихотворением Лермонтова за рубежом в те годы, разумеется, исключено. Тем удивительнее констатировать несомненную близость «Монолога» с поэмой Барбье «Киайя» (1833).
Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
Мы, дети севера, как здешние растенья,
Цветем недолго, быстро увядаем...
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
Ее однообразное теченье...
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует...
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит.
Слова Сальватора Розы из поэмы Барбье «Киайя» кажутся эхом, продолжением, развитием юношеских стихов Лермонтова:
Tu ne peux concevoir quelle est ma passion,
La mortelle souffrance et le désespoir sombre
D’être enfant du soleil et de vivre dans l’ombre,
Et le glaive que Dieu nous remit dans la main
Se rouille en attendant toujours au lendemain.
Faute de nourriture, on voit mourir sa flamme;
Chaque jour on s’en va, le corps mangé par l’âme,
Et le mâle talent, solitaire et perdu,
Moisit comme un habit dans le coffre étendu;
Le génie a besoin de liberté pour vivre,
Il faut un large verre à l’homme qui s’enivre.
(Ты не можешь себе представить, какова моя страсть — смертельная мука и мрачное отчаяние от того, что, дитя солнца, я живу во мраке... И меч, врученный нам богом, ржавеет в нескончаемом ожидании завтрашнего дня. Мы видим, как, лишенное пищи, угасает наше пламя; с каждым днем слабеем; душа поглощает тело, и мужественный талант, одинокий и потерянный, плесневеет, словно одежда, уложенная в сундук. Гению нужна свобода, чтобы жить, человеку, что предается пьянству, нужен большой кубок).
Приведем несколько строк «Киайи» (частично соответствующих цитированным строкам оригинала) в переводе поэта-петрашевца С. Ф. Дурова (1845).
От горести я вяну, потому
Что край родной мне сделался противен;
Мы чувствуем, что в нас, от недостатка
Возвышенной и благородной пищи,
С дня на день огнь душевный тратит силу,
Что тело в нас живет на счет души,
И гений наш, затерянный в пустыне,
Гниет как кладь в закрытом сундуке.
Для гения, мой друг, нужна свобода,
Как пьянице бокал широкодонный.
Близость перевода Дурова юношескому стихотворению Лермонтова, проявившаяся, в частности, и в размере стиха (пятистопный белый ямб), тем поразительнее, что в 1845 году «Монолог», опубликованный только в 1859 году, еще не был известен. Эта близость возникла, видимо, в результате того, что переводчик опирался на поэтическую систему Лермонтова в целом. При этом он мог даже использовать прямые цитаты из известных ему произведений Лермонтова, не противоречащие стилю французского сатирика:
И в челноке плывешь в открытом море,
Смывая гной душевных ран своих...
Ср. у Лермонтова:
И гной душевных ран надменно выставлять
(«Не верь себе»)
Вслед за Дуровым к интонациям Лермонтова и характерным для него образно-стилистическим средствам обращался в переводах из О. Барбье поэт-искровец Д. Д. Минаев. Например:
Что пред кумирами людей всегда я шел
Не гнув своей спины...
(«Пролог» Барбье, пер. Д. Д. Минаева, вариант 1877 года)
Ср. у Лермонтова:
Но перед идолами света
Не гну колени я мои...
(«Договор», 1841)
И в наше время поэзия Лермонтова послужила интонационным камертоном для переводов П. Г. Антокольского из О. Барбье. Думается, что все это представляет еще один аспект проблемы «Лермонтов и Барбье».
Казавшиеся исследователям прошлого века несомненными, следы влияния поэм Барбье «Мельпомена» и «Le Campo Vaccino» на «Думу» и другие стихотворения Лермонтова 10 при более внимательном рассмотрении оказываются лишь совпадениями отдельных слов и образов вследствие одинаковости жанра и темы, благодаря аналогии самих фактов исторической действительности, на которые откликаются оба поэта. Как справедливо замечает советский исследователь, «речь может идти здесь... не о генетической связи, а о некотором — скорее отдаленном — типологическом родстве».
О том, что зрелый Лермонтов хорошо знал «Ямбы» О. Барбье, свидетельствует не только эпиграф к стихотворению «Не верь себе» (1839). Само это стихотворение написано стихом, воспроизводящим строфическую и ритмическую структуру ямба:
Не верь, не верь себе, мечтатель молодой,
Как язвы бойся вдохновенья...
Оно — тяжелый бред души твоей больной,
Иль пленной мысли раздраженье.
По поводу мнения П. А. Висковатова о следах влияния Барбье в стихотворении Лермонтова «Поэт» (1838) М. П. Алексеев писал: «Дело, очевидно, в сходстве общего тона, скорее ораторского, чем лирического, как это определяет Дюшен, быть может, — и в ритме. Не следует упускать из виду аналогии идей и близости в выражениях: можно привести ряд параллельных мест, дополняющих известные сопоставления „Думы" со строфами „Сатро Vaccine"». М. П. Алексеев ссылается на воспоминания А. П. Шан-Гирея о том, что Лермонтову «Ямбы» Барбье же нравились, что во всей книжке он хвалил один лишь отрывок — описание моря из поэмы «Известность». Именно с этим отрывком М. П. Алексеев предлагает сравнить стихи лермонтовского «Демона» 1833-1834 годов (вариант авторизованного списка):
О море, море! как прекрасны
В блестящий день и в день ненастный
Его и рев и тишина!
Покрыта белыми кудрями,
Как серебром и жемчугами
Несется гордая волна,
Толпою слуг окружена;
И как царица молодая
Течет одна между рабов,
Их скромных просьб, их нежных слов
Не слушая, не понимая.
Вот сопоставимые с лермонтовскими строки из поэмы Барбье «Известность»:
C’est la mer! c’est la mer! — d’abord calme et sereine,
La mer aux premiers feux du jour,
Chantant et souriant comme une jeune reine,
La mer blonde et pleine d’amour...
(Это — море! это — море! — Вначале спокойное и безмятежное, море в первых проблесках рассвета, поющее и улыбающееся, как молодая царица, белокурое море, полное любви...)
В связи с этим сопоставлением М. П. Алексеев задается вопросом, не знал ли Лермонтов сборник Барбье еще до 1838-1839 годов».14 Конечно, отсутствие в поэме Лермонтова «Моряк» (1832) метафоры «море — белокурая царица»:
Покрывшись пеною рядами,
Как серебром и жемчугами,
Несется гордая волна,
Толпою слуг окружена;
Так точно дева молодая,
Идет, гордясь, между рабов,
Их скромных просьб, их нежных слов
Не слушая, не понимая!
и появление этой метафоры в приведенных выше стихах ранней редакции «Демона» 1833-1834 годов может быть следствием чтения упомянутой поэмы Барбье. М. П. Алексеев напоминает, что, по свидетельству А. А. Краевского, Лермонтов сильно увлекался Барбье, и подчеркивает роль этого увлечения в формировании гражданской лирики Лермонтова: «Традиция общественности, поднявшаяся у Лермонтова... под влиянием чтения Барбье могла окрепнуть еще более. Лермонтов, в своей „Жалобе турка" громивший николаевскую Русь, приветствовавший начало польского восстания, Июльскую революцию и новгородский мятеж 1830 года, в сборнике Барбье мог найти мотивы, созвучные его интересам: они могли запомниться ему так же, как запомнились некоторые моменты байроновского свободомыслия».
В отечественном литературоведении подчеркивается не столько прямое влияние Барбье на творчество Лермонтова, сколько историко-типологическая, жанрово-стилистическая связь, соприкосновение гражданской лирики Лермонтова с поэзией Барбье. Так, Л. В. Пумпянский считает, что декламационный, ораторский («железный») стих Лермонтова связан с поэзией французского романтизма, в частности с В. Гюго и О. Барбье. Интерес Лермонтова к поэзии Барбье, по мнению исследователя, объясняется тем, что Барбье «первый показал возможность стиха прямой агрессии, вплоть до оскорбительности, до бранных слов». Предлагая перенести на год вперед время возможного знакомства Лермонтова с поэзией Барбье, исследователь замечает, что вторая часть стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» (1837) стилистически отличается от первой как раз появлением главных особенностей стиля Барбье. «Если заметить еще, что кончается эта часть „французской" антитезой («черной кровью — праведную кровь»), обостренной вдобавок точным воспроизведением общеизвестной строфической приметы „Ямбов" Барбье — сочетания двенадцатисложного стиха с восьмисложным (у нас шестистопного ямба с четырехстопным), то связь этой второй части со стилем Барбье покажется несомненной». Л. В. Пумпянский предлагал также сопоставить типичные для лермонтовского «железного» стиха антитезы («...великому народу: ты жалкий и пустой народ!») с антитезами Барбье и Гюго.
О жанровой связи между поэзией Лермонтова и Барбье писал Б. М. Эйхенбаум, подчеркивая, что «Смерть поэта» была явлением, совершенно новым в русской поэзия, не только как открытое политическое выступление, но и потому, что здесь традиционный жанр элегии («Зачем от мирных нег и дружбы простодушной...»), к которому можно отнести первую половину стихотворения, вступил в своеобразное сочетание с жанром политической сатиры, не боящейся самого сильного выражения гражданского негодования («Известной подлостью прославленных отцов...»). Б. М. Эйхенбаум считал, что лермонтовские стихотворения 1838-1840 годов представляют собой дальнейшее развитие и укрепление этого нового жанра гражданской лирики, опирающейся уже не на тему личной судьбы, а на чувство реальной исторической действительности и на ее моральную оценку. «На этом пути Лермонтову пригодились и такие поэты „юной" Франции, как Гюго и Барбье».
Интонационно-синтаксическую близость поэзии Лермонтова и Барбье отмечает и один из советских создателей русского Барбье П. Г. Антокольский: «В оригинальных стихах поэт может быть заворожен стихией чужого языка и синтаксиса. Пример этого...: Лермонтов и его „Последнее новоселье". Первые две строфы суть сплошной поток сильно разветвленной синтаксически фразы. Это взволнованное патетическое красноречие как раз в духе Барбье». По-видимому, связь стихотворения Лермонтова «Последнее новоселье» (1841) с «Ямбами» Барбье подобна связи между «Ямбами» Барбье и «Ямбами» А. Шенье: идейная направленность противоположна (Барбье развенчивал Наполеона), а интонационно-ритмическая, строфическая структура, синтаксис, целые обороты и образы очень сходны. У Лермонтова мы видим подобные Барбье ораторские периоды и нагнетения, оксюморонные сочетания слов и антитезы, да и метафоры, порой близкие к метафорам Барбье.
О соприкосновении творчества Лермонтова с поэзией Барбье говорит А. В. Федоров, подробно сопоставляя лермонтовское «Не верь себе» и «Пролог» к «Ямбам» Барбье. Констатируя значительное различие между этими произведениями, исследователь все же допускает возможность известных параллелей между поэзией позднего Лермонтова и гражданской лирикой Барбье: «Отрицательно-критический взгляд Лермонтова на современную ему русскую действительность, протест против нее. сочетание пафоса с большей, чем раньше, простотой словесных средств — все это является некоторым соответствием излюбленному жанру Барбье, его гражданской, обличительной лирике... его общественному негодованию, его патетической грубости и порою — сниженности его стиля». Вслед за М. П. Алексеевым А. В. Федоров полагает, что Барбье привлекал Лермонтова как представитель литературы, связанной с важным моментом в политической жизни Франции, да и всей Европы, — с Июльской революцией 1830 года.
Глубокую внутреннюю связь поэзии Лермонтова и Барбье отмечает И. Г. Неупокоева, объясняя ее историко-социальными аналогиями, вследствие которых происходит все большая синхронизация типологически сходных процессов в национальных литературах. Подчеркивая активный творческий интерес Лермонтова к поэзии Барбье, И. Г. Неупокоева видит в единственном примере открытого обращения к ней русского поэта (эпиграф из Барбье к стихотворению «Не верь себе») не столько сходство, сколько различие форм выражения общего для обоих поэтов неприятия современного им общества. Но точки соприкосновения поэзии Лермонтова и Барбье несомненно существуют.
Идейно и интонационно созвучны программным стихотворениям Барбье «Пролог» и «Вступление» к «Ямбам» слова Писателя из стихотворения Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840):
Судья безвестный и случайный,
Не дорожа чужою тайной,
Приличьем скрашенный порок
Я смело предаю позору,
Неумолим я и жесток...
Но тот же «Пролог» Барбье (1832) перекликается и с более ранними стихами Лермонтова, например «К***» (1830-1831):
О, полно извинять разврат!
Ужель злодеям щит порфира?
Пусть их глупцы боготворят,
Пусть им звучит другая лира;
Но ты остановись, певец,
Златой венец не твой венец.
Во многих стихотворениях Лермонтова и его поэмах можно обнаружить перекличку с известными сатирическими строками Барбье из 3-й главы поэмы «Известность» и поэмы «Мельпомена». В гражданской лирике позднего Лермонтова такая перекличка идей сопровождается порой характерной строфической структурой ямба:
Но скучен нам простой и гордый твой язык, —
Нас тешат блестки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны...
(«Поэт», 1838)
Мелькают образы бездушные людей
Приличьем стянутые маски...
(«Как часто пестрою толпою окружен...», 1840)
Но аналогичную критику современного ему общества мы встречаем у Лермонтова и в ранних редакциях «Демона» (1833-1834)
И власть над бедною землей,
Где носит все печать презренья,
Где меж людей, с давнишних лет,
Ни настоящего мученья,
Ни счастья без обмана нет...
и в более поздних его редакциях (1838)
Без сожаленья, без участья
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты;
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти мелкой только жить;
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.
В творчестве раннего Лермонтова — то же неприятие общества, построенного на лжи и обмане:
Чтоб я не вспомнил этот свет,
Где носит все печать проклятья,
Где полны ядом все объятья,
Где счастья без обмана нет.
(«1831-го января», 1831)
И презирал он этот мир ничтожный,
Где жизнь — измен взаимных вечный ряд;
Где радость и печаль — все призрак ложный!
Где память о добре и зле — все яд!
(«Измаил-бей», ч. 3, гл. 10, 1832)
Очевидно, общность идей и настроений в поэзии Лермонтова и Барбье явилась основой сходства интонационно-синтаксических средств: обоим поэтам присущ декламационный стиль, для обоих характерны длинные синтаксические периоды с нагнетением анафорических параллелизмов. Есть у Лермонтова и Барбье излюбленные образы, связанные большей частью с мучениями и смертью. Это сходство можно объяснить лишь типологическим родством поэтов. Ср. у Барбье в поэме «Минотавр» из цикла «Лазарь» (1837):
О Mort! ah! quel que soit l’aspect de ta figure,
L’effet de tes yeux creux sur les pâles humains;
Quand sur nos corps usés tu poseras les mains,
Ton étreinte sera plus douce qu’on ne pense:
Car, au même moment où fuira l’existence,
Comme un sanglant troupeau de vautours destructeurs,
Nous verrons s’envoler les voraces douleurs
Et les mille fléaux dont les griffes impures
Faisaient tomber nos chairs en sales pourritures.
(О, Смерть! Как ни безобразен твой вид, как ни бледнеют люди, глядя в твои пустые глазницы, все равно твои объятья покажутся нам сладостнее, чем можно вообразить, ибо в тот самый миг, как мы перестанем существовать, словно кровавая стая прожорливых грифов, исчезнут грызущие нас муки и тысячи бед, чьи нечистые когти превращали нашу плоть в гнусную гниль).
У Лермонтова:
Видали ль вы, как хищные и злые,
К оставленному трупу в тихий дол
Слетаются наследники земные,
Могильный ворон, коршун и орел?
Так есть мгновенья, краткие мгновенья,
Когда, столпясь, все адские мученья
Слетаются на сердце — и грызут!
(«Измаил-бей», ч. 2, гл. 28)
Есть Ангел смерти; в грозный час
Последних мук и расставанья
Он крепко обнимает нас,
Но холодны его лобзанья,
И страшен вид его для глаз
Бессильной жертвы...
Но прежде людям эти встречи
Казались — сладостный удел.
Он взором утешать умел,
И бурные смирял он страсти...
(«Ангел смерти», 1831)
Думается, что историко-типологическое родство двух поэтов и вытекающая из него идейная, жанровая и образно-стилистическая близость явились важной предпосылкой усвоения поэзии Барбье русской литературой. Не будь у русской литературы Лермонтова, поэзия Барбье вряд ли смогла бы стать столь важным фактом русской поэзии 1840-1860-х годов.
По-видимому, возникновение той «струи барбьеризма», о которой писал М. П. Алексеев, в русской поэзии послелермонтовского периода объясняется не только близостью поэзии Барбье к стилистическим исканиям русских поэтов 1820-1830-х годов, не только близостью ее к общему тону и настроениям русской поэзии последекабристского периода, но и тем, что в России 1840-1860-х годов она воспринималась как продолжение поэзии Лермонтова. Гражданская лирика Лермонтова, в ее типологическом и жанрово-стилистическом соприкосновении с поэзией Барбье (независимо от того, связано ли это соприкосновение с собственными художественными открытиями Лермонтова или с творческим усвоением поэзии французского сатирика), подготовила восприятие Барбье в России, явилась «материальной» основой создания русского Барбье.
Тот факт, что первые стихотворные переводы из О. Барбье в России принадлежат поэтам пушкинской школы, не является, на наш взгляд, случайностью. Новаторство Пушкина в области литературного языка, в сближении русского поэтического языка с разговорным, в частности, например, отмеченные исследователями в его поэзии интимно-разговорные интонации, перебои разговорного и книжного синтаксиса, по своему экспрессивному эффекту в какой-то мере аналогичны языковой смелости О. Барбье. Но это лишь одна сторона проблемы. Как известно, поэтическое творчество Пушкина в целом не только предсказало развитие русской поэзии вперед на века, но и подготовило последующее усвоение русской литературой важнейших фактов национальных литератур всего мира. Поэты пушкинской школы тоже приняли посильное участие в этой подготовке. Как здесь уже говорилось, первым русским стихотворным переводом из Барбье, появившимся в печати, было стихотворение В. Н. Щастного «Хандра» (1832). Отсутствие имени автора оригинала при публикации перевода здесь можно объяснить и цензурным запретом, и особенностями эволюции понятия «перевод» в России, где в 1830-е годы стихотворные переводы еще воспринимались как произведения, принадлежащие в большей мере переводчику, нежели переводимому автору. Следующий по хронологии (1841) русский стихотворный перевод из Барбье принадлежит другому поэту, связанному в прошлом, как и Щастный, с кружком Дельвига, — А. И. Подолинскому. Это — еще один перевод «IX ямба» Барбье, опубликованный в «Литературной газете» с указанием автора и названия оригинала.
М. П. Алексеев отмечал, что для передового русского общества 1840-х годов «привлекательной и особенно ценимой была общественная тенденция стихотворений Барбье, его ноты протеста и политического негодования; его стихотворения заучивались, отдельные стихи становились поговорками: недаром Герцен пользуется выражениями, взятыми из первого ямба Барбье для характеристики Петрашевского». Особой любовью пользовалась гражданская лирика Барбье у петрашевцев. Об этом пристрастии дуровского кружка петрашевцев рассказал в своих воспоминаниях А. П. Милюков. Поэту-петрашевцу С. Ф. Дурову принадлежат 11 переводов из О. Барбье: «Дант» (1843), «Как больно видеть мне...» (1844), «Киайя» (1845), «Есть бездна на земле...» (1846), «В. В. Толбину» (1847), «Совесть» (1862), «Минотавр» (1862), «О горькая бедность!» (1863), «Смех» (1864), «Пролет пчел», «Природа». Кроме того, стилистический анализ переводов Дурова из Барбье (преимущественное внимание к воспроизведению интонационно-ритмической структуры оригинала за счет других его элементов) дает основания предполагать, что анонимный перевод «К Италии» тоже принадлежит ему, тем более что это стихотворение появилось в «Русском мире» вместе с тоже анонимным, но известным по другой публикации за подписью С. Дурова переводом «Совести» О. Барбье. Стилистические особенности позволяют также предположительно приписать ему еще два анонимных перевода, напечатанных в 1844 году в «Библиотеке для чтения» (т. 66, № 10).
«Дант» Барбье в переводе Дурова — это первое известное стихотворение русского поэта. Долгое время исследователи считали его самым первым русским переводом из Барбье, появившимся в печати. Поэт Июльской революции привлекал Дурова не столько языковой смелостью (которую поэт-петрашевец не всегда стремился воспроизвести), сколько гражданственностью. Исследователь поэзии петрашевцев справедливо писал: «Пламенные строфы Барбье, мужественная лирика Гюго ... помогали Дурову оформить собственные его демократические и оппозиционные настроения. Утверждая свой идеал высокого назначения поэта, он, вслед за Барбье, рисовал суровый облик Данте, поэта-гражданина и борца. Идея освобождения родины привлекала Дурова, когда он переводил „Киайю“ Барбье... Дуров читал перевод „Киайи" на собраниях своего кружка. Эти стихи пользовались там особенным успехом именно потому, что в „Киайе“ речь идет о необходимости единства с народом в борьбе за свободу». Отношение петрашевцев к Барбье Дуров выразил в стихотворении 1846 года «К*** (При отсылке стихов А. Барбье)», где поэт Июльской революции выступает как
Богобоязненный пророк,
Неподкупной ничем свидетель...
Он как палач разит порок...
Лучшие дуровские переводы из Барбье отличаются вниманием к индивидуальной авторской интонации французского поэта, к ритмико-синтаксической структуре его художественной системы, к образной звукописи и афористической сжатости, присущим поэзии Барбье. Даже в незаконченном и неопубликованном переводе отрывка из монолога «Природы» (из одноименной поэмы Барбье, цикл «Лазарь») бросается в глаза особое внимание Дурова к воспроизведению интонационно-синтаксических структур, характерных для французского поэта, с его оксюморонами, контрастами и образной звукописью. Для иллюстрации приведем несколько строк дуровского перевода и соответствующие стихи оригинала:
Я знаю, как священен для тебя
Нагорный ветр, шумящий в вечных соснах,
Как сладостны морей всегдашний ропот
И тишина возвышенной вершины,
Понятно мне, как любишь ты пустыню,
Где вольный дух свободно может плавать,
Как любишь ты подземные стремнины,
Где ужасы рождают в сердце радость...
В оригинале:
Je conçois ce que vaut la douceur souveraine
Des vents sur la montagne à travers les grands pins,
La beauté de la mer aux murmures sans fin,
Le silence des monts balayés par la houle,
L’espace des déserts où l’âme se déroule,
Et 1 aspect affligeant même des lieux d’horreur,
Où le coeur se soulage et qui parlent au coeur...
Замечательной, типичной для Барбье афористичности, в соединении с образной звукописью, достиг Дуров в переводе поэмы «Смех». Особенно характерны в этом отношении строки 1-й части перевода:
Желчь льется с языка обильною струей;
Насмешка подлая шипит над нищетой,
Повсюду, как в аду, у нас зубовный скрежет:
Смех не смешит людей — нет, он теперь их режет...
Что касается экспрессивно-стилистических языковых контрастов, то само соседство в дуровском переводе другой поэмы Барбье «
Немалую роль знакомство с поэзией О. Барбье сыграло в формировании гражданской лирики самого крупного из поэтов-петрашевцев — А. Н. Плещеева. Свое оригинальное стихотворение «На зов друзей» (1845), в котором поэт сетует на «бедствия страны... родной», говоря о ее «вековых страданиях», Плещеев снабдил фиктивным подзаголовком «Из А. Барбье», чем ввел в заблуждение цензуру и исследователей творчества поэта. Эпиграфом к одному из лучших своих стихотворений «Поэту» («Кто не страдал святым страданьем...», 1846) Плещеев поставил заключительные строки программного «Вступления», открывающего «Ямбы» Барбье в издании 1842 года:
Le poète doit être un protestant sublime
Du droit et de l’humanité
(Поэт должен быть беззаветным выразителем правды и человечности).
«Ясным доказательством того, что г. Плещеев понял свое назначение как поэта лучше многих из его собратий по ремеслу, — писал рецензент «Литературной газеты» Д. Протопопов, — может служить его стихотворение „К поэту", в котором он развивает многознаменательную мысль Барбье».
Во многих произведениях гражданской лирики Плещеева чувствуется отзвук поэзии Барбье. Среди них «Дума» (1844), «Сон» (1846) и некоторые стихотворения 1850-х годов. М. П. Алексеев полагает, что своим знакомством с Барбье Плещеев обязан соратнику-петрашевцу С. Дурову, и видит следы чтения Барбье на всем первом сборнике стихов Плещеева. «„Странника" и „Думу", — говорит ученый, — можно возводить к соответствующим строфам „Ямбов". „Люблю стремиться я мечтою", быть может, написано под влиянием итальянских пейзажей „II pianto"». В. В. Жданов считает, что в «Ямбах» Барбье Плещеев черпал образы для своих произведений. Характерно, что, вспоминая именно о Плещееве, современник петрашевцев называет Барбье «тогдашним пророком молодого поколения».
Текстуальное сопоставление названных произведений Плещеева с соответствующими стихами Барбье дает основание говорить, что и здесь, как в случае с Лермонтовым, речь не всегда может идти о генетической зависимости. Жанрово-типологические аналогии, сходство мыслей, настроений и некоторых образов в поэзии Плещеева и Барбье основаны прежде всего на социально-исторической общности и на сходстве описываемых явлений действительности. Наибольший интерес для сопоставления с Барбье представляют, на наш взгляд, начальные строфы стихотворения зрелого Плещеева «Когда мне встретится истерзанный борьбой...» (1858):
Когда мне встретится истерзанный борьбой,
Под гнетом опыта поникший человек,
И речью горькой он, насмешливой и злой,
Позору предает во лжи погрязший век;
И вера в род людской в груди его угасла,
И дух, что некогда был полон мощных сил,
Подобно ночнику, потухшему без масла,
Без веры и любви стал немощен и хил...
Метафорическое сравнение «подобно ночнику, потухшему без масла» у Плещеева явно восходит к аналогичному образу из поэмы Барбье «Киайя»: «Faute de nourriture, on voit mourir sa flamme...». Заметим, что плещеевский образ более афористично и конкретно воспроизводит метафору Барбье, чем соответствующие стихи дуровского перевода «Киайи»:
Мы чувствуем, что в нас, от недостатка
Возвышенной и благородной пищи
С дня на день огнь душевный тратит силу...
Строки Плещеева:
И речью горькой он, насмешливой и злой,
Позору предает во лжи погрязший век...
вызывают в памяти и слова из «Пролога» Барбье: «Sur le peuple et les rois frappe avec amertume...», и некоторые выражения из поэмы «Известность», например «un vrai siècle de boue». Но здесь имеет место и явная аналогия настроений и фактов изображаемой действительности, жанрово-типологическая связь, которой обусловлена и очевидная интонационно-синтаксическая близость приведенных стихов Плещеева к системе Барбье: длинный синтаксический период, охватывающий несколько строф и построенный на градации анафорических и других параллелизмов, напоминает типичные интонационно-синтаксические структуры Барбье. Подобные аналогии мы ранее видели и у Лермонтова.
Обратившись к стихам Плещеева, мы вышли за хронологические рамки 1830-1840-х годов и коснулись того периода, когда гражданская лирика Барбье стала фактом русской поэзии благодаря переводам С. Ф. Дурова, Б. Г. Бенедиктова, К. К. Случевского и лучших поэтов-искровцев, когда возникла «струя барбьерияма», подготовленная всеми рассмотренными явлениями в России 1830-1840-х годов.
Итак, некоторое соответствие стилистики О. Барбье языковым исканиям русских поэтов пушкинской школы; социально-исторические и жанрово-типологические аналогии в его поэзии и в творчестве передовых русских поэтов-романтиков 1820-1840-х годов; несомненная жанрово-типологическая близость гражданской лирики Барбье к поэзии М. Ю. Лермонтова, с вытекающей отсюда близостью интонаций и художественных средств, подготовившая восприятие поэзии французского сатирика в России как продолжения гражданской лирики Лермонтова; серьезное увлечение творчеством Барбье в среде поэтов-петрашевцев и популярность в России переводов из Барбье, выполненных поэтом-петрашевцем С. Ф. Дуровым, вслед за двумя первыми переводами Барбье, принадлежащими поэтам пушкинской поры, — все это послужило предпосылкой массового увлечения поэзией Барбье в России 1850-1860-х годов, сопровождавшегося многочисленными переводами его стихотворений и подражаниями.
Л-ра: Русская литература. – 1977. – № 3. – С. 129-140.
Произведения
Критика