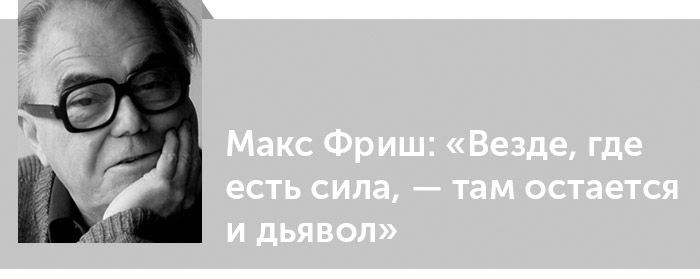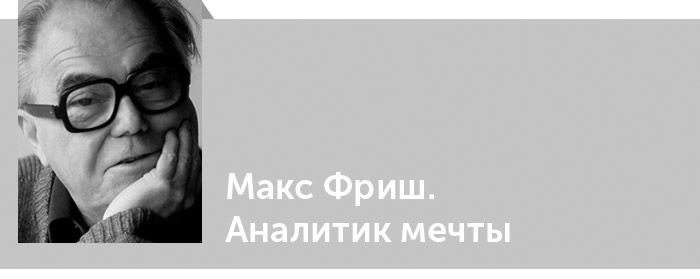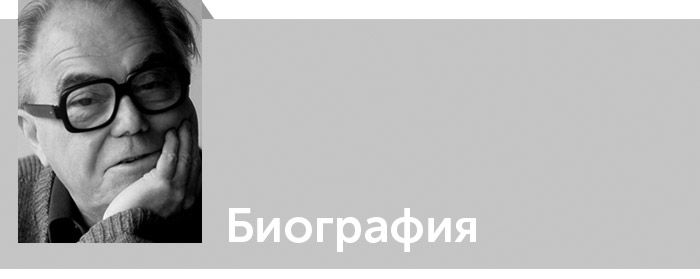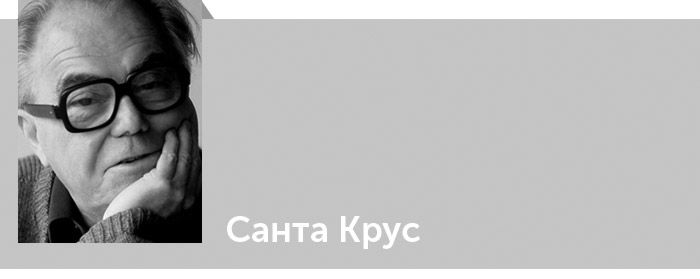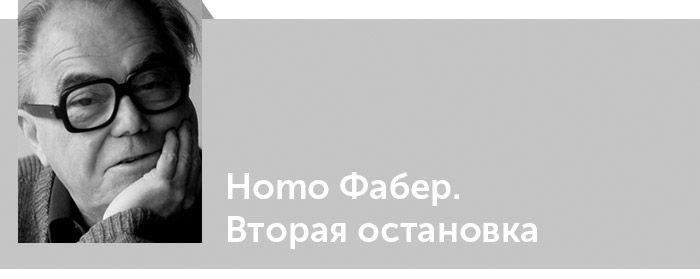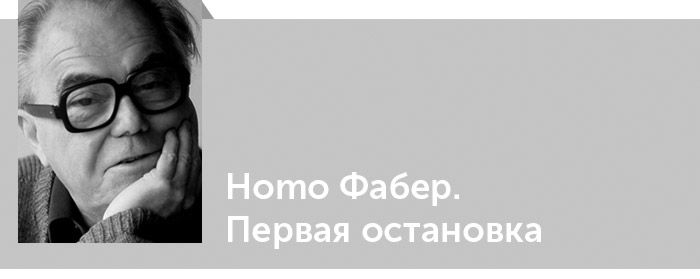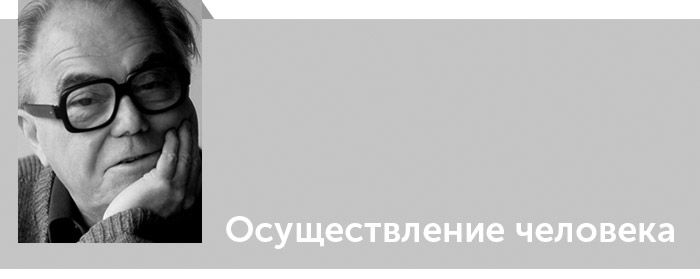История швейцарской литературы. Том 3. Глава 11. Макс Фриш

Макс Фриш (Мах Frisch, 1911-1991) открылся нашему читателю вслед за Дюрренматтом. С середины 1960-х годов в русских переводах стали появляться его романы — «Штиллер», «Homo faber», «Назову себя Гантенбайн». В 1970 г. вышел сборник его пьес. Некоторые из них вскоре были поставлены. Печатались его рассказы и повести. В течение по крайней мере двух десятилетий он был одним из самых читаемых в нашей стране зарубежных авторов.
Маркс Фриш родился 15 мая 1911 г. в Цюрихе в семье архитектора-самоучки Франца-Бруно Фриша и его жены Каролины-Беттины, урожденной Вильдермут. Предки Фриша как по отцовской, так и по материнской линии были не чисто швейцарского происхождения. Родственники по отцу были выходцами из Австрии, семья матери происходила из немецкого Вюртемберга. Дед Фриша по материнской линии был художником-декоратором, директором цюрихской школы художественных промыслов, а мать некоторое время служила гувернанткой в русских аристократических семьях.
После Первой мировой войны отец будущего писателя из-за того, что перестали поступать заказы на строительство, был вынужден оставить архитектуру и заняться торговлей недвижимостью. Несмотря на тяжелое финансовое положение, глава семьи настоял на том, чтобы его сыновья получали высшее образование, и осенью 1930 г. Макс, уже в гимназические годы увлекшийся сочинительством (одну из своих ранних пьес он даже послал известному режиссеру-экспериментатору Максу Рейнхарду, но вскоре получил ее назад вместе с мягким отказом), поступил на отделение германистики философского факультета Цюрихского университета. Здесь он проучился два года, и его наставниками среди прочих были известные швейцарские литературоведы Эмиль Эрматингер и Вальтер Мушг. Фриш посещал лекции знаменитого искусствоведа Генриха Вельфлина, который своими работами, написанными на рубеже XIX-XX вв., открыл для европейской культуры искусство барокко, и знаменитые еженедельные семинары основателя аналитической психологии Карла-Гюстава Юнга, на которых Юнг в соответствии со своей теорией разбирал литературные и философские произведения, религиозные книги и средневековые алхимические трактаты (в те годы Юнг работал над уточнением своего учения об архетипах)1.
Неожиданная смерть отца прервала учебу Фриша в университете. Вынужденный теперь самостоятельно зарабатывать на жизнь Фриш несколько лет проработал внештатным корреспондентом различных цюрихских и базельских газет. В 1933 г. Фриш работал репортером на чемпионате мира по хоккею в Праге, а после чемпионата отправился в путешествие по Восточной и Южной Европе. «Я побывал в Венгрии, — вспоминал о своих странствиях писатель, — вдоль и поперек исколесил Сербию, Боснию, Далмацию, где провел лето, целыми днями плавал под парусами вдоль побережья... Потом я побывал на Черном море... в Константинополе, увидел наконец Акрополь и пешком, ночуя под открытым небом, ... пересек Среднюю Грецию. Это было насыщенное и счастливое время»2.
Возвратившись на родину, Фриш под впечатлением от путешествия написал свой первый роман «Юрг Рейнхардт» («Jürg Reinhardt. Eine sommerliche Schicksalsfahrt», 1934), о котором позже, впрочем, не очень любил вспоминать, расценивая свой первый писательский опыт как «незрелый». Роман увидел свет в одном из цюрихских издательств в 1934 г. В том же году начинающий писатель познакомился с еврейской девушкой из Берлина Кэти Рубинсон — она была вынуждена уехать из нацистской Германии, чтобы иметь возможность закончить свое образование. Под влиянием Кэти, на деньги, предложенные ему лучшим другом той поры Вернером Конинксом3 (родители Вернера владели одной из самых крупных цюрихских газет — «Цюрихер анцайгер»), — Фриш вернулся на студенческую скамью. С 1936 г. он изучал архитектуру в Цюрихском техническом институте. Одновременно с учебой Фриш работал над своим вторым художественным произведением — повестью «Ответ из тишины» («Antwort aus der Stille. Eine Erzählung aus den Bergen»), увидевшей свет в 1937 г. Повесть эта, как и «Юрг Рейнхардт», не пользовалась успехом у читателей, и, усомнившись в своих литературных способностях, молодой автор на несколько лет забросил писательский труд.
Три года спустя Фриш получил диплом архитектора. Учебу и последующую работу по профессии Фриш был вынужден совмещать со службой в армии: в первые дни войны он был мобилизован — Швейцария опасалась агрессии со стороны фашистской Германии (в течение шести лет Фриш прослужил в должности канонира 650 дней). Во время службы он начал вести дневник, который был опубликован в 1940 г. под названием «Листки из вещевого мешка» («Blätter aus dem Brotsack») и принес молодому автору желанный успех. Этот успех вдохновил Фриша на написание большого романа «Обожаю то, что меня сжигает, или Трудные люди» («J’adore ce que me brûle oder Die Schwierigen»). Работа над ним продолжалась почти три года, в них вместились и нелегкое расставание с Кэти, и женитьба на сокурснице Гертруде фон Мейенбург, и основание собственного архитектурного бюро: почти одновременно с выходом в свет второго романа Фриш выиграл конкурс на строительство бассейна в Цюрихе. «Трудные люди», в отличие от первых произведений писателя, не остались незамеченными. Курт Хиршфельд, заведующий литературной частью Цюрихского драматического театра (Schauspielhaus Zürich), прославившегося в годы войны своими смелыми антифашистскими постановками, написал Фришу письмо с предложением попробовать себя в драматических жанрах. В конце 1944 г. молодой автор всего за несколько недель написал свою первую пьесу «Санта Крус» («Santa Cruz»), за ней последовала драма о войне «Опять они поют» («Nun singen sie wieder», 1945), сразу же принятая дирекцией театра к постановке (премьера состоялась на Пасху, в марте 1945). В 1946 г. на сцене Цюрихского драматического театра была поставлена и третья пьеса Фриша «Китайская стена» («Die Chinesische Mauer», первое представление — 10 октября 1946 г.).
Несколько следующих лет Фриш вёл напряженное двойное существование — писателя и архитектора: как проектировщик бассейна он был вынужден проводить много времени на строительной площадке, контролировать ход работ4, но лишь только выдавалось свободное время, он «совершал поездки во все соседние страны; после... пятилетнего плена стремление знакомиться с современниками в других странах было особенно велико»5. Результатом поездок по Германии, Италии, Чехии, Венгрии и Франции становится «Дневник с Марион» («Tagebuch mit Marion», 1947) — книга, вышедшая в Цюрихе, и позже, в переработанном виде, вошедшая в «Дневник 1946-1949» («Tagebuch 1946-1949», опубл. 1950) и драма «Когда окончилась война» («Als der Krieg zu Ende war»), рассказывающая о любви немки к советскому офицеру в разрушенном Берлине. Эта пьеса была поставлена в Цюрихе в январе 1949 г. и благодаря злободневной тематике получила широкий общественный резонанс не только на родине молодого драматурга, но и в соседней Германии. «Когда окончилась война» стала первым произведением Фриша, перешагнувшим швейцарские границы: уже в год цюрихской премьеры пьеса с успехом была поставлена на сцене нескольких немецких театров.
С конца 1940-х годов Фриш уже принимал активное участие в литературной и общественной жизни не только в Швейцарии, но и в Германии (участие в «Международном конгрессе деятелей культуры за мир» в 1948 г.; программная речь «Культура как алиби» («Kultur als Alibi», опубл. 1949), произнесенная на заседании «Швейцарско-немецкого объединения деятелей культуры»). Он знакомится с Бертольдом Брехтом, общение с которым (беседы, совместное посещение репетиций и спектаклей, критическое обсуждение драматических текстов) оказало заметное влияние на представления начинающего автора о театре и драматургической технике («Только тут я по-настоящему понял, на что способен театр»6, — вспоминал Фриш об одном из спектаклей, поставленным Брехтом, на который был приглашен), и сходится со знаменитым издателем Петером Зуркампом, собиравшимся вернуться в Германию из швейцарской эмиграции, чтобы возродить свое дело и начать печатать книги, способные «перевоспитать» немецкую нацию. Благодаря дружеской поддержке и настойчивости Зуркампа на свет появился фришевский «Дневник 1946-1949». Это была одна из первых книг, вышедших в обновленном зуркамповском издательстве в 1950 г.
Год спустя Фриш был награжден престижной американской стипендией Рокфеллера и на несколько лет переехал в США. Результатом этой поездки стал роман «Штиллер» («Stiller», 1955), имевший шумный резонанс, и комедия «Дон Жуан, или Любовь к Геометрии» («Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie»), с успехом поставленная одновременно в Берлине и Цюрихе в 1953 г. Живя в Америке, Фриш обратился к жанру радиопьесы. До начала 1960-х годов, когда на смену радио пришло телевидение, влияние радиостанций было колоссальным, их слушателями были десятки миллионов человек. В Германии, где вещание вели лишь несколько станций, контролировавшихся союзными войсками, и в Швейцарии, где насчитывалось меньше десятка каналов, радиопостановки вызывали общественный интерес, становились событиями культурной жизни и давали литераторам прекрасную возможность охватить самую широкую аудиторию. Радиопьесы Фриша «Господин Бидерман и поджигатели» («Herr Biedermann und die Brandstifter», 1953), «Рип ван Винкль» («Rip van Winkle», 1953), «Дилетант и архитектура» («Der Laie und die Architektur, 1955) в эти годы неоднократно звучали в эфире7 и во многом способствовали росту популярности автора в странах немецкого языка.
В конце 1950-х годов Фриш уже признанный писатель. Вернувшись из Америки, он решил окончательно сосредоточиться на литературе и продал свое архитектурное бюро. Фриш много путешествует, выступает с лекциями, чтениями и докладами по всему миру. В 1956 г. он совершает поездку на Кубу и в Мексику, год спустя — в Италию и Грецию. Во время этих поездок Фриш работал над своим третьим романом — «Homo Фабер» (вышел в издательстве Зуркампа в конце 1957 г.). Роман, только в странах немецкого языка разошедшийся тиражом почти в 4 миллиона экземпляров, стал одной из самых удачных в коммерческом отношении книг в истории немецкой послевоенной литературы.
Весной 1958 г. на первом представлении пьесы «Бидерман и поджигатели» в Цюрихском драматическом театре Фриш познакомился с австрийской поэтессой Ингеборг Бахман (1926-1973), которая, как и Фриш, была в те годы фигурой первой величины на европейской литературной сцене. Их бурный любовный роман (к тому времени Фриш уже расстался со своей женой, брак с которой оказался несчастливым), привлекавший к себе внимание прессы, продолжался несколько лет и закончился так же стремительно, как и начался. Вскоре Бахман, которая взяла с Фриша слово, что тот никогда не будет писать в своих произведениях и дневниках об их связи, узнала себя в одной из героинь его романа «Назову себя Гантенбайн» («Mein Name sei Gantenbein», 1964) и навсегда порвала отношения с Фришем. В поздней автобиографической повести «Монток» («Montauk», 1975), появившейся спустя два года после трагической гибели Бахман, Фриш рассказал о сложных взаимоотношениях с прославленной поэтессой в годы их совместной жизни8.
С начала 1960-х годов временные интервалы между произведениями Фриша начинают увеличиваться, при этом каждое новое сочинение писателя, публицистические выступления и эссеистика (сборник «Общественность как партнер» — «Öffentlichkeit als Partner», 1967) вызывают широкий общественный резонанс. Пользуясь своей известностью, Фриш неоднократно выступает по волнующим его вопросам гражданского общества, прав человека, ксенофобии, гонки вооружений. В эти годы он становится лауреатом многочисленных премий. Так, в 1965 г. за свою публицистику и пьесу «Андорра» («Andorra», 1965) писатель получил премию города Иерусалима. Благодарственная речь Фриша на церемонии вручения этой премии была первой официальной речью на немецком языке, произнесенной в Израиле. Год спустя писатель впервые приезжает с визитом в Советский Союз9. В 1968 г. он вновь приехал в СССР по приглашению Союза писателей и принял участие в международном конгрессе писателей, который проходил в Горьком. Во время пребывания в Советском Союзе Фриш заинтересовался распространявшимися в неофициальной среде слухами, связанными со статьей Андрея Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». В 1969 г. швейцарский писатель способствовал изданию этого меморандума на немецком языке, предварив его своим предисловием10, после чего на много лет стал persona non grata в СССР (следующий визит Фриша в СССР стал возможным лишь в 1987 г.).
В 1971 г. после выхода брошюры «Вильгельм Телль для школы» («Wilhelm Tell für die Schule»), в которой писатель критиковал швейцарский «патриотизм, опускающийся до ксенофобии», и последовавшей резкой реакции правых швейцарских политиков на эту книжку Фриш был вынужден уехать из страны. Он на долгие годы поселился в США. В это время достигает своей кульминации политическое влияние Фриша, активно поддерживавшего социал-демократические партии ФРГ и Швейцарии. В 1975 г. по приглашению канцлера Гельмута Шмита писатель в составе официальной делегации ФРГ посетил Китай; свои впечатления от этой поездки он изложил в публицистической книге «Нет, я не видел Мао» («Nein, Мао habe ich nicht gesehen», 1976). В 1980 г., после прихода к власти консервативной администрации Рейгана, Фриш по политическим разногласиям покинул США. В том же году английский перевод его повести «Человек появляется в эпоху голоцена» («Der Mensch erscheint im Holozän», 1979) была признана критиками и издателями США лучшей книгой года.
Вернувшись в Европу, Фриш основал правозащитный фонд своего имени. В последние годы жизни писатель вел активную общественную деятельность. Его, в частности, занимали права пожилых граждан и проблема эвтаназии — право неизлечимо больных людей на добровольный уход из жизни. Выступления Фриша по этой проблеме («Обращение к молодым врачам» — «Rede ап junge Ärtzinnen und Ärtze», 1984; речь на похоронах Петера Нолля) стали отправной точкой дискуссии на эту тему, закончившейся в Швейцарии смягчением законов о содействии добровольному самоубийству.
В последние годы жизни писателя усиливается его пессимистический взгляд на положение дел как в мире, так и в Швейцарии. В своей речи «На исходе Просвещения — золотой телец» («Ат Ende der Autklärung steht das Goldene Kalb», 1986), произнесенной на собрании швейцарских писателей в городе Золотурне, Фриш заявляет об окончательном крахе просветительских идей и наступлении новой эры — эры власти капитала и новых технологий, делающих человека ненужным «предметом антиквариата и внушающих ему бессилие перед миром техники»11. Он обрушился с критикой на современное ему швейцарское и американское общество, что вызвало нападки на писателя в Швейцарии, на которые тот, впрочем, не обращал особого внимания. Тем более, что вскоре оправдались самые мрачные предположения Фриша о несвободе граждан в демократических обществах: в 1990 г. разразился грандиозный скандал, когда выяснилось, что швейцарские спецслужбы на протяжении сорока с лишним лет вели за писателем слежку.
Творческий метод Фриша своеобразен. Но волнуют его те же вопросы, что и других современных писателей. Друг и коллега Фриша Фридрих Дюрренматт однажды сказал, что настоящий писательский труд — это всегда участие в продумывании и проигрывании возможностей человека. Такая формула в значительной степени относится и к Фришу: в своем творчестве писатель все время «проигрывает» разные возможности человека.
Фриш многим обязан своим предшественникам12. В начале XX в., в годы «непроходимого благополучия», как иронически назвал Томас Манн время до Первой мировой войны, литература неожиданно вновь занялась двойничеством, опасной изменчивостью людей, волновавшей уже просветителей и романтиков. В России о лице человека и маске размышлял и писал Александр Блок. Еще раньше, в творчестве Достоевского, были предугаданы многие роковые превращения, происшедшие с человечеством десятилетия спустя. В Австро-Венгрии тот же вопрос волновал Рильке и навсегда приковал внимание Р.Музиля, автора грандиозного романа «Человек без свойств» (1930-1943). Этот же вопрос определил проблематику и структуру драматургии итальянца Луиджи Пиранделло, а во многом — и театра Брехта. Не менее значимым, чем предшествующая традиция, был для Фриша опыт современного человека. Ему важно помнить об истории XX в. Под гнетом политических обстоятельств свой привычный облик теряли не только люди, но и целые народы. Миллионы людей проживали не собственную судьбу, а обкатанную, искаженную, усредненную, в людях развилась способность легко распадаться на лики и роли. Образ мысли и убеждения менялись под властью идеологии.
Бури истории обошли Швейцарию. Но во многих своих произведениях Фриш упорно доказывал относительность швейцарского нейтралитета. Одним из первых он стал настаивать на том, что социальная психология фашизма не была замкнута границами фашистских государств. Писал ли Фриш о судьбе Германии или о предметах от этого далеких, его неизменно интересовало сознание вполне обычных людей, способное, однако, к неожиданным и опасным метаморфозам.
Если не считать ранних неприметных опусов Фриша — романа «Юрг Рейнгарт» и повести «Ответ из тишины», можно сказать, что тот Фриш, который получил всемирную известность, начинался со своего рода дневника: записок, которые он вел, будучи призванным в армию в первые месяцы войны, и которые затем опубликовал под названием «Листки из вещевого мешка». Эти записки сообщают читателю много сведений о Швейцарии первых военных лет. Но цель автора — не в объективном описании. Здесь все пропущено через сознание пишущего, и если что-то характерно для места и времени, то прежде всего — сознание.
В «Листках из вещевого мешка» Фриш впервые нашел форму фрагмента, ставшую характерной для его творчества и повторяющуюся не только в его более поздних дневниках, но и в его больших прозаических произведениях — романах «Штиллер», большая часть которого представляет собой записки главного героя, сделанные им в тюрьме, «Назову себя Гантенбайн», где фабула строится как череда недосказанных историй, «романе-отчете» «Homo faber» или в поздних повестях «Монток» и «Человек появляется в эпоху голоцена». Фриш сравнивал подобную повествовательную форму с рамой, ограничивающей пространство картины: простые предметы на плоскости полотна приобретают особую значительность благодаря своей выделенности из жизни. Но еще важнее для писателя то обстоятельство, что фрагмент в наибольшей степени соответствует образу жизни и мысли современного человека, «нуждающегося в эскизности». Фрагмент — это выражение духа современности, и, одновременно, его критика. «Пристрастие к фрагменту, — говорит Фриш, — распад традиционных единств, болезненное или вызывающее подчеркивание несовершенного — все это было уже в романтизме, которому мы так чужды и так родственны»13; но теперь фрагмент выражает «образ мира, который больше не замыкается... боязнь формальной цельности... недоверие к искусственности, которая может помешать нашему времени когда-нибудь достигнуть собственного совершенства»14. Фрагмент «не дает опыта», он лишь «эскиз опыта», у него «есть направление, но нет конца»15, это вопрос, на который «пока нет полного ответа»16. В 1972 г. писатель опубликовал свой «Дневник 1966-1971» («Tagebuch 1966-1971»).
Смысл фрагмента, по Фришу, состоит в том, чтобы заставить читателя действовать — побудить его к самостоятельному живому размышлению: слабо сцепленные друг с другом фрагменты скрывают в себе простор для не ограниченных сюжетов и простирающихся в бесконечность раздумий; «афористичность как выражение “характерного для современности” мышления, никогда не достигающего истинного и прочного результата... внешне приходит к концу лишь потому, что устает, что не хватает мыслительных сил»17.
В ранних «Листках из вещевого мешка» фрагментарная форма возникла сама собой: провоцирующей ситуацией, толкавшей к необычным умозаключениям, стала начавшаяся война, неожиданно наглядно высветившая симптомы распадения единства жизни: «Кажется, будто время совершило прыжок, и уже не знаешь, как соединить половины, составлявшие когда-то целое». Автор описывает, как вместе с другими он роет окопы, а мимо проезжают отдыхающие, радио поздравляет соотечественников с праздником и тут же сообщает, что польская армия разбита. «Все знают, — пишет Фриш, — сколько людей сейчас работает, а сколько умирает, но трамвай все равно продолжает ходить»18. Война сразу изменила отношения человека с миром: то, что вчера поглощало целиком — служба, семья, — отодвинулось вдаль, подчинившись вмешательству политики, идеологии. Так впервые в творчестве Фриша начинает звучать тема изменчивости человека.
Скорее всего, именно война определила для писателя то, что в дальнейшем стало законом его литературной работы — потребность посмотреть на действительность с разных сторон. В «Листках» уже заметна ставшая для Фриша постоянной забота — представить себя участником событий, попытаться заранее осознать свои непредвиденные на них реакции.
«Листки из вещевого мешка» — не единственное произведение Фриша, посвященное собственным впечатлениям от Второй мировой войны и отношениям нейтральной Швейцарии с гитлеровской Германией. В «Солдатской книжке» («Dienstbüchlein», 1974) тот же материал подан под иным углом зрения. Появление в творчестве одного писателя двух произведений, одно из которых оспаривает другое, — случай в литературе нечастый. Но для Фриша этот случай характерный19: он выдает самое существо его метода — желание осложнить картину, обнаружить противоречие там, где как будто царит гармония, представить действительность как многослойную, а ход событий как многовариантный.
Если «Листки из вещевого мешка» исполнены искреннего патриотизма и заканчиваются призывом к бдительности и сплочению швейцарцев перед лицом «огромной осознанной угрозы, которая с каждым часом превышает все остальное»20, то в «Солдатской книжке» Фриш смотрит на швейцарскую ситуацию военных лет с определенной временной дистанции, непосредственные воспоминания пропускаются через призму личного и исторического опыта. Со временем становятся известными факты, о которых автор «Листков из вещевого мешка» и многие его соотечественники не могли знать. На страницах «Солдатской книжки» Фриш приводит некоторые из таких фактов, например, сообщает о том, что кантонам было предписано отправлять обратно в Германию всех нелегально проникших в Швейцарию беженцев, что «стоило жизни тысячам и тысячам людей»21. За этими фактами обнаруживается цинизм власти. То, как «прямодушному солдату» Максу Фришу рисовалась ситуация, совсем не соответствовало тому, каким было положение вещей на самом деле. Патриотизм, казавшийся в военные годы естественным и искренним, теперь, под воздействием исторических фактов, приобретает националистический оттенок.
Тогдашнему всеобщему состоянию, замечает Фриш, была свойственна принципиальная бездумность, «нежелание знать». Армия была готова к защите родины, а не к борьбе против фашизма; о том, что творилось в Германии, почти не знали: «Пресса... соблюдала осторожность, чтобы не давать Гитлеру поводов для недовольства... С 8.9.1939 существовала цензура для прессы, а с 20.9.1939 — и киноцензура»22. Незнание способствовало тому, что «в душах людей гнездилась готовность к опасным метаморфозам, явно родственным тем, что уже произошли по ту сторону границы»23. «Пока я просто подчинялся, — говорит Фриш, — меня ничто больше не касалось... Повиновение — наиболее удобный способ существования в годы великого ужаса»24. Если «Листки из вещевого мешка» были в свое время благожелательно встречены швейцарской критикой, то его «Солдатскую книжку» ожидал на родине более чем холодный прием25.
Вопросы, которые поднимает Фриш в этих двух книгах, касаются не только Швейцарии в годы мировой войны. По существу, писатель занят в них тем, что имело одинаковое значение как для времен войны, так и для мира, — новой этикой, требующей от человека постоянного мыслительного напряжения, постоянной готовности осознать себя и действительность не только в сиюминутном состоянии, но и в тех возможностях, которые может открыть в них будущее.
В 1950 г. вышла первая книга дневников Фриша — «Дневник 1946-1949». По сравнению с другими знаменитыми писательскими дневниками XX в., например, с дневниками Франца Кафки или Роберта Музиля, «Дневники» Фриша далеки от описания личных, «интимных» переживаний. Для швейцарского писателя дневник становится тем жанром, который способен выразить новое содержание. Как и фрагмент, дневники для Фриша — это прежде всего форма, которая соответствует духу времени. Немецкий литературовед Рольф Кизер, автор влиятельной работы о дневниках Фриша, говорит, что они — «конгениальная форма новейшего повествования, литературная современность»26, порожденная «кризисом описательности, вызванным... конкуренцией со стороны средств массовой информации»27. «Дневник» Фриша — произведение и очень личное, и в то же время сдержанное, скрытное: читатель очень мало узнает о жизни автора. Однако, не желая рассказывать о себе самом, писатель все же себя выдает: он нужен себе как материал. Вплоть до повести «Монток» Фришу всегда была важна не столько собственная, сколько обобщенная современная личность — напряженный драматизм ее судьбы и ее сознания, и несмотря на убеждение писателя в том, что наше время менее всего подходит для личных историй, «все-таки человеческая жизнь совершается или гибнет не где-нибудь, а в отдельном “Я”». Отсюда его обращение к одной из самых интимных и искренних литературных форм. Кроме того, для Фриша существен и такой формальный признак дневника, как хронологическая последовательность записей: так создается своего рода «кардиограмма эпохи», «хроника исторических событий пересекается с хроникой нашей личной жизни»28, личное сопрягается с всеобщим.
«Дневники» Фриша — это обобщенный опыт, размышления наподобие монтеневских. (Не случайно цитаты из Монтеня неоднократно появляются на страницах этих «Дневников».) При этом Фриш старается избегать бессодержательных общих формул, он остается в рамках конкретного опыта личности. «Первое лицо автора подобного дневника, — пишет Кизер, — не означает: таков я, так я живу, скорее: так я вижу, так ощущаю. “Я” повествователя не отливается в образ, оно — медиум духа, индивидуальность которого проглядывает сквозь ролевую функцию высказывания»29. Эта публицистическая проза Фриша считает некорректным отстраняться от опыта читателя; швейцарский писатель оперирует тем, что близко многим. Одно из самых очевидных (и в то же время загадочных) достоинств этих «Дневников» — их общепонятность. Читателю даже может казаться, что многое из сказанного автором созвучно его собственным мыслям, что некоторые вещи, написанные у Фриша, мог бы произнести он сам. Непросто, например, не согласиться с такой мыслью автора «Дневника»: о человеке, которого любишь, труднее всего высказать окончательное суждение, ибо только любовь способна понять бесконечную изменчивость человека, в то время как равнодушный взгляд со стороны спешит с приговором, и сложность живого лица подменяет застывшая маска.
В «Дневниках 1946-1949» Фриша получает дальнейшее развитие главная фришевская тема — изменчивость человеческой личности. С малого, сугубо личного начинает автор анализ двух противосил: человек и «другой человек» в нем самом; человек и бытующее мнение о нем; и дальше — шире: человек и общество, человек и официальная идеология, государство.
В «Дневнике с Марион», написанном и изданном в 1947 г., а затем включенном в «Дневник 1946-1949», Фриш рассказывает о том, как деревенского парня поразила однажды банальная истина: когда человек сидит за столом с несколькими людьми, он думает и говорит не так, как если бы рассуждал наедине с самим собой. Он будто бы на время удаляется от себя, представляется окружающим лучше (а может быть, хуже), чем он есть. В таком раздвоении пока еще нет обмана, однако происходит необходимое приспособление к предложенным обстоятельствам. Как далеко заходит при этом отступление от собственной сути? В своем дальнейшем творчестве Фриш начнет все более настойчиво исследовать способность частного сознания к трансформации, внезапным взрывам, эксцессам, отчетливо соотнося их с давлением извне.
Через первый «Дневник» и публицистику того времени (эссе «Культура как алиби») сквозной нитью проходит размышление о недавних потрясениях истории. Фриш категорически не согласен со многими политиками тех лет, которые предлагали рассматривать «прошлое как прошедшее»30. Размышления о прошлом связаны для Фриша с мыслями о будущем: он требует осознать тот небезразличный для будущего факт, что в соседней Германии, стране высокой культуры, «произошли вещи, на которые мы раньше не считали человека способным»31. Корень рассуждений Фриша: «на что способен человек?»
Именно этот вопрос толкает писателя на размышления, быть может, неожиданные: своих современников и себя самого Фриш не считает отделенными от случившегося в Германии. «Мы жили у стены камеры пыток» — эту мысль писатель повторяет снова и снова. С Германией Швейцарию объединяла культура и, что еще более существенно, общий язык32. «Люди, которых я воспринимал как себе родственных, — написал Фриш в эссе “Культура как алиби”, — стали чудовищами»33. Но отсюда Фриш делает вывод: «Если люди, говорящие на одном и том же со мной языке, любящие ту же музыку, не застрахованы от того, чтобы стать чудовищами, откуда мне взять уверенность, что от этого застрахован я?»34 В немецкоязычной литературе Фриш одним из первых начал ту упорную работу, которую продолжили многие писатели в Германии, Швейцарии и Австрии. Ее целью было заставить современников дать себе по возможности полный отчет не только об истории, но прежде всего о самих себе.
Одним из первых швейцарский писатель начал мучительное размышление о вине — не только фашистского рейха — хотя речь здесь идет прежде всего об этом — но о вине каждого человека перед неисчислимыми жертвами войны.
В центре пьесы, во многом следующей брехтовской традиции, — взаимоотношения нацистского офицера Герберта со своим гимназическим учителем. По Фришу, «эстетическая культура» — проповедуемое учителем прекрасное и возвышенное искусство, отрешенное от жизни и практических нужд, лишаясь нравственной основы, с легкостью оборачивается своей противоположностью: хаосом, ужасом. В финале пьесы ученик хладнокровно убивает своего учителя, сообщая тому перед смертью, что все, чему тот учил — мечтания, цели, взгляды, оказалось ложью. «Дух оказался уступчивым — мы по нему слегка постучали, и отозвались пустота», — говорил Герберт.
Эта пьеса Фриша, премьера которой неслучайно состоялась в канун Пасхи 1945 г., имеет подзаголовок: «Попытка реквиема» («Versuch eines Requiems»), но в «отличие от католической поминальной молитвы, проникнутой мольбой о ниспослании вечного покоя душам умерших, пьеса Фриша... исполнена волнения, беспокойства»35: мертвые в пьесе Фриша не могут уснуть вечным сном, они не в силах покоиться в земле, они остаются среди живых, существуют их заботами и тревогами.
Прием совмещения двух разных планов, двух миров — мира людей и мира иного — Фриш использовал в пьесе «Санта Крус», которая может дать и представление о драматургической поэтике писателя. Здесь наличие двух пространств обусловлено жанровыми особенностями произведения: автор назвал свою первую пьесу «балладой» («Romanze»)36, и за происходящим на сцене мерцает типичный для баллады архаический сюжет о мертвом женихе, пришедшем за своей невестой с того света. Перед героиней этой пьесы, Эльвирой, «женщиной 35 лет», женой некоего барона, встает выбор: в замке, где она живет, неожиданно появляется ее первый жених, моряк Пелегрин, оставивший ее семнадцать лет назад, и теперь Эльвире предстоит сделать нелегкий выбор: бросить мужа, которого она не любит, и убежать со своим возлюбленным, или оставить все так, как есть. Ситуация, типичная для банальной пьесы, наделяется, однако, у Фриша глубоким смыслом.
Конфликт пьесы движется столкновением двух противоположных миров. С одной стороны, очевидно, что с Пелегрином на сцену проникают приметы мира мертвых (на сцене появляются могильщики, мертвые матросы и т.п.), в то время как в замке барона — хоть и размеренно и неспешно — идет жизнь: уходят одни работники, а на их место приходят другие, у барона подрастает дочь. Но в том-то и дело, что мир барона и мир иной, мир Пелегрина, могут с легкостью поменяться местами, больше нет ничего устойчивого, все относительно: бескрайнее море и жаркий остров Санта Крус — место, куда зовет Эльвиру утопленник Пелегрин, — может оказаться местом торжествующей жизни, а замок барона с его «вечной скукой» и бесконечно повторяющимися ритуалами повседневности становится метафорой смерти.
Один из центральных символов пьесы — снег. Сильный снегопад начинается, когда в городе появляется Пелегрин. Но снег — это и символ застывшей жизни, плена, «вызванного механистическим существованием... снег проникает в замок, угрожая ледяным безмолвием, космической стужей, которая сводит все возможности к нулю, поглощает жизнь»37. Этим символическое значение снега в пьесе не ограничивается: снег, покрывающий поверхность земли и стирающий прошлые следы, как белый лист бумаги, дает героям возможность заново прочертить на нем линии своей жизни.
Другим важнейшим символом пьесы является море. Море означает «безбрежность возможностей». Барон дважды неудачно пытается поменять свою жизнь и стать моряком, но не может до конца решиться на это, потому что не в состоянии избавиться от социальных связей, забот и обстоятельств. Моряк же Пелегрин вполне мог бы занять место барона и он совсем не против того, чтобы завести хозяйство и погрузиться в повседневную жизнь. Эльвира колеблется, не в силах решить, с кем ей остаться: однажды случившееся с ней (17 лет назад Пелегрин бросил ее после одной проведенной вместе ночи, поэтому-то она и вышла замуж за барона) может повториться снова. Персонажи сценической баллады Фриша, таким образом, вовлекаются в «хоровод возможностей, выбирая между которыми, они выбирают свою судьбу»38.
Заостряя замысел фантастической ситуацией, Фриш говорит о реальном и распространенном — о неравенстве человека самому себе и своей судьбе, о жизни, складывающейся не по внутреннему порыву и логике, а неподлинной, ненастоящей, становящейся такой под давлением внешних обстоятельств. Писатель будто стремится все время расширить щель между человеком и его судьбой, социальной ролью, действительностью, убеждая, что соединение их подвижно.
В парафразе сюжета о Дон Жуане, пьесе «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», главный герой, наделенный мягкой гуманностью и вполне определенной склонностью к точным знаниям молодой человек становится исполнителем своей легендарной роли отнюдь не по собственному желанию. Горя любовью к своей невесте, он скачет к замку, где все готово к свадебному торжеству. Однако, как следует из его смятенного рассказа, по пути с ним случается незначительное, казалось бы, происшествие — его взгляд задержался совсем ненадолго на фигуре женщины, появившейся в окне. «Я понял, что мог бы полюбить ее — первую встречную». Это событие — что типично для пьес Фриша — не приводит героев в столкновение друг с другом, не ставит их в конфликт с обстоятельствами, но заставляет каждого из них вступить в вынужденные взаимоотношения с самим собой — собой, каким ты становишься в изменившихся условиях, с «другим» внутри. Рационалистические («геометрические») ум и душа Дон Жуана, человека рассуждающего вполне по-современному39, несмотря на то, что действие пьесы разворачивается в «эпоху красивых костюмов»40, не могут вместить непоследовательность и глубину внезапно вышедших наружу собственных чувств и желаний. Человек делит себя на две половины: нехотя прощаясь с одной, он поневоле приноравливается к другой. В своем примечании к «Дон Жуану» Фриш упоминает об интерпретации этого «вечного» образа датским философом Сереном Кьеркегором, который считал, что органической стихией для севильского распутника является музыка — наиболее чувственное из искусств. На самом деле, говорит Фриш, «единственная стихия Дон Жуана — театр, смысл которого в том, что личность и маска на сцене не совпадают, и это приводит к подмене одного другими... повсюду, где человека еще нет и он ищет себя»41.
Фриш совсем не случайно так часто ссылается в своих произведениях на Кьеркегора, одного из предвестников современного экзистенциализма: именно датский религиозный философ одним из первых описал тот тип современной личности, который на протяжении многих лет занимал Фриша. Кьеркегор называет подобный тип «эстетиком»42, и в его религиозно-философской концепции он занимает низшую ступень. Анализу типа «эстетика» посвящены такие кьеркегоровские работы, как «Болезнь к смерти» (1849) и «Или — или» (1845). По датскому философу, этому типу сознания (его корни Кьеркегор усматривает в идеологии романтизма) «свойственно желание избавиться от собственного Я, желание обрести вместо него другое Я... Нравственную слабость эстетического существования Кьеркегор видит в осознанном нежелании индивида принять себя таким, каким он является в действительности: его больше устраивают другие Я, обладающие, с его точки зрения, каким-либо преимуществом... Такой человек в воображении подменяет себя другим, и некоторое время ему удается так существовать... Я при этом... неизбежно “рассыпается в песок мгновений”. Разрозненные “вспышки” такого существования лишены последовательности и единства, они ничем не скреплены друг с другом, случайны». В итоге — «вместо определенности Я здесь наличествуют так и не состоявшиеся возможности и миражи воображения, гипертрофированная безличность и в конечном счете — аморализм»43.
Именно цитату из трактата Кьеркегора «Или — или» Фриш предпослал в качестве эпиграфа к роману «Штиллер», первому из трех наиболее известных романов писателя («Штиллер», «Homo Фабер», «Назову себя Гантенбайн»), в которых Фриш — с разных точек зрения — поднимает сходные проблемы.
«Я не Штиллер!»44 — с этого утверждения начинаются записки главного героя романа Фриша. Он утверждает это несмотря на приведенные доказательства абсолютного тождества с человеком по имени Анатоль Штиллер, швейцарским скульптором, долгие годы жившим в Париже, а потом исчезнувшим. Собственно, сюжет романа составляет долгий и кропотливый процесс, начатый против главного героя Уайта45 — Штиллера. Причем дело здесь осложняется тем, что штиллеровская внутренняя потребность «быть другим» наталкивается на сопротивление внешнего мира. «Общество — писал о романе своего коллеги Фридрих Дюрренматт, — определяет, что есть “Я”, в пику этому утверждению противопоставляется “не-Я”. Иными словами: на место я заступает некое фиктивное “Я”, и “Я” становится объектом»46. В конце романа следует капитуляция: герой признает навязанную ему идентичность и возвращается в Швейцарию.
В «Штиллере» есть свободная широта замысла, которая естественно держит напряженность этого небогатого событиями повествования, прикованного к одному месту — тюремной камере, в которой содержится во время следствия герой. (Нетрудно заметить, что камера, как и другие образы замкнутых пространств — больничной палаты в «Homo Фабер», квартиры, обстановку которых Фриш подробно описывает в романе «Назову себя Гантенбайн» или заброшенного дома в повести «Человек появляется в эпоху голоцена», — это достаточно прозрачные метафоры не только замкнутого существования человека в современном мире, но и знаки экзистенциального одиночества, «запертости» человека в границах неких заведомо установленных представлений.)
Странствия фришевского героя не всегда воплощаются в действии — это путешествия человеческого духа. Совмещаются разные временные пласты. Стены камеры раздвигаются воспоминаниями Штиллера и рассказами о его приключениях в Новом Свете. Рассказы героя полуреальны, полувыдуманны, но одинаково значительны в книге: ведь речь идет о метаниях души, почти истерической потребности героя вырваться из устоявшихся форм общей и собственной жизни и из своего образа, накрепко усвоенного окружающими, но не соответствующего непроявившимся чертам этого же самого человека. Швейцарский литературовед Эмиль Штайгер, скептически настроенный по отношению к современной ему литературе, приветствовал роман Фриша и говорил о том, что перескоки действия, совмещения времен и прочие приемы, которые «обычно и остаются только приемами», наполнены здесь смыслом, необходимы.
Герой хочет уйти от механической предопределенности жизни, где людей приводят к стандартной роли. Он пытается нащупать исходную многовариантность — свободу выбора, которой должен располагать человек, если он хоть в какой-то мере хозяин своей судьбы. Роман зафиксировал опустошенность людей, получающих жизнь из вторых рук, через сложившийся уклад, а не через собственный или исторический, порой трудный опыт.
Тема «Штиллера» была сейсмографически точным отражением социально-психологической реальности западного мира47. Видимо, поэтому, а не только благодаря мастерству, роман сразу получил общеевропейский и мировой резонанс. Ведь приблизительно через полтора десятилетия на улицы многих городов Западной Европы и США вышли сотни тысяч студентов, отнюдь не напоминающих «внешними данными» героев Фриша, но одержимых тем же стремлением — «выскочить» из предписанного им образа, существовать вне установлений, отмести общепринятые нормы — государственные, правовые, нравственные, эстетические.
Однако Фриш предвидел и больше: в «Штиллере», как раньше в пьесе «Граф Эдерланд», а позже в романе «Назову себя Гантенбайн», он показал, что человек не может обрести свое настоящее «я» путем произвольного, анархистского бунта.
Невероятный случай переворачивает жизнь преуспевающего прокурора — героя пьесы «Граф Эдерланд». Неожиданно для себя он повторяет преступление своего обвиняемого (тоже совершенное по внезапному импульсу). Мартин — так зовут прокурора — берет в руки топор и начинает убивать, а потом возглавляет кровавое восстание против власти. Мотивы его преступления неуловимы. Но уже фамилия героя пьесы — Эдерланд — может о многом сказать читателю этой пьесы. В одном из первых отзывов на постановку пьесы в Цюрихе Фридрих Дюрренматт высказался в том духе, что лишь одно имя главного героя содержит в себе всю идею произведения48. Автор пьесы не случайно настаивал на том, чтобы имя героя писалось так, как это было указано в рукописи — через «Ое» в начале, вместо более привычного «Ö»49, таким образом заглавная буква в названии пьесы — «О» — сближается и с нулем, символизирующем ничто, смерть, пустоту, и с кругом — символом вечного повторения. Впрочем, приблизительно теми же значениями наделено и немецкое слово «öde», которое значит «пустынный», «пустой», «бессодержательный», «однообразный», «скука», «тоска» и которое входит в фамилию героя пьесы. (Полностью имя «Oederland» можно перевести как «тоскливая страна».)
Герой этой пьесы не питает иллюзий относительно своей размеренной жизни: он вполне осознает ее призрачность, «ненастоящесть». Почти за два десятилетия до появления книги «Общество спектакля» (1967) ультра-левого французского философа Ги Дебора, одного из идеологов и активных участников парижских событий 1968 г., Фриш в своем драматическом произведении — и почти с той же резкостью — высказывает устами главного героя мысли, аналогичные идеям французского философа-авангардиста, утверждавшего, что в современном обществе «фетишизируется свободное время человека... фантазия уничтожается, свобода перелицовывается в дурную бесконечность потребления»50, а человек «становится рабом скуки как современной формы социального контроля»51. «Все довольствуются своей призрачной жизнью, — говорит Прокурор. — Работа для всех добродетель. Добродетель — эрзац радости... есть другой эрзац — развлечения; свободный вечер, воскресенье за городом, приключения на экране... пожизненная надежда на эрзац». С таким положением дел герой решает порвать самым радикальным способом; но этот разрыв с утверждавшимся в течение многих лет и оттого ставшим безжизненным порядком достигается ценой эксцесса — восстания. Свергнув власть, герой ввергает общество в хаос, из которого «вырисовывается новый, еще более ужасный порядок»52 — круг замыкается, история повторяется: и в конце пьесы герой снова не может отличить иллюзию, сон от реальности: один «спектакль» сменяется другим (не случайно финальная ремарка сообщает нам о солдатах в «опереточной униформе»53). Мечта о том, чтобы «просто жить, здесь и сегодня», «безо всякой надежды на другой раз», оказывается не только неосуществимой, но и бессодержательной. Человеку не хватает чего-то более существенного, чем просто изменение обстоятельств и своей в них функции. Прокурор может стать графом Эдерландом, главой разорвавших личные и социальные связи аутсайдеров, а Штиллер объявить себя Уайтом и уехать скитаться в Америку — они все-таки не уйдут от себя в действительности, не изменят по существу ни своей, ни чужой жизни.
И в этой пьесе Фриш не давал ответа. Он лишь задавал вопросы, ставил проблему.
Когда-то Фриш написал о возможности применить в прозе драматургическую технику Брехта, разрушавшую для зрителя иллюзию фатальности разворачивавшегося на сцене действия. Из творчества Фриша не следует вывода о необходимости радикального социального переустройства мира, к которому исподволь подводит читателей и зрителей писатель-марксист Брехт. Но, как и Брехт, Фриш стремится показать читателю вероятность разного хода жизни и заставить задуматься в этой связи о назначении человека.
Уже структура романа «Назову себя Гантенбайн» подсказывает сомнение относительно непреложности судьбы. В своей прозрачной, легкой прозе Фриш исходит из сложной задачи, не решавшейся до него романистами с такой смелостью. Он заставляет героя переживать сразу несколько жизней, ставит одновременно несколько опытов на одной площадке. В романе нет неотступно развивающегося действия, как нет и постепенно раскрывающихся характеров. Автор занят другим. Некое условное лицо — рассказчик, ведущий повествование, — придумывает себе, а заодно и другим персонажам возможные биографии и воплощения. Здесь нет тяжелого сопротивления реальности, которое так ощутимо в «Штиллере», — в этом романе как будто возможно все. Сюжет распадается на отдельные истории, объединенные зачином «Я представляю себе...», и каждая из них имеет по нескольку вариантов; опробываются по меньшей мере два пути, например: мужчина и женщина расстаются после проведенной вместе ночи. Дальше возможны такие варианты: герой уезжает, и так обрывает начатую любовную аферу, или она становится его жизнью. В каждом случае он превратится в одного из двух существенно не похожих друг на друга людей: угаснут одни способности, разовьются другие.
Фриш не дает читателю проследить судьбы своих героев до их естественного конца. Дело, полагает он, не столько в них, сколько в том видимом и невидимом в человеке, что является его сутью. В поисках сути он свободно меняет истории персонажей, меняет, по собственному признанию, «как платья». В романе рассказано, например, о знаменитой актрисе Лиле, женщине талантливой, прелестной и беспорядочной. Но позже рассказчик изменяет свое намерение: Лиля становится просто хозяйкой дома, потом врачом, потом — итальянской графиней. Рассказчик меняет занятия Лили и ее связи с людьми так же легко, как цвет ее волос. Где же, когда и в каком случае Лиля больше всего она сама?
Этот роман возвращает нас к «Дневнику 1946-1949» не только высказанными уже там мыслями об изменчивости человека. «Гантенбайн», как и все творчество Фриша, в какой-то мере воспроизводит сам принцип дневниковой записи. Входящие в его состав «истории» включены в скрытый поток размышлений автора. Их повторения в разных вариантах освещают с разных сторон важную для писателя проблему.
Роман основан на принципе «а что, если?» — на том самом условии, которое, как в игре, высвобождает возможности, дает простор воображению, а попутно — это имеет первостепенное значение — позволяет автору воплотить в свободно меняющихся конкретных ситуациях сложнейшие реальные проблемы существования человека.
Именно Фриш основательней, чем любой другой современный писатель, не только поставил, но и всесторонне проанализировал в своем творчестве проблему «неидентичности» — несоответствия человека самому себе, насильственной отштампованности его судьбы и убеждений, утраты им самого себя — одно из самых болезненных следствий отчуждения личности. Не только в своих «Дневниках» и статьях, но и в романах и в пьесах Фриш, несомненно, писатель философствующий. Он пишет не столько о разных людях, сколько об общем случае — «человек». И как и у великого его предшественника Р.Музиля, действительность кажется ему бедней заложенных в ней, но не осуществленных возможностей. Творчество Фриша не было бы видным явлением литературы XX в., а «Гантенбайн» не признали бы образцом современной художественной прозы, если бы автор не обладал в то же время даром пластического воплощения «абстрактных» проблем, неистощимым запасом выдумки — всем тем, что превращает экспериментальный роман на философскую тему в живое, образное слово о современном мире.
В существовании персонажей романа мало обязательного. Гантенбайн может стать, а может и не стать, например, «слепым». Он может любить, а может не любить. Он «растекается» между возможными вариантами своей жизни; он так же неуловим, как занимающий видное место в романе ученый-филолог Эндерлин.
Обретя свободу выбора в щадящих условиях романа (нужных, чтобы выяснить некоторые особенности сознания современного человека вне давления на него обстоятельств), ни один из героев не находит пути, который был бы подсказан внутренней необходимостью — склонностями, чувствами, убеждениями. Задача жить полноценной жизнью оказывается трудноразрешимой в нарисованном Фришем мире, даже при идеальных условиях бесконечного разнообразия предложенных человеку дорожек и возможностей изменения. Очевидно, для этого нужны какие-то иные, реальные условия и иные стимулы.
По сравнению со многими другими произведениями Фриша «Гантенбайн» кажется спокойной, легкой книгой. Но такое впечатление поверхностно. «Назову себя Гантенбайн» — произведение трагическое, горькое. Особенно потому, что написано оно о явлениях обыденных, распространенных, а значит, имеющих далеко идущие следствия. Автор намеренно пишет о ситуациях вполне банальных, он, по видимости, занят частным существованием людей — теми проблемами семьи, любви, ревности, которые касаются всех. Фриш не хочет давать своим читателям возможность отстраняться от стоящих в мире вопросов. «Мораль индивидуума, — сказал однажды писатель, — должна заключаться в том, чтобы не молчать, не надевать маску равнодушия, когда вокруг совершается зло... ведь “гантенбайнизм” — весьма распространенное заболевание»54.
Вот эпизод в «Гантенбайне», когда рассказчик вспоминает о, казалось бы, незначительном случае из своего прошлого — восхождении на одну из малых вершин швейцарских Альп, совершенном им в 1942 г. во время однодневного отпуска с гарнизонной службы на швейцарско-немецкой границе. В отрешенном спокойствии высокогорья он неожиданно встречает человека, в котором сразу же признает солдата вермахта. Никаких рациональных оснований для столкновения между попутчиками не было. Однако впоследствии рассказчик узнает, что именно в том районе и в то же самое время производились обследования местности с целью возможного размещения фашистских концлагерей. Был ли тот неопытный альпинист, гордо обвешанный атрибутами горного снаряжения, одним из присланных сюда «специалистов», осталось неизвестным, но никогда впоследствии героя не покидало тяжелое чувство тайной капитуляции перед реальностью, от которой он предпочел уйти в мир видимости и масок.
А вот еще один столь же ненавязчиво поданный эпизод. Гантенбайн появляется на заседании суда, где, как он знает, только он может доказать невинность человека, подозреваемого в убийстве: «слепой» Гантенбайн видел его мирно кормящим лебедей в тот самый момент, когда совершилось преступление. Чтобы спасти человека, нужно выйти из роли и выполнить обязательства, которые диктуются нравственными нормами. Но Гантенбайн и тут неуловим: он покидает зал суда, так и не сказав правды.
Гантенбайн представляет собой модель атрофии личности, атрофии общественного сознания и вытекающего отсюда приспособленчества к любой навязанной обстоятельствами и собственной выгодой роли.
Через пять лет после романа Фриш написал пьесу «Биография» («Biographie: Ein Spiel», 1968). В ходе действия выявлялась неспособность героя — интеллигента, ученого — прожить по-новому свою жизнь. Получив заманчивую возможность переиграть все сначала, Кюрман не в силах преодолеть давление общественных и личных обстоятельств, определяющих его поведение, но он не может и увидеть цель и смысл в сложившемся для него существовании. Что из того, что решающая ситуация повторится еще раз? Структура личности уже отштампована. Что из того, что множества людей не коснулось испытание историей? Фриш точно выявляет шаткость сознания в современном обществе: напряженно-внимательное, творческое отношение к жизни заменяется стереотипными реакциями и поступками. В безличностном существовании, какое ведут его герои, Фриш видит общественную опасность.
В 1953 г. на немецком радио впервые прозвучала одна из самых острых политических комедий Фриша «Господин Бидерман и поджигатели». Обыватель, владелец небольшого парфюмерного заведения, пускает в свой дом преступников, собирающихся поджечь город, а потом уговаривает себя, что это — мирные люди, несмотря на то, что к нему на чердак перетащены канистры с бензином, потом — дает им в руки спички. В пьесе действует хор пожарных, иронически уподобленный хору античных трагедий. Он торжественно призывает Бидермана к бдительности и исполнению гражданского долга. Но обывателя не удержать сентенциями, когда на карту поставлено его буржуазное благополучие, пусть даже за него и придется заплатить ценой, о которой Бидерман даже и не задумывается — ценой гибели других. Пьеса о Бидермане была задумана Фришем как пьеса о взаимоотношениях множества обывателей, подобных Бидерману55, с историей. Именно в ее тексте есть, в частности, мимоходом оброненная фраза, которая, вероятно, может служить концентрированным выражением собственного подхода Фриша к давно замеченным писателем проблемам, а вместе с тем и выражением его представления о состоянии современного мира: «Все ведь происходит не так, как ожидаешь... а постепенно, и в то же время внезапно».
Постепенно и в то же время внезапно для человека происходят метаморфозы его собственной души. Постепенно, без ясного и четкого проявления вовне, накапливаются внутренние мощности, готовые внезапно сотрясти общество...
Так, внезапно, совершается превращение обыкновенных людей в преступников в пьесе Фриша «Андорра» («Andorra», 1961). Действие в пьесе разворачивается в некоей условной маленькой стране Андорра, соседствующей с могущественной диктаторской державой «черных». Перед началом каждого акта кто-нибудь из действующих лиц произносит речь в свое оправдание: нет, он не виноват в убийстве иностранки и казни еврейского мальчика Андри — событиях, пока еще не происшедших в пьесе. Еще ничто не предвещает дальнейшего трагического развития, но на главной площади города уже врывают в землю столб. «Может быть, тянут телефон?» — спрашивает один из персонажей с той же невинностью поведения, как и у готовых убить Илла жителей дюрренматтовского города Галлена в пьесе «Визит старой дамы». Но зритель уже знает: строят виселицу. В конце концов, когда «черные» врываются в Андорру, жители, пытаясь выгородить себя, выдают в качестве жертвы изгоя Андри.
В пьесе «Андорра» Фриша интересует не только психология социального преступления, но и психология жертвы. Узнав, что он не еврей, мальчик Андри не может в это поверить: он сжился с участью преследуемого. Он остается в положении жертвы, согнувшись под тяжестью ненависти, он не может распрямиться, постепенно в нем зреет решение — он сознательно принимает сторону преследуемых. Так еще раз — в остром политическом аспекте — всплывает для Фриша тема изменчивости человеческого сознания, тема маски, которую ненависть людей насильственно надевает на человека, роли, которые ему приписывают и заставляют играть, сознательной жизненной позиции, которая может и должна заменить искусственность роли.
Этой главной для Фриша проблеме посвящен и «роман-отчет» «Homo Фабер».
В романах «Назову себя Гантенбайн» и «Штиллер» Фриш с самого начала показывает человека «снявшимся с места»; автор опускает один из самых трудных для художественного анализа и в то же время напряженнейших моментов — момент, когда для героя (как в «Штиллере») или для рассказчика (как в «Гантенбайне») становятся ясными ложь и притворство «нормальной» жизни. Действие начинается с бегства — с судорожных поисков иного пути, новой истории, роли, новой биографии. В «Homo Faber» показан процесс осознания человеком недостаточности и пустоты его жизни. В этой книге Фриш занят «археологией человека», он пытается обнаружить глубинную суть человеческой личности, показать, что человек — не есть лишь конгломерат навязанных ему извне свойств, что личность неуничтожима, что слово «я» — это твердая, хоть и меняющаяся реальность. И в этом романе Фриша интересует герой, который изменяется, — но, изменяясь, он все больше становится самим собой.
К пятидесяти годам инженер Вальтер Фабер, живущий в США и работающий по заданию ЮНЕСКО, достиг того, что получается не у всех: он живет так, как считает нужным и как хочет. Ему, «техническому человеку» XX в., неведомо смятение страстей. Техника для него не есть нечто стороннее. Ее точность, рассчитанность — это часть его собственной души и жизненного уклада. С ним, однако, случаются происшествия, своей ужасающей неотвратимостью явно напоминающие суровость античного рока, причем именно техника играет решающую роль в цепочке трагических для Фабера событий: ломается самолет, на котором он летит в Панаму, в решающий момент отказывает машина, на которой Фабер пытается довезти до больницы свою дочь, укушенную ядовитой змеей, и т.д. Примечательно название печатной машинки, на которой Фабер вплоть до последних дней жизни набивает свой «отчет» и с которой расстается лишь перед смертью. Механизм, заменивший в конце XIX в. акт письма посредством человеческой руки и «живого» почерка, называется «Гермес» — так отмечена та амбивалентная роль, которую техника занимает в мире героя: с одной стороны, это имя бога, который, по одному из преданий, дал людям письменность, но он же — и проводник в мир смерти.
Фабула романа построена Фришем как опровержение «мифа», созданного героем о себе. Его холодная неуязвимость рушится под напором испытаний. Захватившая его любовь оказалась кровосмесительной связью с собственной дочерью от брошенной им когда-то женщины. Развитие действия встречается с потоком воспоминаний Фабера о прошлом. Поступки, представавшие когда-то логичными, начинают вызывать нарастающие сомнения. Все яснее становится скудость человека в чувствах и — здесь нередко встречается соответствие — его полная общественная индифферентность.
Это только так кажется, что Фабер вначале абсолютно свободен, что, как и герои «Гантенбайна», он располагает выбором: иметь или не иметь любовницу, менять друзей, место жительства, быть хозяином себе и своей работе. На самом деле он лишен важнейшей способности — жить. Обретение самого себя — а это и начинает происходить с героем — исключает возможность различных биографических вариантов. Реальность столкнула Фабера с событиями, которые перевоссоздали суть его личности. Как когда-то герой знаменитого романа Гельдерлина, Гиперион, стоя перед древними воротами Адриана в Афинах, герой Фриша чувствует «нереальность современной ему жизни», он тоже находит, что — по сравнению с жизнью, что кипела на этом месте в прошлом, — теперь все застыло на месте56. Много лет спустя Фриш так интерпретировал последние сцены своего романа: «Фабер живет, как живем мы все — так, словно жизнь — это сумма переживаний, которые находятся на одном векторе. Но на самом деле, это — парабола, которую ты когда-нибудь пересекаешь в ее высшей точке. Самое страшное для Фабера — это то, что он вдруг понимает: он сделал несколько неправильных шагов, и теперь жизнь уже не может двигаться дальше»57. Однако эти же события поставили его в связь с людьми, которым он раскрылся и отдался целиком, они заставляют Фабера (и читателя, которого, впрочем, Фриш непрямо, методом палимпсеста58, подводит к этой мысли) осознать, что бытие подлинного человеческого «я» определяется не социальными, политическими и экономическими факторами, а причастностью каждого человека к жизни другого, и к жизни своего рода, «потому что ведь и человек подчиняется природным законам становления и умирания, он страшно и неотвратимо сплетен с ритмами органической жизни»59.
В финале книги герой не располагает никакой внешней свободой. Больной раком, он обречен на смерть. Дочь Фабера и Ганны Сабет60 погибла во многом по вине Вальтера — и техники, которая не смогла диагностировать смертельную травму. Между Фабером и Ганной — и эта могила, и судьба Ганны, исковерканная Вальтером дважды. Но тут случается почти невозможное, но понятное и объяснимое: реализуется свобода и сила человеческого Духа, через все случившееся люди протягивают друг другу руки.
В этом романе Фриша есть страницы удивительной пластической выразительности. Белые и черные краски Греции, где происходит трагическая развязка романа, описания белых гор и камней античных построек и черной земли, цветов, которые уже через час высыхают на могиле. Все контуры как будто предельно прояснены — краски сгустились до ослепительных контрастов света и тени, белого и черного, но мир героя наполняется звуками, веяниями, запахами. Умирающий homo Фабер понимает, что значит жить.
В позднем творчестве Макса Фриша встречаются многие темы его прежних лет, однако повернуты они каждый раз по-разному.
В повести «Синяя Борода» («Blaubart. Eine Erzählung», 1982) рассказана история о человеке, у которого было шесть жен и одну из них задушили галстуком. Возникает подозрение, что задушил ее бывший муж. Ведется расследование. Привлекается множество свидетелей. В том числе остальные пять жен. Проза пестрит диалогом: вопросы судьи, ответы свидетелей. Все это перемешивается с мучительными размышлениями героя. Собственно, диалог звучит в его воспоминаниях и воображении. Читатель между тем уже знает, что герой оправдан за недостатком улик. Детективный сюжет перестает занимать внимание. Повесть становится все более интересной психологически и социально.
Оказывается, например, что хоть человек и оправдан, его приемная (по профессии он врач) теперь пустует. К человеку, как это не раз показывал Фриш, накрепко прилипает превратное мнение, ярлык, насильственно надетая маска. Ведь и в пьесе «Андорра» мальчик Андри гибнет, ибо на нем клеймо еврея. То же происходит и с героем повести «Синяя Борода» — в глазах других он — преступник, хотя вина его не доказана; поэтому его кабинет пуст.
Но социальное содержание повести не исчерпывается этим. Сам герой считает себя виноватым. Он не убивал свою бывшую жену, но что-то в его жизни было не так. Он, безусловно, виноват — это человек без прочных связей, без определенной линии. В конце концов, герой объявляет себя виновным, а когда это обвинение не принимается (нашелся настоящий убийца) — врезается своей машиной в дерево.
В повести Фриша лишь одно лицо не дает свидетельских показаний. Это убитая: она загадочно улыбается с фотографий в альбоме, будто недосказав что-то. Недосказанность, «воздух» вообще характерны для этой повести. Автор ждет размышлений от читателей...
В 1970—1980-х годах Фриша все больше начинает занимать тема старения и смерти, важная уже, например, в романе «Homo Фабер». Проблема же старости усиленно дискутировалась в Европе после 1968 г. «новыми левыми» в связи с проблемой конформизма: считалось, что все люди старше тридцати «стали конформистами или становятся ими и, следовательно, «устаревают» для дела социального переустройства»61. Публичные споры на эту тему «спровоцировали» Фриша на целый ряд раздумий, включенных им в «Дневник 1966-1971». Вскоре эта тема вышла на первый план и в художественном творчестве писателя — в повестях «Монток», «Человек появляется в эпоху голоцена» и в пьесе «Триптих» («Triptychon. Drei szenische Bilder», 1979). Конечно, это было связано и с возрастом самого писателя. Но не менее важно и то, что Фриш не хотел молчать о самом существенном для каждого человека.
Старость и смерть ставятся писателем в связь с некоторыми характерными чертами человеческой натуры. Человеку свойственно, написал он во втором дневнике, отгораживаться от старости, до последней возможности утверждая, что происходящее со стариками не имеет к нему отношения. Мысль охватывает только часть жизни — от пугающего ее конца она отворачивается. Возможно, Фриш потому и писал в последние годы своей жизни так много о старении и смерти, что эта область сопротивляется вторжению разума.
В повести «Человек появляется в эпоху голоцена» о старости говорится без прикрас. Господин Гайзер, в прошлом — глава промышленной фирмы, одиноко доживает свой век. Дела фирмы, управляемой теперь зятем, больше не интересуют его. За окном его дома несколько дней подряд идет дождь. Дороги размыты; автобус не ходит. В хозяйстве господина Гайзера все тоже начинает стремительно разрушаться: треснула кирпичная стена в саду, вода затопила погреб, нет электричества — оттаял холодильник, не работает телевизор. Гайзер заперт в своем доме, как в крепости или тюрьме. Автора повести занимает сознание старого человека, процесс угасания этого сознания и сопротивления угасанию. Фриш наглядно представил то, что рано или поздно произойдет с каждым. Как свидетельство этих процессов на стенах комнаты трепещут записки и вырезки из книг с совершенно необходимыми господину Гайзеру сведениями.
Какова же цель этого повествования о старости, чем дальше — тем все более беспомощной? Рассказ перебивается пространными цитатами, составляющими текст тех самых записок, которые развешивает герой повести. Сухо, без патетики звучат отрывки из Библии — например, о всемирном потопе. Читателю вместе с героем напоминают о смене геологических эпох или о составе и отмирании мозговых клеток. Ситуация старика — дождь, разрушения в организме — ставится в широкий контекст, в какие-то, хоть и весьма ненавязчивые, связи с историей земли, с историей человечества. Человек, читает Гайзер, занимает совершенно исключительное место во вселенной: он единственный осознает свое положение в мире и во времени. В общий контекст ставятся и разрушения, которым подверглась за дождливые дни деревня. Они описаны вполне точно: потоки воды снесли два моста, разрушили лесопилку. И все-таки контуры происшедшего размыты: все вымерло, пусто. Человек, появившийся в эпоху голоцена, напоминает нам Фриш, хрупок. Разрушаем, непрочен, неустойчив, «стар» окружающий его мир, и в любой момент человек может исчезнуть.
Помнит о старости и герой романа «Монток». Монток — разъясняет писатель — это «северный выступ Лонг-Айленда, в ста десяти милях от Манхеттена». Точно обозначено и время действия — 11 мая 1974 г. На первых же страницах автор заявляет, что попытается просто описать уикэнд, проведенный им здесь с молодой малознакомой американкой по имени Линн. Все как будто бы наоборот по сравнению с повестью «Человек появляется в эпоху голоцена». Вместо вымысла — биографичность, вместо скудеющей жизни — ее богатство, вместо беспамятности — воспоминания о прошлом. Поездка к океану, прогулка по лесу, прибой или кружение чаек над бесцветным песком, возвращение в город, расставание представлены как сумма впечатлений, порой пронзительно острых именно потому, что за ними встают воспоминания о днях прошедшей жизни.
Но у этих поздних и, казалось бы, непохожих повестей есть общее. Одна из них не абсолютно вымышлена, другая не полностью автобиографична. То, что вымысел у Фриша имеет биографическую основу, еще раз доказывают воспоминания автора «Монтока». С другой стороны, многочисленные авторские признания в «Монтоке», где, как подчеркивает Фриш, он писал о себе и только о себе — предмете «малоинтересном» и не имеющем «общественного значения», тоже стеснены художеством. Повесть Фриша — попытка остро пережить и полно ощутить мгновение: все здесь будто в последний раз. Важным кажется существовать, жить, жить просто, как живут чайки, но и внутренне не спасовать, оказаться на высоте хотя бы перед внутренним своим судом или, как выражается Фриш, «выстоять перед ярким светом».
В сосредоточенной на текущем прозе неожиданно возникают отчужденные «он», «она». Порой в одной фразе Фриш ставит «он» вместо «я» и продолжает рассказ в третьем лице, будто наблюдая происходящее со стороны. Что это, знакомая по его прежним произведениям игра в роли или, быть может, автору и всегда важно было целомудренно скрыться, чтобы образно, но зато и без утаек воплотить свой жизненный опыт?
Местоимение «он» мелькает лишь на ближнем, монтокском плане. В повести есть и иное время, и иной пласт, вернее, пласты реальности. Живя настоящим, автор в не меньшей мере живет прошлым. Там действует только «я», отстранение достигнуто уже тем, что годы, события, люди канули в Лету. Побережье Атлантики вызывает в памяти «иные волны». Старая боль наплывает на глубины и, продолжая вникать в рассказ об американке Линн, читатель начинает сомневаться в том, в чем, наверное, не сомневался автор: о любви ли вся эта история? Чего больше в затрудненном диалоге на чуждом для автора английском языке — прелести новизны, когда каждая мысль кажется высказанной будто впервые, или мучительной невозможности выразить внутренний мир в слове?
В «Монтоке» о внутренней и внешней жизни человека по имени Макс Фриш мы узнаем больше, чем из всех его прежних книг. Мы узнаем о трудных годах, проведенных им в бедности, и о его отношении к материальному достатку, обретенному на вершине писательской славы. В мир личных воспоминаний и впечатлений врываются политические события. Книга, начатая, как признавался писатель, из побуждений сугубо частных, оказывается естественно открытой для проблем современности.
В двух поздних повестях Фриша, связанных, несмотря на все их несходство, чувствуется горько-радостное ощущение жизни. И тут оно, может быть, связано с приближением старости. Но как бы то ни было — это то самое отношение к жизни как к дару, из которого выросло лучшее в творчестве Макса Фриша.