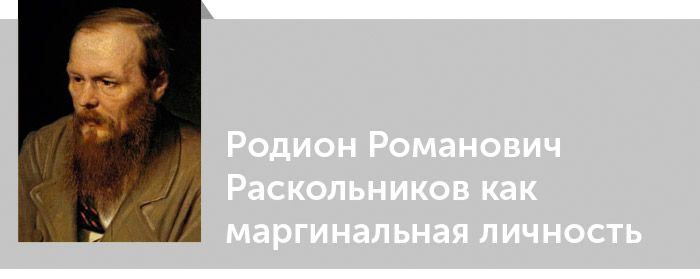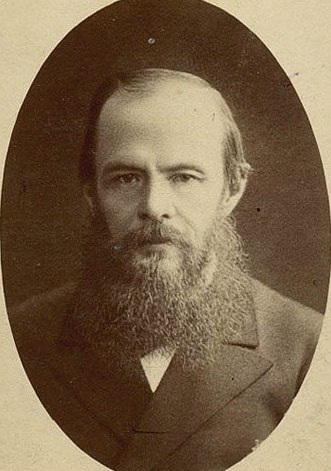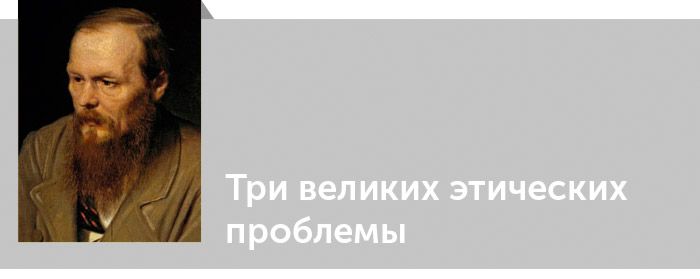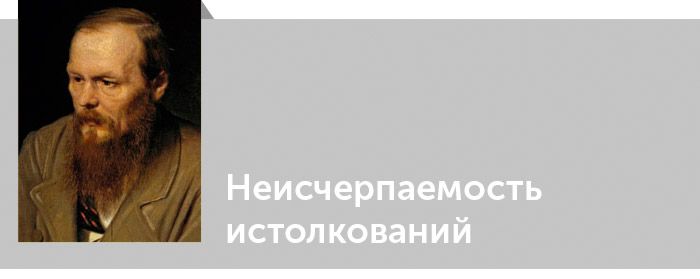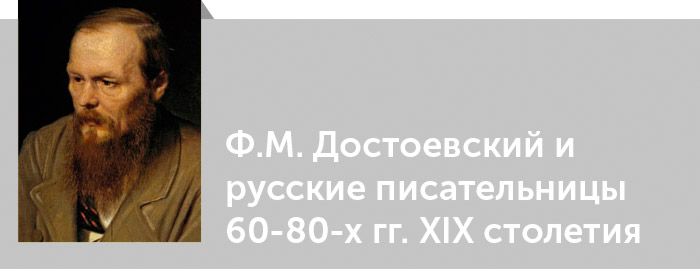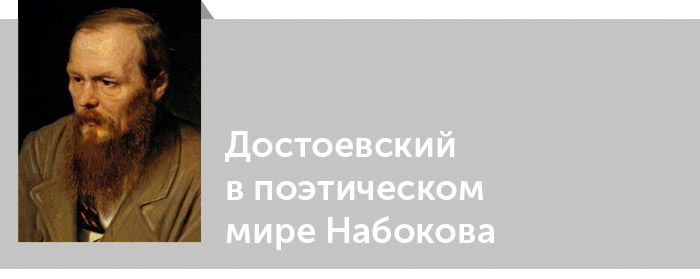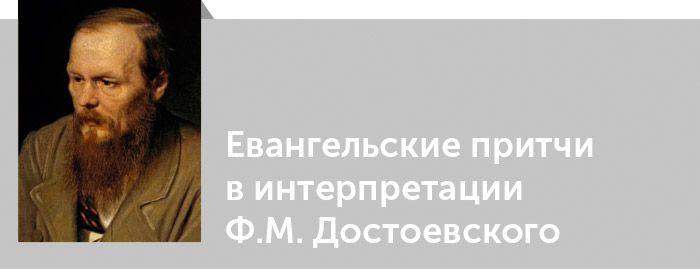Миф о «Братьях Карамазовых». Какой Достоевский нужен современной России?
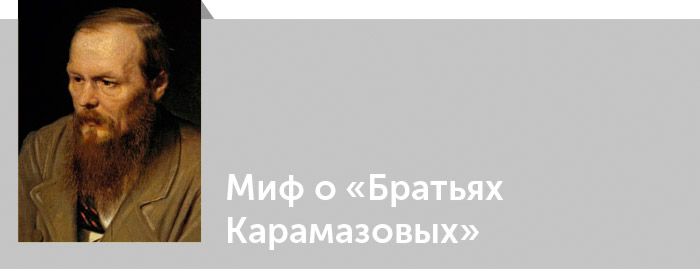
А.В. Белокобыльский
Государственный университет информатики и искусственного интеллекта, г. Донецк, Украина
Миф о
«Братьях Карамазовых». Какой Достоевский нужен современной России?[1]
В статье на основе текста романа «Братья Карамазовы» опровергается позиция И. Евлампиева, который видит в Ф.М. Достоевском по преимуществу гностического мыслителя, а также эксплицируются теоретические предпосылки тенденциозного подхода к творчеству русского писателя. Акцентируется внимание на связи романов Достоевского с православной традицией, а также значимости этой позиции для становления русского самосознания и истории России.
О.В. Білокобильський
Міф про «Братів Карамазових». Який Достоєвський потрібний сучасній Росії?
У статті на основі тексту роману «Брати Карамазови» спростовується позиція І. Євлампієва, який вбачає у Ф.М. Достоєвському переважно гностичного мислителя, а також експлікуються теоретичні передумови тенденційного підходу до творчості російського письменника. Робиться акцент на зв’язку романів Достоєвського з православною традицією, а також на значимості цієї позиції для становлення російської самосвідомості та історії Росії.
O.V. Bilokobyl’skiy
The Myth about “The Karamazov Brothers”. Which Dostoyevskiy the Modern Russia needs?
In the article the position of I. Evlampiev, who considers F.M. Dostoyevskiy, for the most part, as a gnostic thinker, is being disproved on the basis of the text of the novel “The Karamazov brothers”. Also, theoretical preconditions of tendentious understanding of the creative work of the Russian writer are being explicated. Besides, the relationship between Dostoyevskiy’s novels and orthodox tradition and the importance of this position for establishing Russian self-consciousness and the history of Russia are being indicated.
Пожалуй, все глобальные события сегодня происходят в контексте спора о религиозных «ценностях». Слово «ценности» заключено в кавычки в первую очередь потому, что вне зависимости от того, имеем ли мы дело с «прокурорами» религии или ее «адвокатами», понятие ценности переводит религиозные смыслы в светское измерение. Современное западноевропейское цивилизационное пространство (пространство Модерна), секуляризированное в основных своих измерениях, взрывается изнутри и разрывается извне импульсами, исходящими из замкнутых в себе религиозных универсумов. Собственно «столкновение цивилизаций» глазами западного ученого – это и есть столкновение пострелигиозного (Модерн) и религиозных («конкурирующие» с Модерном культурные универсумы) миров. Поэтому защитники значимости религиозных конфронтаций лишь настаивают на серьезности проблемы и указывают на опасность недооценки религиозного фактора. Однако даже они зачастую далеки от осознания истинной природы цивилизационных столкновений, религиозной с обеих сторон.
Кроме того, если речь заходит о философском дискурсе постсоветского пространства, нельзя не вспомнить о феномене философского атеизма, породившего уникальный симбиоз искреннего отрицания рациональной значимости любых конфессиональных форм с внутренним признанием наличия надбытийных сил – специфического рационального мистицизма, до сегодняшнего дня угадывающегося в произведениях многих наших религиоведов. Интересно, что научный атеизм, даже переродившись в современное постсоветское религиоведение, представляет собой завуалированную форму реализации религиозности, причем форму сугубо рациональную, которая в той или иной степени свойственна многим, даже хорошим философам.
Все сказанное выше приходит на ум в связи со статьей И. Евлампиева «Миф о человеке в романе Ф. Достоевского “Братья Карамазовы”». Творчество, да и сама фигура Федора Михайловича Достоевского давно стала краеугольным камнем в дискуссиях о судьбах России. С одной стороны, без Достоевского невозможно осмыслить российского прошлого, нельзя понять настоящего и увидеть будущего. С другой – в зависимости от того, в какое смысловое пространство будет помещено наследие столь знакового писателя, находится идеологическая перспектива понимания России. Бесспорная вершина творчества Достоевского – роман «Братья Карамазовы» – неоднократно становился предметом теоретического анализа. В нем видели произведение преимущественно социально-критическое, антропологическое, даже метакритику «Критики чистого разума». Например, Я. Голосовкер доказывал антикантианскую направленность «Братьев Карамазовых», которые, с его точки зрения, выступили своеобразной критикой «Критики чистого разума». Однако даже на фоне самых неожиданных интерпретаций подход И. Евлампиева удивляет своей парадоксальностью: в бесспорно христианском произведении, главные герои которого либо прямо обнаруживают верность ортодоксальной доктрине, либо, как минимум, не демонстрируют склонности к реформаторству, он находит гностическое учение, чуть ли не его манифест. Можно было бы ожидать, что свои оригинальные выводы И. Евлампиев обосновывает исходя из художественного замысла Достоевского, воплощенного автором в романе. Тем более что в самом начале статьи ее автор делает многообещающее заявление о несомненности того факта, что «в романе нет ни одной детали, которая не была бы подчинена целому…». Впрочем, на той же странице оказывается, что общий философский замысел романа ему не известен: «К сожалению, до сих пор мы не имеем даже приблизительного эскиза всей той грандиозной философской постройки, которая скрыта за богатым фасадом романной жизни героев» [1, с. 70]. Выяснению правомерности интерпретации Евлампиева, а также уточнению места последнего романа Ф.М. Достоевского в трансформациях современной российской ментальности и посвящается настоящая статья.
Текст романа также противится гностической интерпретации. Центром такой интерпретации, по замыслу И. Евлампиева, должно стать специфическое понимание радости как онтологической сущности, выводящей переживающих ее героев за пределы ортодоксальной христианской реальности. Корни гностической концептуализации радости связываются с шиллеровской «Одой к радости», а главного адепта гностической теории радости И. Евлампиев видит в Мите Карамазове. Для подтверждения тезиса о том, что гностическое учение о радости вынашивалось Достоевским давно, вспоминается Кириллов (герой романа «Бесы», покончивший с собой). Далее следует интересная последовательность логических «движений»: читатель заверяется в том, что основные смысловые центры романа – исповеди Мити и Ивана, а также сон Алеши о Кане Галилейской – поэтапно раскрывают мистику радости, которая оказывается выше Бога и дьявола[2] и вообще находится «по ту сторону добра и зла»[3]. А так как Митя в своей вере «оказывается сторонником мистического пантеизма, известной и влиятельной еретической традиции…» [1, c. 71], то и (!) Федор Михайлович Достоевский, вложивший в уста и разум своего героя столь специфическое учение, должен быть не только мистическим пантеистом, но, по всей вероятности, и сторонником баварского ордена иллюминатов (в который «по распространенному мнению» входил автор «Оды к радости» Шиллер [1, c. 75]), то есть сторонником «религиозной традиции европейской культуры», которая была «альтернативной по отношению к христианской культуре и христианской церкви» (выделено И. Евлампиевым). Якобы именно этими гностико-мистикопантеистическими наклонностями автора «Братьев Карамазовых» и объясняется высказанное в письме к Н.Д. Фонвизиной желание быть с Христом, а не с истиной вне Христа[4].
Каждый, читавший роман, почувствует несоответствие между Достоевским – «баварским иллюминатом» и Достоевским – автором романа «Братья Карамазовы». Во-первых, никакого специального учения о радости беспристрастному читателю в романе обнаружить не удастся. Радость, которая так или иначе сопровождает религиозное чувство, выступает в романе своеобразным «индикатором» приближения к Богу человека как телесного, помещенного в природу, существа. Причем первичным является именно приближение к Богу, а не сама радость, так как приближающийся может и не осознавать своей веры, но как бы впитывать сакральное через телесное восприятие. Ярким примером религиозного, но возможно еще не до конца христианского мировосприятия, служит предсмертное преображение брата старца Зосимы. Вообще, именно близость неминуемой смерти открывает человеку божественную природу жизни – это лейтмотив творчества писателя, который сам пережил экзистенциальное предстояние перед небытием. Однако радость – лишь телесный и душевный трепет живого существа перед Богом. Об этом свидетельствует поучение старца Зосимы о возможности счастья после личной трагедии (поучение, во время написания романа, для Федора Михайловича Достоевского очень важное и глубоко личное): «Но можно, можно [быть счастливым с новыми, без любимых ранее, но ушедших]: старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость… а надо всем-то правда божия, умиляющая, примиряющая, всепрощающая!» [2, c. 265]. Несмотря на отсутствие специальной философской терминологии, из слов Зосимы ясно следует земная, «ниже» «правды божией», природа радости. Утверждать ее «запредельность» добру и злу, наделять каким-то сверхбытийным онтологическим статусом, значит – извратить замысел Достоевского, превратить плотские соблазны Карамазовых в нечто самоценное и равное божественной искре в их душах. Только в этом случае Митины компромиссы между высокими духовными идеалами и карамазовским сладострастием можно (что и делает И. Евлампиев) превратить в самостоятельное метафизическое учение и приписать его автору романа! Наконец, само желание Достоевского «быть с Христом», а не с истиной, если истина вне Христа, высказанное в письме к Фонвизиной, следует понимать именно в духе святоотеческой традиции: Христос и есть Истина, а Бог может сделать истину ложью, бывшее небывшим и только Его благая воля является залогом человеческого бытия (мотив, артикулированный в свое время еще Л. Шестовым).
Для того чтобы прийти к выводу (прямо противоречащему духу и букве романа) о близости Достоевскому «мотивов религиозного синкретизма, космополитизма и антихристианства» [1, с. 76], привлекательности для него масонства [1, с. 77], его тяготению к «гностической традиции как таковой», И. Евлампиеву приходится совершить воистину подвижнический труд. Он и привлекает свою концепцию неклассической философии как философии преимущественно гностической [1, с. 78], и «дописывает» роман, привнося в него те строки оды Шиллера, которые Достоевский якобы имел в виду, но в роман не ввел [1, с. 76], находит в словах Мити, вспоминающего о своей причастности не только греху, но и Богу, манифест гностицизма [1, с. 77] и т.д. Все это бесспорно необходимо ввиду того негативного отношения к масонам, «моравским братьям» и прочим «гернгутерам», которое сквозит в тоне автора романа, характеризующего не лучших из своих героев именно этими (негативными, как следует из контекста) ярлыками [2, с. 103, с. 239].
Сам же Достоевский обнаруживает неподдельный интерес к вполне ортодоксальным христианским практикам и глубокие познания в области христианских таинств [2, с. 27], святоотеческих трудов [2, с. 42], традиций старчества (начиная со сцены в монастыре и далее), не говоря уже о знании Священного Писания, истории христианства и т.д. Воспоминания Алеши о словах старцы Зосимы, после его смерти (книга шестая) демонстрируют глубокие размышления автора романа в области православной экклесиологии (учения о церкви), христологии, сотериологии (учение о спасении).
Далеким гностическому является и мировосприятие писателя. Подчеркивая божественное начало природы, Достоевский никогда не отождествлял ее с Богом. Можно сказать, что красота свидетельствует «тайну божию» в той же мере, в которой радость запечатлевает эту тайну в человеке. Каждый раз, когда кто-то из литературных героев подчеркивает совершенство сотворенного мира, за высказанным восхищением обнаруживается уверенность в наличии Благого Творца: «Всякая-то травка, всякая-то букашка, муравей, пчелка золотая, все-то до изумления знают путь свой, не имея ума, тайну божию свидетельствуют, беспрерывно совершают ее сами…» [2, с. 267] или «Если же все оставят тебя и уже изгонят тебя силой, то, оставшись один, пади на землю и целуй ее, омочи ее слезами твоими, и даст плод от слез твоих земля, хотя бы и не видал и не слыхал тебя никто в уединении твоем. Верь до конца, хотя бы даже и случилось так, что все бы на земле совратились, а ты лишь единый верен остался: принеси и тогда жертву и восхвали бога ты, единый оставшийся» [2, с. 291] (выделено мною. – А.Б.). Приведенные фрагменты (равно как и многие другие, например, об исступленной любви к земле как даре Божьем [2, с. 292]) демонстрируют мировосприятие, характерное для многих русских святых, что подтверждается православной агиографией.
Искусственно затушевывая православную сущность «Братьев Карамазовых», И. Евлампиев искажает не только (и не столько!) характеры героев или их поступков, но нечто более значимое. Своей попыткой низвести роман до уровня полемики автора с ортодоксальным христианством он снижает, если можно так выразиться, статус последнего крупного произведения Ф.М. Достоевского. Если мы признаем в «Братьях Карамазовых» всего лишь полемический роман – вне зависимости от того, с кем полемика велась, с И. Кантом (так считал Я. Голосовкер), католиками, социалистами или христианством вообще (если согласиться с И. Евлампиевым), он тем самым ставится в один ряд с современными статьями, монографиями, философскими эссе, теряющими смысл вне дискурсивного контекста. То есть в ряд, к которому роман не имеет никакого отношения. Современная философия зачастую обречена на существование в резервациях господствующих дискурсов, но произведение Достоевского самостоятельно и самодостаточно. Это – роман-перформатив. Он не отсылает к чему-то другому, он сам говорит именно то, что говорит. В нем звучит не мнение мыслителя о роли ортодоксального христианства (православия, гнозиса и т.д.), но голос православного человека, голос бойца! И это «понятие», позволю себе не согласиться с мнением И. Евлампиева[5], – именно «из лексикона» церковного христианства. Алеша в романе как раз не является монахом, поэтому утверждение о том, что «православная вера и путь монаха – это только первая проба еще неопытной, не нашедшей себя души» [1, с. 80], является не только не обоснованной, но и прямо противоречащей замыслу Достоевского. После смерти старца Зосимы Алеша действительно превращается в бойца, но это не «послецерковный» шаг, а шаг именно обусловленный «схождением свода небесного в его душу» [2, с. 328]. В бойца Алешу превращает верность заветам Зосимы и мистическая встреча с Христом. Интересно, что у Достоевского, возможно, были планы не только превратить Алешу в революционера (во второй части романа), но и (по свидетельству Н. Гофман) вернуть его позднее в монастырь.
По всей вероятности вот эта самая подмена образа христианского воина фигурой разочарованного в ортодоксальном христианстве гностика, спешащего обрести другое, внецерковное главное знание и есть основная цель статьи И. Евлампиева. Все остальное – искажения, натяжки, логическая непоследовательность – не более чем средства интеллектуального воздействия на читателя. И у меня есть подозрения, что читателя благодарного: нивелируя перформативность романа, снижая его пафос до уровня теоретической полемики, ретушируя православную сущность «Братьев Карамазовых», современный русский интеллигент спасает «репутацию» Федора Михайловича Достоевского. Не только в современном мире, но и в современной России интеллектуалу нельзя, по крайней мере не модно, быть православным. Пусть с некоторыми усилиями, пусть не до конца убедительно, но сделать из Достоевского гностика – означает вписать его в пространство европейских смыслов: лучше быть обитателем культурного маргинеса, чем лидером православной провинции!
Даже в контексте глобального спора о значимости религии (или точнее в контексте уяснения и переосмысления этого значения), спор о значении православия для российской культуры сегодня (не говоря о прошлом) обострен до предела. Слишком высоким был градус полемики вокруг российского православья еще в позапрошлом веке, слишком связаны с этим феноменом как славянофильские версии примата России, так и западнические развенчания российского «особого пути». Именно поэтому сегодня чем более образован участник полемики, тем реже он говорит о православии прямо: незамысловатые, а иногда прямо вульгарные попытки ура-патриотов втиснуть в православие все то, что «умом не понять и аршином общим не измерить» вызывают идиосинкразию не только у потомков «западников», но и у потенциальных последователей славянофилов. Тем более что, как это не парадоксально прозвучит, схоластическая в своей основе университетская образованность, только на определенном историческом этапе привнесенная в православный мир, сохраняет потенциальную возможность «культурного отторжения» даже в самых ортодоксальных умах. В результате представления Достоевского о «великом предназначении православия на земле» [2, с. 62], православия, ассоциировавшегося у него в первую очередь с православной Россией, оказываются несозвучны ни официальной государственной риторике, сохранившей верность идеалу Третьего Рима, но выхолостившей из этой идеи все религиозное содержание, ни интеллигентским рассуждениям, стесняющимся в своей интеллектуальной рафинированности сермяжного, слишком уж «отсталого» православья.
Но в том то и дело, что самоосмысление России-Руси неразрывно связано с осознанием своей особенности, артикулированной в образе «Святой Руси» и идее Третьего Рима. Смысловая аутентичность сохраняется только в том случае, когда смыслы не вырываются из «среды обитания». Применяя для классификации некоторого феномена шаблон, органично с ним не связанный, исследователь рискует получить результат, который соразмерен шаблонному эталону, а не объективное видение феномена.
Проблема более фундаментальна, чем может показаться на первый взгляд. Ни одно теоретическое рассуждение не может быть полностью редуцировано к герменевтической сфере переинтерпретации смыслов. В основе любой традиции формирования связанных между собой культурных смыслов – то есть в основе любого дискурса – лежит некоторый набор аксиоматических (в логическом отношении) положений, не подлежащий фальсификации и в экзистенциальном плане (в том случае, когда речь идет о дискурсе, фундирующем определенную «форму жизни») представляющий собой исходный дискурсивный перформатив. Речь идет о творческом слове, которое инициирует некоторую прагматическую реальность (языковую игру и связанную с ней социальную идентичность), продолжающую свою жизнь и развитие в дискурсе-практике. Исходные смыслы являются таковыми не в силу метафизической обусловленности свыше, но скорее фиксируют материальную часть реальности, входящей в дискурс в качестве присутствующего, вокруг которого формируется сама прагматическая интенциональность. Если попытаться проиллюстрировать сказанное на примере человеческой личности, то именно наша телесность, входящая в пространство идеальных смыслов в качестве центра человеческой готовности что-либо делать, желать, чем-либо жертвовать и т.д. является залогом не только самой жизни, но и личного смыслового континуума, так как вне решимости на действие и умения его исполнить даже наши представления об истине превращаются в логические софизмы.
Только в случае сохранения экзистенциального звучания исходного созидающего слова мы имеем дело с продолжением жизни сформировавшейся идентичности. Прерывание звучания есть прерывание жизни, которая переходит в новую форму бытия – бытия в виде периферии иных дискурсивных пространств. Однако в этих новых реалиях старые смыслы утрачивают свою аутентичность и экзистенциальную актуальность: между осознанием собственного воления и наблюдением за нашими действиями извне – огромное различие.
Не является исключением и национальная идентичность. Нациоформирование неразрывно связано с трансформациями в культурном поле, сформированным христианской парадигмой. Раннемодерная реальность породила специфический дискурс осознания отдельными субъектами общего религиозного действа (идентичность этих локальных целостностей восходит к дохристианским мифологиям) уникального собственного предназначения. Вокруг изначально мессианских представлений формируются протонациональные целостности современных «старых» наций. Российская национальная идея изначально кристаллизировалась в религиозной плоскости и окончательно была зафиксирована в идее Третьего Рима.
Интересно, что возрождение национального самосознания Северо-восточной Руси в XIV веке до известной степени знаменовало формирование самосознания собственно российского. Готовность к собиранию сил, в том числе и сил военных, необходимых для отпора татаро-монголам, обнаружилась в культурно-политическом образовании, которое правильнее всего было бы назвать Сергиевской Русью. В первую очередь в связи с той ролью, которую сыграло монастырское строительство в деле формирования Руси-России, а также значением Троице-Сергиева монастыря и его первого игумена в этом процессе.
Если в Северо-восточной Руси и можно было видеть единое государственное образование, то это единство обеспечивалось не собственно государственными структурами, но религиозной ментальностью, привязанной к общей памяти и пространству, очерченному миссионерской деятельностью православных монастырей. Зарождение российского национального дискурса, то есть рождение российской нации, неразрывно связано с памятью о не слишком отдаленном в прошлое крещении Руси и идеализированной благополучной христианской жизнью, предшествовавшей катастрофе нашествия. Идеал спокойного служения Богу как главной цели православной жизни реализовывался в новых условиях путем ухода «в пустыню». Согласно сохранившимся свидетельствам доля «пустынных» монастырей в числе всех, основанных в XIV веке, достигает 3/4! Собственно эта новая «пустынная» монастырская Русь, несущая в памяти идеал «Руси святой» и освящавшая его светом все новые и новые земли, и стала изначальным творческим словом созидания России. В прагматической плоскости монастырское строительство имело первостепенное значение с точки зрения колонизации новых земель, так как монастыри становились форпостами не только христианизации язычников, но и намечали пути крестьянской миграции из метрополии, становились центрами культурной и политической жизни. Учитывая общее число известных к концу XIV века (то есть к моменту окончания земной жизни «Игумена земли Русской» Сергия Радонежского) монастырей, которое составляет более 200(!), рождение добрых двух десятков из которых генетически связано с Сергиевской Лаврой, их значение в деле формирования российской государственности трудно переоценить. Именно религиозная основа национального самосознания, а значит, и восприятия себя, понимание своего места среди других народов, определила ту смысловую окраску, которую приобретали докатывавшиеся до российского сознания события. Воспринятые в апокалипсическом свете падение Константинополя (1453) и Флорентийская уния (1439) только подчеркнули мессианскую составляющую русского православного самосознания и были зафиксированы московским митрополитом Зосимой (1492) и монахом Елеазарова монастыря Филофеем (1523) в представлениях о Москве как о Третьем Риме. Однако эти представления являются в первую очередь продуктом живого православного сознания, реагирующего на внешнюю среду и развивающегося изнутри, то есть ступенью, восходя на которую российская идентичность совершала очередной исторический шаг в своем самобытном развитии. Одним из последующих шагов этого пути бесспорно следует признать и произведения Федора Михайловича Достоевского, прежде всего – роман «Братья Карамазовы». Отрицание этого факта является в первую очередь не теоретическим отрицанием – содержание романа говорит само за себя. Речь идет об отрицании права сегодняшнего читателя на восприятие Достоевского как писателя православного и на идентификацию себя с православной общностью, сформированной в пространстве православного дискурса. Бесспорно и то, что Достоевский может быть вписан в контекст любого европейского дискурса, а Россия, даже вне религиозной истории ее становления, не исчезнет в качестве самостоятельного и самобытного государства на востоке Европы. Однако сознательно отрицающий в данном случае должен понимать, что он констатирует конец собственно российского самосознания и требует, чтобы это отрицание приобрело форму культурного императива.
По всей вероятности, глядя на Россию глазами западного интеллектуала и видя в ней аномальное, с этой точки зрения, образование, можно желать прекращения фазы его «ненормального» развития. Однако это и будет означать конец той культурной традиции, которая живет в наследии Достоевского, которая, возможно, не слишком удобна как для европейски образованных интеллектуалов, так и для ориентированной на европейские ценности власти, но которая сформировала сердце и душу России и которая еще жива.
Литература:
1. Евлампиев И.И. Миф о человеке в романе Ф. Достоевского «Братья Карамазовы» / И.И. Евлампиев // Вопросы философии. – 2008. – № 11. – С. 70-83.
2. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. Т. 14. / Ф.М. Достоевский. – М. : Наука ; Ленинград : Ленинградское отделение, 1976.
[1] Анализ статьи И.И. Евлампиева «Миф о человеке в романе Ф. Достоевского “Братья Карамазовы”» [1].
«Наука
[2] …Она (радость) оказывается выше их (Бога и дьявола), поскольку, как говорит Дмитрий, без нее «нельзя миру стоять и быть», и, как сказано в стихотворении Шиллера, она «поит» каждую «душу божьего творенья» [1, с. 74].
[3] Еще можно сказать, что радость находится «по ту сторону добра и зла», поскольку только на ее основе и возникают добро и зло в их противостоянии. Учитывая ту философскую традицию, в рамках которой Достоевский создает свой миф о человеке, нетрудно понять, что здесь имеется в виду радость непосредственного бытия, радость полноты жизни (бытие и жизнь в философском мировоззрении писателя почти совпадают) [1, c. 74].
[4] В письме к Н.Д. Фонвизиной Достоевский пишет: «…если бы мне кто доказал, что Христос вне истины… то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» [1, с. 78].
[5] «Наконец, обратим внимание на то, что встал он твердым бойцом; это понятие явно не из лексикона церковного христианства» [1, с. 80].
Статья поступила в редакцию 01.07.2010.