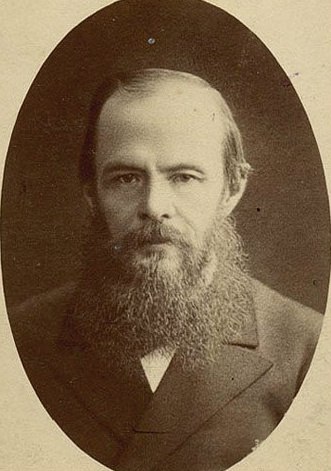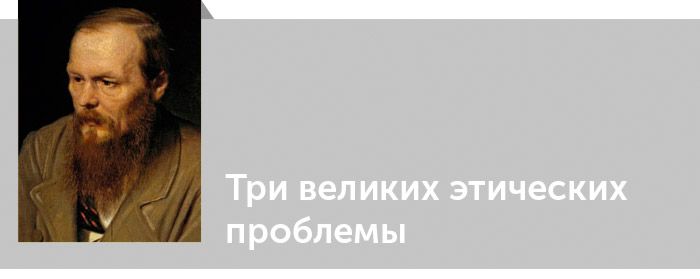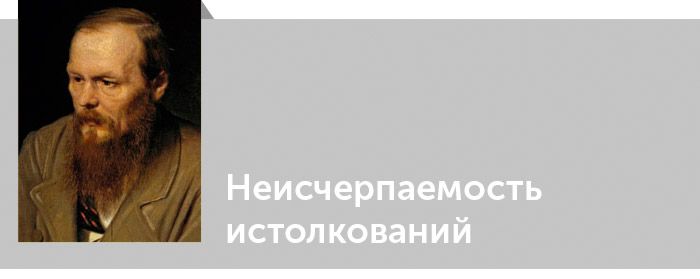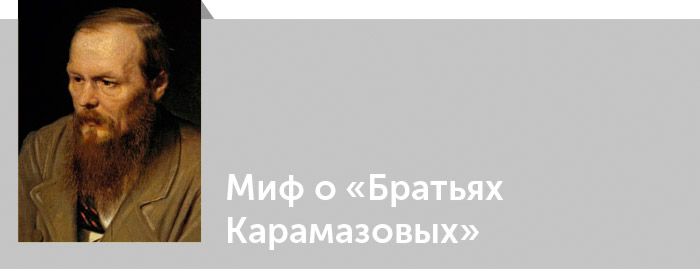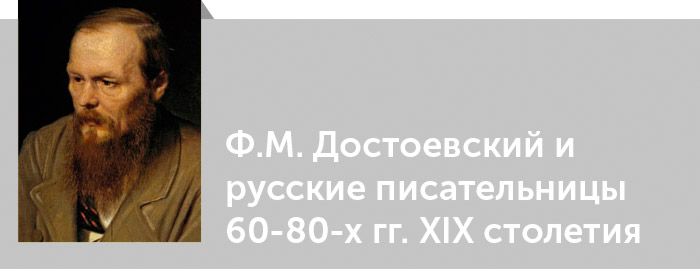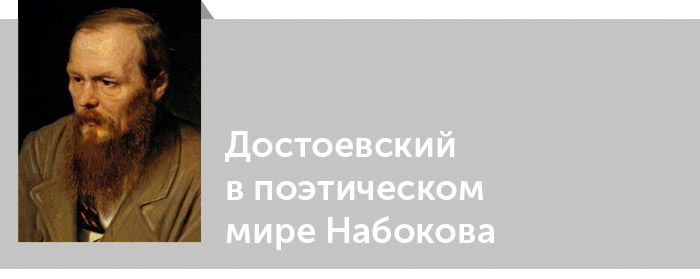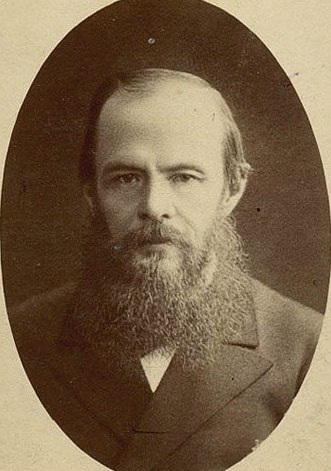Поиски Ф.М. Достоевским нравственных устоев человека

В.Н. ШЕРДАКОВ
Век, прошедший после смерти Ф.М. Достоевского, не только не отдалил, но духовно приблизил нас к писателю. Рост интереса к творчеству Достоевского в значительной степени шел соразмерно тому, как раскрывалась перед читателями глубина философского содержания его романов и публицистики.
В ходе социального развития, с повышением материального благосостояния людей вопросы духовного бытия не утрачивают, а еще более отчетливо выявляют свою значимость.
Идейное наследие Достоевского получило на Западе массу интерпретаций.
* * *
«...Я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки», - писал Достоевский в 1854 г. после освобождения из острога. Спустя 16 лет он сказал о замысле нового романа: «Главный вопрос, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование божие». В этих признаниях, в этих мучительных сомнениях содержится самый общий ответ на вопрос об отношении писателя к религии. Но дело не только в сомнениях. Сомнения присущи большинству верующих, хотя и считаются церковью грехом.
После опубликования «Братьев Карамазовых» на автора посыпались обвинения в ретроградстве. Причину нападок раскрывает сам писатель: «Как?! Достоевский про черта стал писать? Ах, какой он пошляк, ах, как он неразвит!». Не более чем за год до смерти он делает следующую запись в своих тетрадях: «Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание бога, какое положено в «Инквизиторе» и в предшествующей главе, которому ответом служит весь роман. ...Иван Федорович глубок, это не современные атеисты, доказывающие в своем неверии лишь узость своего мировоззрения и тупость тупеньких своих способностей... И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую в Христа и его исповедую...».
Стремление Достоевского к безраздельной, цельной вере не могло все же преодолеть до конца мощных контрдоводов. Следует заметить, что религиозные и атеистические мотивы всегда существовали, развивались в неразрывном противоборстве, часто совмещаясь в сознании одной личности. На материале произведений Достоевского может быть специально исследована диалектика взаимопроникновений и переходов: веры — сомнений — богоборчества — атеизма. Вопрос о «существовании божьем» у Достоевского обретает мучительную остроту не в своей абстрактно-теоретической форме, а в обращенности к смыслу человеческого существования. Он рассматривал вопрос о бытии бога как вопрос о жизнепонимании, каковым этот вопрос, по существу, и является. Связать с жизнью свою веру или свой атеизм, сделать все вытекающие отсюда выводы — духовная задача, стоящая в принципе перед каждым, однако не каждый способен ее разрешить. Для многих как в прошлом, так и в настоящем характерен сознательный или бессознательный уход от решения этой задачи. Как «обезбоженность» охарактеризовал состояние умов на Западе М. Хайдеггер. В этом состоянии человек не может прийти ни к какому выводу относительно бога, не может сказать «нет» и не может сказать «да».
Для Достоевского был пуст тот атеизм, который ограничивался лишь отрицанием бога как фикции, как была пуста и вера в бога, не связанная с определенным жизнепониманием. Если в традиционном богословии сначала обосновывалась идея бога, а затем уже из этого делались выводы, касающиеся жизни, то писатель, оставляя в стороне богословские доказательства бытия бога, исходит из рассмотрения смысла мироздания, смысла исторических судеб народов и отдельной жизни и отсюда пытается вывести ответ на вопрос: «Есть ли бог?» Его размышления чаще всего идут по логическому ходу доказательств от противного. Последовательное атеистическое миросозерцание, как представлялось ему, не может привести к иным выводам, чем нигилизм Ивана Карамазова. Это-то и заставляло писателя-гуманиста стать на защиту религии. Особенности своего подхода к проблеме он сформулировал, в частности, в письмах к Н.А. Любимову (10 мая 1879 г.) и К.П. Победоносцеву (19 мая 1879 г.). «Ныне, — говорит он, — научное и философское опровержение бытия божия уже заброшено, отрицается же создание божие, мир божий и смысл его». В философских воззрениях Достоевского вопрос о вере тесно связан с поисками высшего смысла бытия и истоков «живой жизни».
Понятие «живой жизни» проходит через все творчество писателя и является несомненно одним из концептов его философского миропонимания, выступающего в качестве основного ориентира в подходе к действительности и оценки ее перспективы. Философско-этический смысл этого понятия в силу его широты и многогранности не поддается простому, однозначному определению. Можно сказать предварительно лишь то, что «живая жизнь» у Достоевского противополагается различного рода искусственному, извращенному, болезненному существованию, прежде всего жизни «отвлеченной», «головной».
Христианское учение содержит представление о «жизни вечной», о «жизни истинной», которое Достоевский как приверженец евангельского учения разделял. Однако его «живая жизнь» не вполне то же самое, поскольку она не просто цель и идеал, а нечто действительное, далекое от совершенства и противоречивое. Это то, что есть в реальной жизни и что составляет ее глубинную суть, основу социального и нравственного развития в отличие от наносного, поверхностного, отжившего и омертвелого.
В начальный период творчества антитезой «живой жизни» выступает у Достоевского «мечтательство», которое он считал распространенной болезнью большей части образованного сословия («Петербургская летопись», «Белые ночи»). «Мечтательство» — уход от жизни, добровольное бегство от реального самовыражения в иллюзорное. Тип «подпольного человека» — одно из главных художественных открытий писателя — вырос, можно сказать, из образа мечтателя и несет в себе его существенные особенности. «Подпольный человек» может быть и аристократом, подпольным же он является потому, что не чувствует себя участником происходящего на «этажах» жизни, а смотрит на все из своего угла, сознавая одновременно и негодность действительности, и ущербность, неполноценность своего существования. «Подпольный человек» — не герой. Персонаж, от имени которого излагаются «Записки из подполья», называет себя «антигероем», но эта фигура по-своему трагическая. Трагизм состоит в «самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его». Нельзя ничего изменить, нет доступа к общественной жизни, нет подлинного дела. Жизнь, способности, силы расходуются впустую. Поскольку все таковы, то не стоит и исправляться. На этой почве развиваются озлобленность, мечтательность, замеченные еще А.С. Пушкиным. Деятели типа Костанжогло из «Мертвых душ» Гоголя или Штольца из «Обломова» Гончарова не могут быть образцом, показывающим выход из подполья. Слишком узко их миропонимание и ограничены их цели. Отсюда очевидно, что деятельное, активное начало, не одухотворенное большим нравственным смыслом, соответствует лишь идеалам буржуазной порядочности и мещанского благоденствия, а бездеятельность, пассивность носителя такого смысла — романтическим и сентиментальным идеалам. Обе эти крайности — продукты социального отчуждения.
Достоевский замечает, что в современном ему «высшем человеке» при его жажде веры в идеалы и отсутствии веры рождаются безмерная гордость и безмерное самопрезрение. При столкновении с действительностью он неизбежно падает, оказывается смешным, мелочным и ничтожным. Отвлеченные идеи подчиняют себе героев Достоевского, съедают их так же, как, например, мечтания съедали героя «Белых ночей». Они живут «головной», «отвлеченной» жизнью. «Оставьте нас одних, без книжки, и мы тотчас же запутаемся, потеряемся, не будем знать, куда примкнуть, чего придерживаться; что любить и что ненавидеть... Мы даже и человеком-то быть тяготимся — человеком с настоящим, собственным телом и кровью; стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть небывалыми общечеловеками. Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи», — таков итог размышлений лица, от имени которого ведутся «Записки из подполья».
«Оттого мы пьем, что дела нет». — «Врешь ты, — от того, что нравственности нет». — «Да и нравственности нет от того — дела долго (150 лет) не было». В этом диалоге из предварительных набросков к «Преступлению и наказанию» схвачена важная взаимозависимость: причиной бесцельной траты сил являются условия жизни, отсутствие дела, но сами условия могут измениться только в результате деятельности, т. е. тогда, когда человек найдет дело. Нравственность, с одной стороны, производное от условий, а с другой — предпосылка их изменения.
Под ссылкой на то, что «дела долго (150 лет) не было», имеются в виду реформы Петра. Прогрессивные преобразования Петра сблизили Россию с Европой. «Петр Великий нас сделал гражданами Европы, и мы понесли общечеловеческое соединение идей». Образование стало обязанностью для дворян. Появилось европейски цивилизованное сословие — «общество»; внутри его с течением времени выработалось характерное для передовых умов России сознание причастности к судьбам общеевропейского развития — «всемирное боление за всех». Вместе с тем усугубился отрыв высших слоев общества от народа. Просвещенное «общество» усвоило чужую культуру и даже перешло в общении между собой на чужой язык. Неуважение к своему, к самим себе сделалось своего рода обязанностью, превратилось в традицию. По отношению к народу «европеизация» обернулась усилением гнета и бесправия. Крепостничество соответствовало духу Петровской реформы, оно явилось главным плодом ее. Внедренный Петром метод государственного управления — административный, мертвящий — противоположен «коренной русской форме», самоуправлению, и имеет целью «не дело, а единство и торжество идеи»; важно не то, как дело сделано, плодотворно или мертво, а то, что «оно в известной форме сделано».
Достоевский понимал, что подлинное социальное и культурное развитие нации не может совершаться помимо народа, составляющего основу социального организма России. В великом историческом деянии и в эволюционном движении народ — не простой исполнитель предначертаний великих людей, не строительный материал в их руках, а та творческая сила, которая и определяет ход развития. Каждая эпоха в жизни страны имеет свои задачи и заключает в себе свой нравственный смысл. Разгадать их и определить свое место и роль может только тот, кто знает и понимает народную жизнь. Для того чтобы действовать и жить полноценно, нужна руководящая нить, ведущая идея. Отрыв от народа, по убеждению Ф.М. Достоевского, препятствует человеку образованного круга найти эту идею, а вместе с нею и свое призвание. В «великой идее» и заключен источник «живой жизни». В предварительных набросках к роману «Подросток» на вопрос сына, что он называет «великой идеей», Версилов отвечает: «Не знаю что, друг мой. Знаю только, что это всегда было то, из чего истекает живая жизнь, т. е. жизнь не умственная и не сочиненная, но прекрасная, веселая, а не скучная...».
«Великая идея» в понимании Достоевского — не просто мысль в ее конкретном выражении, а скорее определенная нравственно-эмоциональная, духовная устремленность, особым образом сформированное и сориентированное чувство правды. «Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые... Пока эти идеи лежат бессознательно в жизни народной и только лишь сильно и верно чувствуются, до тех пор только и может жить сильнейшею живою жизнью народ. В стремлении к выяснению себе этих сокровенных идей и состоит вся энергия его жизни». Достоевский указывает здесь на одну из субстанциональных сил, лежащих в основе общества и движущих исторический процесс, ту силу, которая одушевляет массы и управляет ими.
Дезинтеграция и нравственное разложение общества (и личности) есть всегда признак того, что «дух», «идея» изжили себя и перестают владеть людьми. Этот процесс в конечном счете обусловлен материальными, базисными причинами, не подвластен воле, не управляем и более значим социально, чем те или иные экономические или политические проблемы частного характера, с которыми можно еще справиться.
Убеждение писателя в том, что носителем «великой идеи» и, следовательно, источником «живой жизни» является народ, не выведено путем абстрактных философских построений и не заимствовано из спекулятивной философии, а сложилось на основе непосредственных впечатлений о народном характере и об отличиях этого характера и мировосприятия от внутренней жизни лиц образованного круга. Это убеждение Достоевского не было оценено по достоинству современной ему критикой и нередко третировалось, как одно из проявлений его почвеннических взглядов. Народ понимался даже демократической литературной критикой в основном как страдалец и кормилец — обираемый, бесправный и темный. Общественный долг состоял лишь в том, чтобы помочь и просветить. Духовно-созидательная, нравственная сила народа осмыслялась чаще всего лишь в связи с художественным творчеством. Эта сторона дела была слишком очевидной: народный характер великого русского искусства XIX в. вполне осознавался ее европейски образованными творцами. Творчество Пушкина раскрыло душу, внутреннюю культуру народа. Таково и всякое подлинное искусство.
Достоевский понимал ограниченность сострадательного отношения к народу как к бессильной жертве, не говоря уже о пошлости снисходительного или презрительного отношения к народу как к тупой и неразвитой массе. Удивителен, однако, не тот вывод, что мужик может быть умнее, глубже, сильнее духом своих господ, нередко образованных и ученых, парадокс в том, что угнетенный и бесправный народ несет в себе начало нравственности и «живой жизни», а привилегированные слои оказываются лишенными полноты здоровой человеческой жизни.
Отрывом от народа объясняет Достоевский появление в русском обществе типа людей, которые чувствуют себя лишними у себя на родине и всюду, становятся скитальцами, странниками, мечтателями. Этим людям свойственны понимание порочности основ общественной жизни, стремление к обновлению, жажда идеалов. Вместе с тем они не знают, что им делать, не находят себе поприща и живут «головной» жизнью.
Сообразно своему видению истоков зла Достоевский создает в «Братьях Карамазовых» образ черта — дух небытия, антитезы «живой жизни». Олицетворение начал зла в образах сатаны и его слуг имеет давнюю литературную традицию, заключавшую в себе глубокий философско-этический смысл. У Мильтона, Байрона, Лермонтова дух небытия — это грозная, по-своему трагическая сила, дышащая злобой и бросающая вызов небесам. В поэтическом прозрении Гоголя воплощение зла, нечистой силы, предстало в образе мертвых душ, в облике заурядных Чичиковых и Хлестаковых, абсолютно лишенных героического трагического начал. Гений Гоголя узрел зловещую ухмылку сатаны, надругательство над человеческим образом в физиономии благонамеренного и добрейшего Шпоньки. В пошлости, ординарности, в омертвении живых сил и способностей души заключен источник зла.
Иным предстает «дух небытия» в романе Достоевского: это отнюдь не гоголевский образ. Черт — собеседник Ивана Карамазова замечает, что Иван принимает его за «поседелого Хлестакова», и возражает ему, указывая, что его судьба гораздо серьезнее. По литературной традиции черт — проекция отрицательных сторон души героя. По замыслу Гоголя, Хлестаков — «поддельная ветренная совесть наша», не имеющая ничего общего с «настоящей нашей совестью», т. е. с истинным «ревизором» (Гоголь Н. В. Собр. соч. В 7-ми томах. М., 1977, т. 4, с. 371). Черт в романе Достоевского — серьезный и глубокий судья-обличитель, возразить которому Иван Карамазов, по существу, ничего не может. Переход «юного мыслителя» от высоких идеалов будущего устройства человечества к рассуждениям о вседозволенности «новому человеку» в настоящей действительности комментируется его оппонентом нестерпимо иронически: «...если захотел смошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины?»
Черт в данном случае не проекция одних только отрицательных сторон героя. Его внутренняя суть в том, что он сознает неполноту, ущербность своего бытия. Он хочет жить не отвлеченной, а «живой жизнью», но не может. Черт обрел способность к страданию, мучается тем самым ревматизмом, о котором мечтал Онегин, он беден, любит детей, искренне желает добра. Тем не менее он заявляет: «Я страдаю, но все же не живу». Дело в том, что он не может преодолеть отвлеченность своей жизни. «Друг мой, не в одном уме дело! — говорит черт Ивану. — ...Тебе бы все только ума, а я опять-таки повторяю тебе, что я отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи». В отличие от гетевского Мефистофеля, говорившего о себе, что он хочет зла, а делает лишь добро, черт у Достоевского заявляет: «Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и искренне желает добра» (там же). В этой самооценке черта рельефно вырисовывается образ «подпольного человека», жаждущего идеалов и «живой жизни» и в то же время сознающего их недостижимость, желающего верить и не верящего. Воплощение зла вновь обретает черты трагичности. Типичным для «подпольного человека» «является и ответ черта на прямой вопрос Ивана: «Есть ли бог?» — «Голубчик мой, ей-богу, не знаю, вот великое слово сказал» (там же). Жажда веры, стремление обрести идеалы и одновременно неспособность к вере, отсутствие идеалов — эта черта характерна для многих героев Достоевского. Два основных вопроса ставил писатель в связи с этим. Первый: возможно ли «всерьез и вправду» веровать в бога? возможно ли веровать, будучи цивилизованным, т. е. европейцем? Достоевский видел, что развитие культуры, науки дает на этот вопрос отрицательный ответ. Второй вопрос: в том, можно ли без религии удержать нравственное начало? «можно ли существовать обществу без веры (наукой, например, — Герцен)?». Если бога нет, то почему я должен быть честным, благородным и т. п.? Нет ничего труднее, чем ответить на этот вопрос, замечает Достоевский. На основании знакомства с его произведениями и подготовительными материалами, записными книжками можно сделать вывод, что им рассмотрены и отвергнуты все основные способы рационального обоснования морали. Если я честен потому лишь, что этого от меня требует общество, рассуждает писатель, то в таком случае я подчиняюсь не своей совести, а внешним требованиям и поступаю не свободно, как этого требует мораль. Я могу быть честным по своей совести, могу действовать во имя служения обществу добровольно, но это не аргумент, который имел бы общую силу логической убедительности для других.
Доводы утилитаристского характера — об общественной и личной полезности соблюдения норм, о практической невозможности как обществу, так и личности жить без правил — фактически заменяют мораль соображениями практической целесообразности. Если бы и можно было доказать, что честным мне быть выгодно всегда или в большинстве случаев (а это доказать применительно к эксплуататорскому обществу невозможно), то мораль была бы и не нужна, она заменилась бы в таком случае практическим расчетом. О «милой цели» — «обретении нравственности корыстолюбием» — не раз высказывался Достоевский.
Но непросто складываются судьбы иных идей. Некоторые из них приобретают подчас неожиданное звучание в зависимости от обстоятельств и способов использования.
Достоевский выступал против обоснования морали, исходя лишь из факта наличия совести, чувства долга. Если нет бога, рассуждает он, то совесть «сделана» самими людьми и подчиняться ее голосу безропотно, без размышлений в таком случае нельзя. Все установления людей должны пройти критическую проверку на разумность. Ведь немало преступлений совершалось с чистой совестью.
Достоевский не видел логических доводов, которые могли бы без ссылки на бога лечь в основу нравственности и опровергнуть рассуждения о вседозволенности. Общей чертой Ивана Карамазова, Раскольникова, Ставрогина является то, что, стремясь опереться исключительно на логику и факты, принимая во внимание только лишь реальные причины и следствия, а не чувство и предрассудки, они совершают дозволенные логикой преступления и неожиданно для себя падают под их непосильной ношей, обнаруживая, что в жизни оказывается есть нечто сильнее логических доводов: их собственная натура, которую они сбрасывали со счетов. Но и падая, они остаются при своем мнении, коря себя только за слабость. Раскольникова мучит только то, что испытание оказалось ему не под силу, что по своей ничтожности он не сумел преодолеть «тупую тягость инстинкта», в то время как многие великие люди, не дрогнув, перешагивали через горы трупов. Ставрогин даже перед самоубийством продолжает держаться прежнего образа мышления. Лишь внезапно нахлынувшее чувство любви к Соне вытеснило в сознании Раскольникова отвлеченные идеи, ошибочность которых он так и не сумел определить, и открыло возможность перерождения: «Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое».
Таким образом, возражение против логики нравственного нигилизма только одно: против нее протестует натура. «Все основано на чувстве, на натуре, а не на разуме», — заявляет Достоевский. Однако ссылкой на натуру, сердце, на заложенность нравственного чувства нельзя обосновать мораль; это не аргумент, но других аргументов нет, и поэтому Достоевский не видел иной возможности обоснования морали, кроме как санкции бога. Нравственность вытекает из веры. Достоевский указывал на несостоятельность попыток удержать нравственный смысл христианства, отказавшись от идеи бога как трансцендентного существа. «Многие думают, — пишет он, — что достаточно веровать в мораль Христову, чтобы быть христианином. Не мораль Христова, не учение Христа спасает мир, а именно вера в то, что слово плоть бысть». Достоевский считал, что нельзя удержать моральный смысл христианства, не сохранив веры в божественное происхождение Христа, непорочное зачатие и т. д. Моральные максимы христианства недоказуемы. Но пусть даже удалось бы убедить людей в истинности евангельских заповедей самих по себе (без ссылки на бога), убедить в том, что всеобщее исполнение этих заповедей устранило бы из жизни вражду и насилие, однако эта убежденность еще не гарантирует выполнения их. Жизнь, построенная на принципе «либо грабишь ты, либо грабят тебя», берет верх над идеалами. В непримиримом противоречии находится личный и общественный практический интерес, и это противоречие проявляется в разладе между умом и сердцем, во внутренней раздвоенности между должным и желаемым, духовными устремлениями и плотскими желаниями, между идеалами и действительными поступками.
Нравственное возрождение человека — основной мотив всего творчества Достоевского. Он считал, что новый, переродившийся человек не будет стоять перед выбором: «либо грабишь ты, либо грабят тебя». Личность обретет целостность и гармонию, достигнет, по словам Достоевского, «целостного я», «жизненного знания и сознания, т. е. непосредственно чувствуемого телом и духом, т. е. всем жизненным процессом». Противостояние человека миру сменится, наконец, единением с другими людьми и природой, «вселенской радостью жизни».
Общество, по его мнению, основывается на нравственных началах, насильственные действия и экономические преобразования не разрешат коренных проблем существования: позитивные изменения могут быть только результатом нравственных изменений. Достоевский в решении этого вопроса исходил из абстрактно-гуманистических, религиозно-этических позиций. Писатель был не согласен с тем, что общество можно перестроить по заранее задуманному проекту. Великий гуманист предвидел, что политический радикализм, не учитывающий «натуры», неизбежно столкнется с непредвиденными трудностями в осуществлении своих программ и вынужден будет прибегнуть к подавлению личности, к деспотии, к тоталитаризму. Практика фашизма, маоизма, современного терроризма подтвердила обоснованность этих опасений.
Более ста лет назад Достоевский решительно высказался против подхода к морали лишь как к способу управления людьми (регуляции поведения), против утилитаристского ее понимания, сводившего мораль к пользе и требовавшего упразднения понятий чести, совести, долга, как предрассудков. Нравственность, согласно ему, — утверждение человеческого в человеке, т. е. способ его духовного бытия. «Будь человеком — это прежде всего!» — таков смысл нравственных требований, предъявляемых Достоевским к личности.
Проблематика художественных произведений и публицистики Достоевского всегда была связана с самыми жгучими вопросами современной ему жизни. Однако она не утратила своей актуальности и для нашей эпохи. С течением времени все более отчетливо вырисовывается великая гуманистическая значимость духовного наследия. «Его подлинным идеалом и глубочайшим родником его творений был русский народ во всем его историческом величии и трагизме протекающей борьбы», — справедливо замечает Л.П. Гроссман (Гроссман Л.П. Достоевский. М., 1962, с. 528).
Источник: Философские науки. – 1981. - № 6. – С. 94-102.