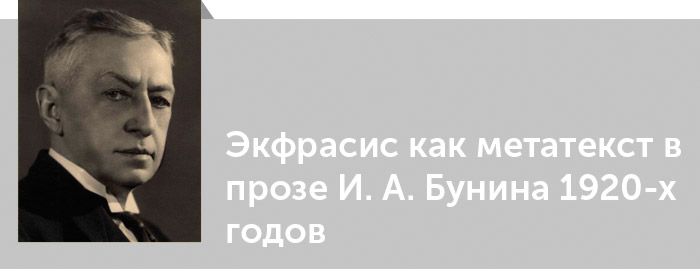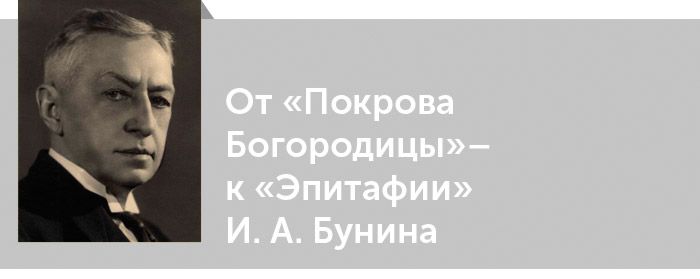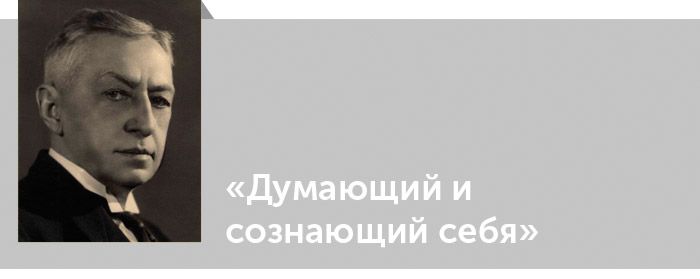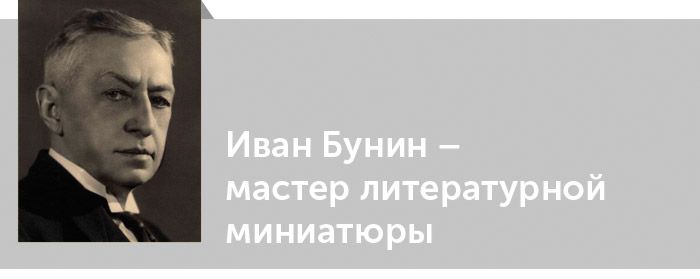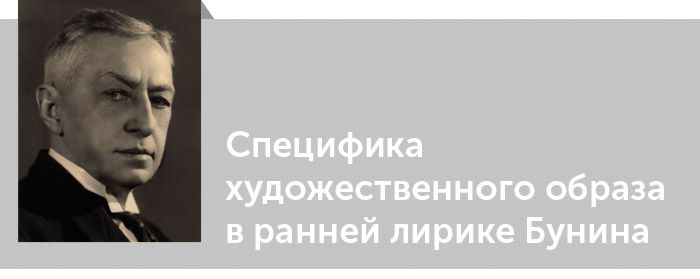Кавказ – главный герой рассказа И. А. Бунина «Кавказ»
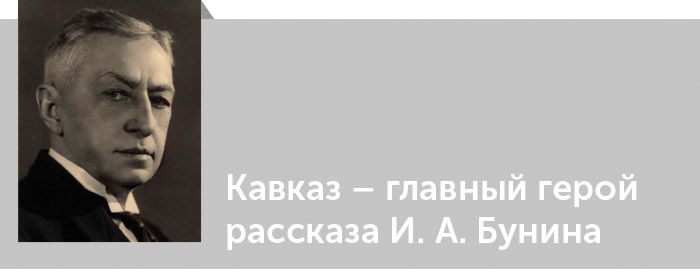
УДК 82’0, 829
Э. Шестакова
доктор филологических наук
Кавказ – главный герой рассказа И. А. Бунина «Кавказ». Статья вторая
Анотація
Е.ШЕСТАКОВА. КАВКАЗ – ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ ОПОВІДАННЯ І. А. БУНІНА "КАВКАЗ"
У статті розглядається одна із константних літературознавчих проблем: принципи, підстави, механізми співвідношення та взаємодії заголовка й основного тексту художнього твору. У світі И. Буніна, який репрезентує культуру перехідності, статус і роль заголовків традиційно трактується дослідниками з позиції довільності, випадковості, прагнення втілити онтологічну повноту буття, а не прагнення відобразити головну ідею твору. Аналіз та інтерпретація одного з пізніх бунінських оповідань – "Кавказ" (1937) з погляду важливості й цінності пам'яті творчості, типологічної спадкоємності у словеснокультурному процесі дозволило зробити зовсім інші висновки. Образ Кавказу, сформований російською словеснокультурною традицією XIX – початку ХХ ст., виявляється значущим для почуттів та дій героїв твору. Кавказ, знаний, побачений і коханцями й чоловіком, з'являючись у всій первозданній природній та культурній повноті, може оголити й виявити справжню, украй складну, неоднозначну, але завжди непередбачену для самого людини сутність і його, і чужих думок, почуттів, учинків. Саме тому заголовок оповідання І. Буніна "Кавказ" неможливо вважати довільним. Воно відображує сутність тих словеснокультурних процесів, типологічних взаємодій, які багато в чому й обумовлюють рух літературного розвитку, появу й здійснення його кожного окремого твору.
Ключові слова: інтерпретація, традиція, процес, взаємодія.
Аннотация
Э. ШЕСТАКОВА. КАВКАЗ – ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ РАССКАЗА И.А. БУНИНА "КАВКАЗ"
В статье рассматривается одна из ведущих константных литературоведческих проблем: принципы, основания, механизмы соотношения и взаимодействия заглавия и основного текста художественного произведения. В мире И. Бунина, репрезентирующем культуру переходности, статус и роль заглавий традиционно трактуется исследователями с позиции произвольности, случайности, стремления воплотить онтологическую полноту бытия, а не стремления отобразить главную идею рассказа. Анализ и интерпретация одного из поздних бунинских рассказов – "Кавказ" (1937) с точки зрения важности и ценности памяти творчества, типологической преемственности в словеснокультурном процессе позволило сделать совершенно иные выводы. Образ Кавказа, сформированный русской словеснокультурной традицией XIX – начала ХХ ст., оказывается значащим для чувств и действий героев произведения.
Кавказ, знаемый, увиденный и любовниками и мужем, представая во всей первозданноестественной и культурной полноте, может обнажить и обнаружить подлинную, крайне сложную, неоднозначную, но всегда непредсказуемую для самого человек сущность и его, и чужих мыслей, чувств, поступков. Именно поэтому заглавие рассказа И. Бунина "Кавказ" невозможно считать произвольным. Оно отображает сущность тех словеснокультурных процессов, типологических взаимодействий, которые во многом и обусловливают движение литературного развития, появление и осуществление его каждого отдельного произведения. Ключевые слова: интерпретация, традиция, процесс, взаимодействие.
Annotation
E. SHESTAKOVA. THE CAUCASUS – THE MAIN HERO OF THE TALE "THE CAUCASUS" BY I.A. BUNIN
One of the leading constant problems of study of literature is examined in the article: principles, grounds, mechanisms of correlation and cooperation of a title and basic text of artistic work. In the world of I.Bunin, which represents the culture of transitionalness, status and role of titles traditionally are interpreted by investigators from position of arbitrariness, casual, aspiration to incarnate ontological plenitude of life, but not aspirations to represent the main idea of story. An analysis and interpretation of one of late Bunin`s stories "The Caucasus" (1937) from point of importance and value of memory of creation, typological succession in a verbal cultural process has allowed to do completely different conclusions. Image of the Caucasus, formed by Russian verbalcultural tradition of the 19th the beginning of the 20th century, appears meanings for senses and actions of heroes of the tale.
The Caucasus, familiar, seen by lovers and husband, appearing in all primordialnatural and cultural plenitude, can bare and discover authentic, difficult, ambiguous, but always unforeseeable for man his and strange ideas, senses, actions. For this reason the title of Bunin’s tale "The Caucasus" is impossible to consider arbitrary. It represents essence of those verbal cultural processes, typological cooperations which are stipulate motion of literary process, emergence and realization of every separate work of his.
Key words: interpretation, tradition, process, cooperation.
Кавказ, как хорошо известно, длительное время играл для России особую роль, и не только экономическую, политическую. Он стал для русской культуры специфической сферой проверки на жизнестойкость и жизнеспособность многих её идей, представлений и личностей. Это нашло своё отражение в русской словесности. М. Эпштейн, рассматривая систему пейзажных образов в русской поэзии XVIII – XX ст., в разделе о пейзажах так обозначит роль Кавказа для русской культуры: это "своё иное". И далее, поясняя этот оксюморон, М. Эпштейн актуализирует особое положение Кавказа относительно таких идеологических топосов, как Петербург и Москва, когда "южные окрестности России издавна притягивали к себе русских поэтов. Здесь открывался иной мир – вольный, цветущий: поперек бескрайней, тягучей равнины вставали горы, влекущие ввысь, а за ними – море, зовущее вдаль. И этот отрыв от скучной земли, всегда равнинной, равной себе, создавал высокое состояние духа, устремленного в сверхземное" [1, с.165]. Кавказ для русской культуры стал символом естественной, точнее даже первозданной, дикости, неукротимости, безудержности, мятежа самой природы, а также непокоренности и вольности человекаличности, причем в равной мере и горца, и занесенного в этот край волей судьбы русского. Кавказ во многом выступал проверкой жизнестойкости и порядочности русского человека, который оказался в ином, как правило, поражавшем прежде всего своей первозданностью, мире. Только личность, осознающая одновременно ценность и порочность европейской культуры, её соблазны и мировоззренческие основания, оказывалась способной жить в нём и с ним. Экзотически непостижимый Кавказ противостоит традиционно знакомым и знаемым Петербургу и Москве. Это и будет постепенно формироваться русской словеснокультурной традицией, причем одновременно и поэтической, и прозаической, и публицистической.
Если учесть, что для русской словесности тема Кавказа особо актуальна, начиная со времен Г. Державина, Н. Кармазина, А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, Л. Толстого, то становится понятным, что название рассказа не может быть произвольным. Заглавие "Кавказ", в первую очередь, обусловлено словеснокультурным закономерностями и факторами развития мира И. Бунина внутри движения русской художественной словесности. Бунинский "Кавказ" оказывается в определенной мере итогом романтическиреалистической традиции осмысления Кавказа русской классической литературой. В этом произведении, построенном на тонком, филигранном психологизме, на проникновении в потаённые глубины и нюансы человеческих переживаний, мотиваций поступков, чувств, Кавказ играет особую роль. Именно он, во всей своей целостности, оказывается той давней силой, которая способна многое прояснить в человеке и в человеческих отношениях, выведенных за пределы привычных и стереотипных для них оснований, границ и закономерностей развития. Первозданный Кавказ и европейская культура рубежа XIX – XX ст. встречаются и сложным образом взаимодействуют в обычном, даже тривиальном событии – адюльтере. При этом ни банальность самого факта прелюбодеяния, ни трагическая ординарность поступка мужа не могут быть поняты по своей сути вне Кавказа как некого катализатора онтологическикультурных оснований человеческого бытия. Пожалуй, у И. Бунина Кавказ наиболее полно реализует представление о нём, как о "своём ином", вроде бы уже давно известном, прирученном во всех отношениях, но так и не познанном, дерзком, непредсказуемом для тривиальной логики.
Для И. Бунина – художника рубежа эпох – тема Кавказа уже значима одновременно и как тема экзотической культуры, иных нравов, обычаев, и как тема иной, естественнонетронутой человеком природы, и как тема вольности, чести, личностного начала, и как тема дорожного приключения, любовной авантюры, адюльтера. Кавказ в рассказе И. Бунина выступает тем праздником возрожденного смысла, о котором писал М. Бахтин. При этом в бунинском мире происходит интересное осуществление сверхличностной словеснокультурной памяти, что проявляется на всех уровнях организации произведения. При этом романтические, реалистические и даже мелодраматические моменты сложным, принципиально нерасчленимым образом переплетаются, создавая эстетическое целое произведения.
Так, уже в первых строках рассказа четко проясняется та геоидеологическая основа, которая была столь важна для русской культуры при разговоре о сущности Кавказа и его роли для реализации личности, её глубинных, фактически экзистенциальных оснований. Любовник, от лица которого ведется почти все повествование в рассказе, сразу же заявляет о том, что "приехав в Москву, я воровски остановился в незаметных номерах в переулке возле Арбата и жил томительно, затворником – от свидания до свидания с нею" [2, с.256]. Уже в этом первом предложении присутствует некое семантическое напряжение и неадекватность: герой описывает четко, фактографически ёмко город и место, куда он приехал, однако не сообщает, откуда он прибыл. Выделение Москвы, Арбата, незаметных номеров идет в ущерб тому месту, где должен, по сути, находиться его дом. При этом герой специально изначально делает акцент на своём теперешнем состоянии: явно промежуточнопереходном, как и жизнь в гостиничных номерах, напряженноприподнятом, анормальном. Объединение в пределах одного предложения столь различных семантических составляющих порождает некий семантический и эстетический диссонанс, который задаёт настроение и логику всему повествованию. К тому же деепричастный оборот, стоящий в начале предложения, вводит в текст момент особого сочетания темы и ремы, расставляя логическое ударение интересным образом. Уже изначально начинается игра объективной и субъективной точками зрения: нейтральный порядок слов взаимодействует с видением мира, идущим от героя любовника.
Причем эта асимметрия характерна для всего целого рассказа. Оно оксюморонно по своей сути: построено на встречи и предельно полном взаимодействии тривиального и трагического, результатом которой явится выход, или точнее, прорыв к возвышенному. Предчувствие, ожидание, стремление и осуществление в нём сплетаются в единое целое таким образом, что для каждого из героев могут разрешиться только в анормальном, принципиально неповседневном и не стабильном хронотопе.
И. Бунин, постоянно играя различными точками зрения, предельно обнажает оксюморонные составляющие. Во втором предложении продолжается нагнетание фактажности и обусловленной ею нейтральности, объективности и в определенной мере дистанцированности героялюбовника по отношению к женщине: "Была она у меня за эти дни всего три раза и каждый раз входила поспешно, со словами: "Я только на одну минуту…"" [2, с.256]. Затем следует сильное, тонкое, глубокое, с точки зрения психологизма, описание состояния женщины, которое возможно только как сочувствование, сопереживание, соосуществление: "Она была бледна прекрасной бледностью любящей взволнованной женщины, то, как она, бросив куда попало зонтик, спешила поднять вуальку и обнять меня, потрясало меня жалостью и восторгом" [2, с.256]. На этом диссонансе, который постепенно, но прочно и последовательно будет пронизывать произведение, построен весь рассказ. В нём постоянно чередуются, а главное – взаимоосуществляются два начала: тривиальное и трагическое, вполне предсказуемое, хорошо известное и сюрпризное. Их взаимоосуществление и разрешение возможно только на Кавказе, как особом топосе русской культуры, как единства "ужасы, красы природы" (Г. Державин). Относительно Кавказа актуализируются чувства, действия и поступки героев рассказа, осуществляясь в полной мере лишь в этом особом геоидеологическом хронотопе, для которого одновременно важна и равноценна память и о первозданных, доисторических временах, и о героическилегендарных временах, и о современном, почти идеальнокурортном состоянии. При этом ни любовники, ни муж в равной мере не могут претендовать на роль главных действующих героев, так как они составляют эстетикосмысловое единство и реализуются в своей полноте лишь относительно Кавказа. В противном случае их поступки, чувства, движения души, эмоциональные состояния производят впечатление чересчур тривиальной мелодрамы, а также отсылают к популярному в 10–30х гг. ХХ ст. киножанру. Но тогда мы должны, вопервых, учитывать лишь сюжетный стержень рассказа; вовторых, признать, что распространенное описание кавказкой природы не играет никакой роли и выступает семантически необоснованным элементом произведения. Только аксиологически значимый эстетикосмысловой диссонанс переводит мелодраму в трагедию, позволят прикоснуться к возвышенному и незыблемому и даёт возможность осуществиться бунинскому произведению как подлинному произведению словесного искусства.
Изначально отношения и состояния любовников выстраиваются и реализуются на семантически значимом напряжении: он ни разу не скажет о своей любви к ней, она постоянно говорит лишь о невыносимости быть с мужем, в Москве. Но они переживают подлинные чувства и действительно дорожат ими. Любовники задумывают и осуществляют дерзкий план: "уехать в одном и том же поезде на кавказское побережье и прожить там в совсем диком месте тричетыре недели" [2, с.256]. Однако при осуществлении плана, который обещает в равной мере обоим "слишком великое счастье" [2, с.256], его взгляд упорно выделяет серость, унылость, грязь, отвратительность и сумрачность улиц Москвы, детали поведения носильщиков на вокзале. Он представляет нюансы поведения её мужа в купе, а она в первый же миг свободы, наедине с ним в купе поезда, хочет нарзану. При этом их поведение и чувства, при всей глубине и подлинности, все же актуализируются логикой "московского" поведения: принятыми приличиями, необходимостью придерживаться правил хорошего тона, регламентирующих и проявления движений человеческой души. Лишь нюансы способны обнаружить и обнажить силу и подлинность их чувств: "Дай мне нарзану, – сказала она, первый раз говоря мне "ты"" [2, с.257]. Смена этикетных форм обращения между любовниками свидетельствует не только о тонкости бунинского психологизма, не только о глубине проникновения в поведенческую повседневную психологию обыкновенного человека, но и об ином: о том, что на культурноидеологическом уровне заложено в негенную культурную память (Ю. Лотман) русского человека.
Не случайно он, еще в Москве, вспоминает Кавказ, активизирует в связи с ним как некую исключительность свою молодость, одиночество, черные кипарисы, холодные серые волны, горные джунгли, тропическое море. Так в произведении встречаются и взаимодействуют реалистическая и романтическая традиции. Неверие и невозможность любви – от разочарованности толстовских, чеховских героев, которым присуще глубокое несчастье в любви, в супружестве и определенная пассивная обреченность в принятии этого. Жажда преступного, дерзкого, почти невозможного счастья, чувственно ощущаемые, переживаемы воспоминания о необыкновенности Кавказа, стремление достичь, казалось бы, запредельное – от романтических пушкинских, лермонтовских, тютческих героев. Как пишет В. Силантьева, "прекрасное и заурядное, поставленные рядом" [3, с.290], предельно обнаруживают и обнажают пошлость, ординарность банального адюльтера, однако в тоже самое время открывают для него возможность эстетической и нравственноэтической внутренней трансформации, перерождения.
Любовники у И. Бунина в своих чувствах и поступках постоянно балансируют на грани, сознательно в себе и через себя осуществляя разнообразные начала. Им невозможно отказать в силе и глубине чувств, но одновременно невозможно и принять их: настолько неправдоподобно идеально и возвышенно обреченно изображена их жизнь у моря. Начиная с завтра ("все жареная на шкаре рыба, белое вино, орехи и фрукты" [2, с.258]) и заканчивая закатами (когда "часто громоздились за морем удивительные облака; они плыли так великолепно, что она порой ложилась на тахту, закрывала лицо газовым шарфом и плакала: еще две, три недели – и опять Москва!" [2, с.259]), происходит внутреннее напряженное развитие оксюморонности.
При этом любовник, сквозь призму видения и ощущения которого и подается происходящее, фокусирует свой взгляд исключительно на природе. Для него более важным оказывается то место, где они останавливаются, нежели то состояние, в котором они пребывают. Первое же предложение, повествующее непосредственно об отдыхе у моря, тому, который в равной мере обоим обещал "слишком великое счастье" [2, с.256], посвящено детальному и явно литературно стереотипному описанию природы: "Мы нашли место первобытное, заросшее чинаровыми лесами, цветущими кустарниками, красным деревом, магнолиями, гранатами, среди которых поднимались веерные пальмы, чернели кипарисы…" [2, с.258]
При этом необходимо отметить два значимых момента, обусловленных диссонансом, заданным в самом начале рассказа. Первый момент: столь сильный бунинский психологизм, глубокое и точное проникновение в интимнейшее пространство человеческой души почти полностью исчезает из этой части рассказа, посвященной непосредственно их совместному отдыху. Он видит и отмечает лишь природу и окружающий быт местных жителей: "я проходил по знойному и пахнущему из труб горящим кизяком базару нашей деревни: там кипела торговля, было тесно от народа, от верховых лошадей и осликов, – по утрам съезжалось туда на базар множество разноплеменных горцев, – плавно ходили черкешенки в черных длинных до земли одеждах, в красных чувяках, с закутанными во чтото черное головами, с быстрыми птичьими взглядами, мелькавшими порой из этой траурной запутанности" [2, с.258]. Он совсем ничего не говорит о собственных чувствах, ощущениях, настроениях, полностью отдавая внимание природе Кавказа и окружающим, абсолютно чужим ему людям. Она же вовсе им "не видится", не считая фактажных моментов, ограниченных простой и довольнотаки жесткой констатацией её поступков: спит, завтракаем, идём на пляж, плаваем, плачет на тахте. Близкая женщина, изза которой был совершен столько опасный и вызывающий поступок, практически исчезает из мироощущения любовника. Он не отказывается от неё, не бросает, не показывает какихлибо изменений чувств, но и не ощущает мотивов и оснований движений её души. Если в Москве он был един с нею, имеется ввиду в эмоциональнопсихологическом плане, на экзистенциальном уровне ощущал малейшие, наверное, даже для неё неосознаваемые и необъяснимые состояния, метаморфозы её настроений и чувств, то на Кавказе всё кардинально меняется. Острота и напряженная чуткость уходят из состояния любовника.
Та асимметрия, которая была зада в начале рассказа, активно и беспрестанно развивается. Он не выдерживает, подобно ведущим героям русской классической литературы rendervous, и спонтанно ищет спасения дистанцированием, нечуткостью, желанием трактовать всё с иных, казалось бы, высших ценностных позиций, и, в конце концов, всё же спасается бегством. Естественно, что это условное, внутреннее бегство, может быть, даже до конца им и неосознаваемое. К нему вполне подходит определение, данное подобным ситуациям ещё Н. Чернышевским – грустный комизм [4, с.33]. Любовником полностью завладевает Кавказ, который оказывается более реальным и ценным, нежели женщина рядом. И этим обусловлен второй значимый момент.
Почти вся часть рассказа, посвященная отдыху любовников у моря, заполнена описанием Кавказа. Но вот вопрос: как увиден и артикулирован любовником Кавказ. Это тонкое лирическое повествование о природе Кавказа в стиле тривиального идеальноромантического и бурного пейзажей с присущими им константным наборами признаков [1, с.130148].
Примечательно, что И. Бунин вводит в многообразно представленный кавказский пейзаж даже речку, которая всегда считалась, по замечанию Э. Курциуса, исследовавшего европейскую литературу с точки зрения ведущих топосов, вечным источником, одним из ведущих признаков приятного, восхитительного места – идеального пейзажа. В "Кавказе" речка описывается в нюансах, несомненно, указывающих на её идеальноромантическую, но в тоже время и уже стереотипную словеснокультурную природу: "Недалеко от нас, в прибрежном овраге, спускавшемся из лесу к морю, быстро прыгала по каменистому ложу мелкая, прозрачная речка. Как чудесно дробился, кипел её блеск в тот таинственный час, когда изза гор и лесов, точно какоето дивное существо, пристально смотрела поздняя луна!" [2, с.259]. Единство прозрачной речки, лесов, гор, моря, луны и отсутствие человеческого начала (если не считать абстрактно оценочных акцентов чудно, таинственно) делает этот пейзаж сентиментальноидиллическим, призванным "полностью насыщать и радовать все человеческие чувства" [1, с.132]. Здесь природа, представленная в своей полноте и многообразии, как бы самодостаточна.
При этом интересна одна деталь. М. Эптшейн, прослеживая эволюцию идеального пейзажа в русской словесности, отмечает, что, начиная с А. Пушкина, в описании восхитительного места часто присутствует одна из типических черт – тихий скат холмов, "этим рисуется мягкость земли, благоволящей человеку, предоставляющей ему естественное ложе" [1, с.133]. В бунинском "Кавказе" всем пейзажем, и особенно этой, лишь на первый взгляд, незначительной деталью (в прибрежном овраге, спускавшемся из лесу к морю), дается отсылка именно через сверхличностную словеснокультурную память творчества ко многим ведущим традициям русской классической словесности. Философскоэстетические основания русской классической литературы, роль в ней пейзажей в их общеевропейской и национальной представленности чётко указывают на особую функцию именно Кавказа в этом бунинском произведении.
Кавказ, представленный единством своей природы и естественного человека, чтящего традиции, актуализирует в любовниках особые, несвойственные им в привычном и устоявшемся для них повседневном пространстве ощущения. Чрезмерна идеальность, граничащая даже с некой тривиальностью и мелодраматичностью, в опосредованном, как бы растворенном в общепринятой традиции, выражении эмоций (удивительно, великолепно, чудно, таинственно, волшебно) провоцирует семантическое и эстетическое напряжение. Любовники, при полной вере в их чувства и эмоции, актуализируются всей традицией идеального пейзажа со всеми его хорошо известными, ещё со времён Н. Кармазина, А. Пушкина, М. Лермонтова, моделями и особенностями реализации любовных отношений.
Бунинские героилюбовники оказываются в одном типологическом ряду с бедной Лизой, Марьей Кирилловной, Беллой, Верой, Мэри. У И. Бунина идеальный пейзаж, представленный во всей своей идеальнолитературной полноте, явно содержит, именно в своем невероятном соответствии приятному, восхитительному месту, предчувствие сюрпризности.
При этом необходимо отметить, что доминирующим в этом рассказе, безусловно, выступает идеальный маринистический пейзаж. Центральное место, естественно, в нём занимает развернутое, детальное описание моря во все времена суток: от рассвета до заката. Море монументальноонтологично и интимно по своей сути: "когда жар спадал и мы открывали окно, часть моря, видная из него между кипарисов, стоявших на скате под нами, имела цвет фиалки и лежала так ровно, мирно, что, казалось, никогда не будет конца этому покою, этой красоте" [2, с.258].
Ночь героями тоже вполне традиционнолитературно связывается с горами, растительным и животным миром, который "мы не замечали днём". [2, с.259]. Ночь, как и море, день, тоже описывается по всем закономерностям идеального пейзажа, когда предельно точно соблюдаются даже его цветовая и световая характеристики.
Единственным моментом, не соответствующим такому типу пейзажа выступает почти полное отсутствие психологизма, значимой субъективизации идеального по своей сущности описания природы и человека. Позиция любовника полностью растворена в абстрактносозерцательной позиции некоего субъекта, наделенного традиционной точкой зрения на идеальный пейзаж. Те тонкие и проницательные замечания, которые он делал в арбатской гостинице, на московском вокзале, в купе поезда, особенно ранним утром, абсолютно отсутствуют на Кавказе, который был героем его воспоминаний и казался слишком великим счастьем. Складывается впечатление, что достигнутое слишком великое счастье, антитетично филигранным движениям души и покорено иным, что не может казаться, а действительно есть слишком великим.
Состояние души героини дано всего дважды и мозаично: когда она плачет на тахте от невозможности и невыносимости великолепия моря и облаков. Второй раз – при описании ночной грозы: "Иногда по ночам надвигались с гор страшные тучи, шла злобная буря, в шумной гробовой черноте лесов то и дело разверзлись волшебные зеленые бездны и раскалывались в небесных высотах допотопные раскаты грома. <…> Она радостно плакала, глядя на них" [2, с.259]. В общем, тривиальное описание бурного пейзажа вполне соответствует диссонансу, предопределенному началом рассказа: активизация волшебного, злобного, допотопного начала свидетельствует о некой одновременной словеснокультурной мифологизации и стереотипизации Кавказа, которые происходят в восприятии любовников, соприкоснувшихся с чемто более величественным, вечным и действительным, нежели то, чем они живут. Более того, те животные, которые во время ночных бурь подходят к их жилищу, а главное их стилистическиобразное отображение тоже вполне вписываются в геоидеологический и словеснокультурный хронотоп Кавказа: "мяукали орлята, ревел барс, тявкали чекалки…" [2, с.259]. Пушкинсколермонтовская традиция ощущения и отображения Кавказа очень сильно проявляется и в этих нескольких, фактически мозаичных штрихах. Гроза, орлята, рев барса – это не только традиционный образ Кавказа, но прежде всего словеснокультурно традиционный образ, проявляющий значимость мифологизирующей роли самой классической литературы.
Сложное напластование и взаимодействие идиллического, элегического, бурного пейзажей со значительно и целенаправленно нивелированным психологизмом воспринимающих, погруженных в природу героев, свидетельствует об их некой смысловой незначительности перед Кавказом. При этом, безусловно, имеется в виду не столько натурфилософский поход, предполагающий многообразие взаимодействий Природы и Человека, сколько иное. Именно память творчества и типологическая преемственность указывают на важность той словеснокультурной традиции, в центре которой находится топос Кавказа.
Рассказ, начавшийся и закончившийся как повествование об адюльтере, в центральной и наиболее обширной своей части почти ничего не говорит об отношениях любовников. Более того, они оказываются даже неспособными ощущать подлинные глубинные движения природы, которые не созвучны их чувствам. Природа скорее видится, причем в своей хрестоматийноклассической словеснокультурной представленности, нежели ощущается на личностноэкзистенциальном уровне. Именно поэтому Кавказ воспринимается чересчур идеально, иногда банальнолитературно, отвечая, прежде всего, своим, уже выработанным, устоявшимся и даже стереотипизированным словеснокультурным образцам и моделям, нежели тем чувствам и эмоциям, которые переполняют любовников. Не случайно, женщина, глядя на море, горы, облака, плачет не от чувства любви к тому, изза которого совершила непоправимый и отчаянный поступок, не изза собственных движений души, переживая свершившееся "слишком великое счастье", а изза скорого возвращения в Москву. Любовник вообще оказывается "бесчувственным", или точнее даже внечувственными, в хронотопе Кавказа, ощущая лишь его слишком очевидную, онтологически не устранимую допотопность и бесконечность покоя и красоты.
Главным героем оказывается Кавказ, представленный, акцентирую внимание ещё раз, в своей природной и традиционно культурной полноте, а именно в том их облике, который был сформирован русской классической словесностью. Кавказ открывается каждому таким, каким они способны его увидеть, ощутить и принять. Но при этом он не утрачивает своей собственной, самозначащей подлинности и витальной силы. В связи с эти примечателен один момент.
Если пейзаж Кавказа дан точно, почти до идеальной модельности, в соответствии с русской словеснокультурной традицией, то песни Кавказа воспринимаются в совершенно ином ключе. Они осмысляются оксюморонно, сочетая и словеснокультурную тривиальность, и нечто запредельно личностное. Любовник, описывая ночную природу и повседневность местных жителей Кавказа, замечает: "И всю ночь слышался оттуда, из духана, глухой стук в барабан и горловой, заунывный, безнадежносчастливый вопль как будто всё одной и тоже бесконечной песни" [2, с.259]. Общее впечатление от кавказских песен ординарно, оно было задано еще лермонтовскими произведениями. Однако сложный оксюморон безнадежносчастливый вопль обнаруживает и обнажает сущность самого Кавказа, проявившуюся вопреки напластованию чужих словеснокультурных взглядов на него. Это действительно проявление сущности "своего иного", о которой писал М. Эпштейн. Безнадежносчастливый вопль – многоуровневое оксюморонное целое, состоящее из двух стилистических оксюмороных блоков: безнадежносчастливый и счастливый вопль. Однако в оксюморонном целом не может быть и речи о сумме отдельных оксюморонных смыслов: разделение на оксюморонные блоки условно и используется для более наглядного рассмотрения развития оксюморонной идеи. Через оксюморонные блоки можно проследить постепенное становление и оформление сложного оксюморонного смысла в целостное явление. Развитие оксюморонного смысла в данном случае происходит не в горизонтальной, во многом экстенсивной плоскости, а в вертикальной, предполагающей интенсивное самоуглубление оксюморонной идеи. Здесь вновь встречаются и взаимоосущесвляются тривиальность, трагизм, конечность и бесконечность, привычное и невозможное, повседневность и исключительность, знаемое и сюрпризное, которые собственно и дают возможность каждому выбрать свой путь, совершить тот или иной, но собственный, поступок[1].
Аналогичным образом актуализируется и образ мужа. В самом начале рассказа муж видится, представляется и описывается женой и любовником. При всей разнице позиций, их описание объединяет одно – повышенная и знаковая роль чести мужа и офицера. Она трактуется и в стиле литературных классических романов и в стиле кинематографа, во многом пародирующего классику. Женщина просто цитирует слова мужа, вкладывая в них только заурядный смысл: "я ни перед чем не остановлюсь, защищая свою честь, честь мужа и честь офицера!" [2, с.256]. Он тоже видит мужа монолитно, бесстрастно и стереотипно, как некую, почти идеальную, но принципиально безликую модель военного, точнее даже офицера. "Я смотрел всё напряженнее – их все не было. Ударил второй звонок – я похолодел от страха: опоздала или он в последнюю минуту не пустил её! Но тотчас вслед за тем был поражен его высокой фигурой, офицерским картузом, узкой шинелью и рукой в замшевой перчатке, которой он, широко шагая, держал её под руку. Рядом был вагон второго класса – я мысленно видел, как он хозяйственно вошел в него с нею, оглянулся, – хорошо ли устроил её носильщик, – и снял перчатку, снял картуз, целуясь с ней, крестя её…" [2, с.257]. Его образ, созданный женой и любовником, вполне вписывается в словеснокультурные стереотипы военного и порядочного, но не очень тонкого и чуткого мужа. Он явно восходит к толстовской традиции, когда более страдающими и наказываемыми лицами оказываются любовники, а муж почти всегда выигрывает в глазах общества. Проблема социальносветской морали всегда значима в таких случаях, которые касаются адюльтера, и при всей психологической сложности и объёмности подобного рода ситуаций в русской классической литературе не делает мужа жертвой, обреченной на сознательное самоубийство. В бунинском рассказе образ мужа изначально строго выписывается по уже хорошо известным словеснокультурным традициям, предуготовляя, казалось бы, тоже традиционный финал, например, в стиле "Анны Карениной" или же отношений Болконского и Долохова у Л. Толстого.
Однако именно Кавказ и поддерживает и разрушает этот образ, смоделированный женой и любовником. Муж, именно как офицер, оказывается способным на тот поступок, который только и может принять Кавказ, со своей допотопной, в смысле первозданной и нетронутой, вечной, красотой и покоем, которым действительно не будет конца. Кавказ и честь составляют определенное семантическое единство, ставшее одним из ведущих мотивов русской словеснокультурной традиции. Муж, воплощает это единство во всей его полноте, в соответствии с требованиями кодекса чести (смыть позор кровью), однако тоже чрезмерно идеально, на грани пародии, как это было и в случае с пейзажем. И в его поступках сочетается тот же мелодраматизм и трагичность, что и у любовников. Четкая и сдержанноизящная последовательность аристократических действ мужа по приезде в Сочи, разрешается одновременно и подлинно трагическим поступком, но и поступком, облеченным в явную мелодраматическую форму: "он лёг на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов" [2, с.259].
Таким образом, две линии сходятся и обнаруживают единство своих оснований – трагического и тривиального, – поставленных рядом, взаимодействующих, порождающих непоправимые и непредсказуемые поступки. Но ни одна из них не может претендовать на подлинность бытия, о которой много писал И. Бунин. Лишь оксюморонность безнадёжносчастливого вопля песни Кавказаможет быть соотнесена со сложным и нерасчленимым по своей сути единством тривиальности и трагичности существования русского человека в единстве сложности и сюрпризности всех его проявлений. Кавказ, знаемый, увиденный и, казалось бы, достигнутый и любовниками, и мужем, тоже так и остается для них сюрпризным по своей сущности. Он, представая во всей первозданноестественной полноте, может обнажить и обнаружить подлинную, крайне сложную, неоднозначную, но всегда непредсказуемую для самого человека сущность и его, и чужих мыслей, чувств, поступков. Именно поэтому заглавие рассказа И. Бунина "Кавказ" невозможно считать произвольным. Оно отображает сущность тех словеснокультурных процессов, типологических взаимодействий, которые во многом и обусловливают движение литературного процесса, появление и осуществление его каждого отдельного произведения.
Литература:
1. Эпштейн Э. "Природа, мир, тайник вселенной…": Система пейзажных образов в русской поэзии. – М.: Высшая школа, 1990. – 303 с.
2. Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. – М.: Худож. лит, 1988. – Т.5. – 639 с.
3. Силантьева В.И. Художественное мышление переходного времени (литература и живопись): А.П. Чехов, И.И. Левитан, В.А. Серов, К.А. Коровин. – Одесса, 2000. – 352 с.
4. Чернышевский Н.Г. Русский человек на rendervous // Русская литературная критика 1860х гг. ХIХ ст. – М.: Просвещение, 1984. – 352 с.
5. Гумилев Н.С. Стихи; Письма о русской поэзии. – М.: Худож. лит., 1990. – 447 с.