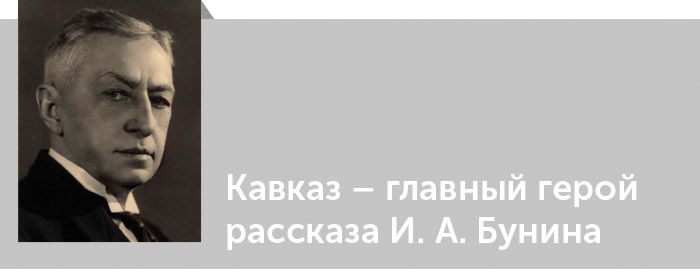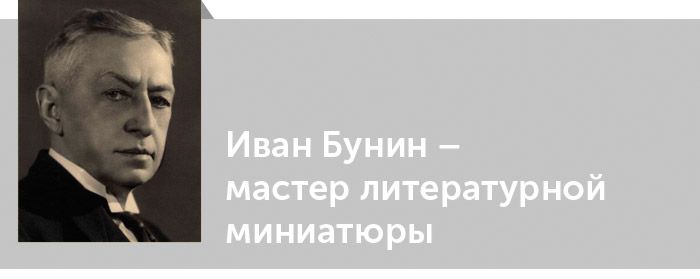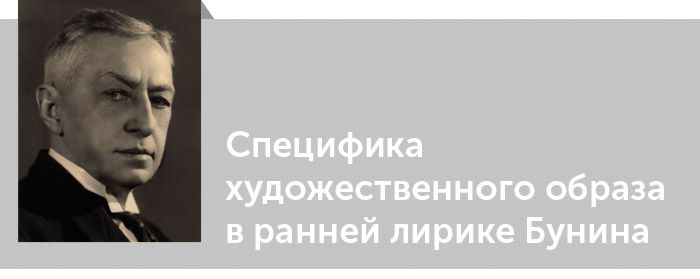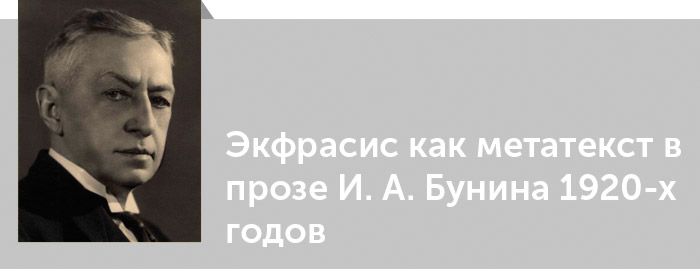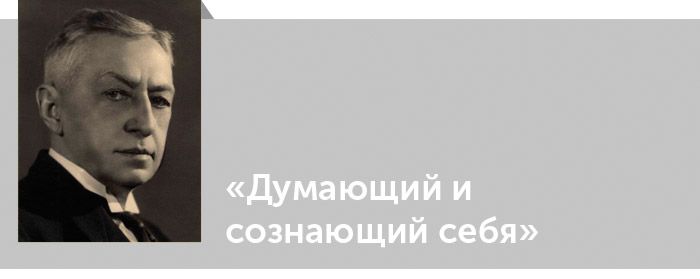Пределы секуляризации заголовочного комплекса: от «Покрова Богородицы»– к «Эпитафии» И. А. Бунина
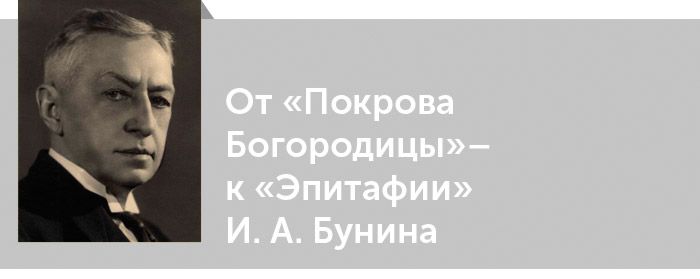
УДК 130.2-3
Вячеслав Океанский, Жанна Океанская (г. Иваново, Россия)
Пределы секуляризации заголовочного комплекса: от «Покрова Богородицы»– к «Эпитафии» И. А. Бунина (имя как самоистолкование целогои автор как эхо)
У статті висвітлено герменевтичну трансформацію назви у відомому бунінському творі, визнаному самим автором як «найкраще» оповідання; у методологічному відношенні здійснене звернення до «Філософії імені» батька Сергія Булгакова, відповідно до якої словесність виступає як «арена самоідеації Всесвіту»; проблематика сакрального космосу розкрита тут у взаємозв’язку з эсхатологічною тематикою, а також через звернення до символічної діалектики культури й цивілізації.
Ключові слова: заголовок, ім’я, космос, покрив, жито, руда, життя, смерть, епітафія, межа.
В статье показана герменевтическая трансформация названия в знаменательном бунинском произведении, признаваемом самим автором в качестве своего «лучшего» рассказа; в методологическом отношении осуществлено обращение к «Философии имени» отца Сергия Булгакова, согласно которой словесность выступает как «арена самоидеации Вселенной»; проблематика сакрального космоса раскрыта здесь в сопряжённости с эсхатологической тематикой, а также через обращение к символической диалектике культуры и цивилизации.
Ключевые слова: заглавие, имя, космос, покров, рожь, руда, жизнь, смерть, эпитафия, предел.
As shown hermenevtycheskaya Article Title Transformation in znamenatelnom Buninskaya Works, pryznavaemom by the author in kachestve svoeho «luchsheho» Story; in methodological AGAINST Appeal osuschestvleno k «Philosophy Called» the father Sergius Bulgakov According kotoroj Philology vыstupaet Like «arena samoydeatsyy universe»; Sacred Space problems solved here in sopryazhёnnosty with эshatolohycheskoy tematykoy, as well as through the Appeal Category symvolycheskoy Dialectics of culture and civilization.
Key words: Title, Name, space, canopy, rozh, red, life, death, эpytafyya, predel.
Теоретико-методологические принципы нашего подхода исчерпывающе представляет нижеприводимый фрагмент из «Философии имени» отца Сергия Булгакова, существенно, как это хорошо видно, близкий более позднему, хайдеггеровскому пониманию языка: «…не мы говорим слова, но слова внутренно звуча в нас, сами себя говорят, и наш дух есть при этом арена самоидеации вселенной, ибо всё может быть выражено в слове, причём в это слово одинаково входит и творение мира и наша психика… Чрез то, что вселенной, миру, присуща идеация, он есть и слово… В нас говорит мир, вся вселенная, а не мы, звучит её голос. Мысль Шеллинга, что мир есть тожество субъективного и объективного, идеального и реального или как мы должны перевести это, словесного и несловесного, логического и алогического начала, сродная, но искривлённая мысль Шопенгауэра об антилогической воле и логических идеях; сродная мысль Гартмана об единстве в бессознательном алогического и мышления; мысль Платона и Плотина о мире идей, просвечивающем через тёмную алогическую область, – всё это суть исторические выражения той аксиомы, которая молчаливо подразумевается о слове: в них говорится о мире, что сам говорит о себе мир. Слово есть мир, ибо это он себя мыслит и говорит, однако мир не есть слово, точнее не есть только слово, ибо имеет бытие ещё и металогическое, бессловесное. Слово космично в своём естестве, ибо принадлежит не сознанию только, где оно вспыхивает, но бытию, и человек есть мировая арена, микрокосм, ибо в нём и через него звучит мир, потому слово антропокосмично… [2, с. 25–26]».
Слово в «обратной перспективе» (по отцу Павлу Флоренскому), иконически понимаемое в русле булгаковской «Философии имени», как «арена самоидеации вселенной», ставит автора литературного текста в положение объективного транслятора «антропокосмических» состояний; культурноисторическая обусловленность последних выражается в характере изменения авторских отношений к художественному целому, что в интересующем нас случае находит отражение в текучести смыслов изнутри заголовочного комплекса. В мире рассматриваемого произведения эта трансформация выражает начало макроцивилизационной катастрофы и образование экзистенциального вакуума.
Бунинский рассказ был написан на исходе 1900 года вслед за «осенней поэмой» автора – «Листопад», где изображается эсхатологическая мистерия крушения отцветшего мира, прохождение его через хаос запустения и полная полярно-космологическая трансформация реальности. Впервые он опубликован в августовском номере «Журнала для всех» (СПБ., 1901, № 8) под заглавием «Руда»; этому предшествовала интересующая нас коллизия…
Первоначально рассказ был озаглавлен «Покров Богородицы»; Бунин послал его в журнал «Жизнь» (в октябрьском номере которого был опубликован его «Листопад» с посвящением Максиму Горькому), но в июне 1901 г. журнал был запрещён постановлением четырёх министров «за вредное направление», продолжая выходить в течение полутора лет в Лондоне и Женеве. Небезразличен тот факт, что журнал имел марксистско-ницшеанскую революционную ориентацию: в нём были напечатаны горьковский «Фома Гордеев», чеховская повесть «В овраге», ленинская (под псевдонимом «В. Ильин») работа «Капитализм в сельском хозяйстве (О книге Каутского и о статье г. Булгакова)», где ещё при сохранении прежних симпатий намечается первое расхождение пролетарского вождя с философом-аграрием… В результате писатель предложил «Покров Богородицы» в августовский номер другого издания – «Журнала для всех»: «“Покров Богородицы”, − писал Бунин в сопроводительном письме, сетуя о «погибшей “Жизни”» − это лучшее из того, что я написал [3, с. 493]» (мимоходом заметим, что аналогичным образом он отзывался и о своём «Листопаде» – то есть «вкупе» мы здесь прикасаемся к самому яркому и характерному для ранней поэзии и прозы Бунина).
Рассказ был одобрен редакцией, но помещать его под заглавием «Покров Богородицы» в августовском номере редколлегия отказалась. Редактор Миролюбов ответил Бунину так: «Рассказ Ваш взят и набирается, но я Вас убедительно прошу разрешить его напечатать в октябрьском номере. Наш подписчик – человек простой и в большинстве, вероятно, церковный. “Покров Богородицы” помещать в месяц “Успения Богородицы” не совсем удобно [3, с. 493]». Таким образом, оставалось с конца июня подождать три с небольшим месяца – но Бунин настоял на августовском номере, для чего ему пришлось переменить название своего «лучшего» рассказа: он теперь назывался не «Покров Богородицы», а «Руда» с подзаголовком «Из книги “Эпитафии”». Позднее, в книге «Начальная любовь» рассказу дано простое название «Эпитафия», с каким оно пришло и в последующие собрания сочинений.
От издания к изданию Бунин редактировал и сокращал «лучший» рассказ: так, в последней редакции он зачем-то выкинул из него целый кусок, где после слов «зацветали цветы, наступали весёлые сенокосы» говорилось о культурно-морфологической взаимоукоренённости крестьян и земли, человека и пространства в её просветлённой и вместе с тем опустошающей сновидности: «Что иное можно сказать о степной деревушке? Люди родились, вырастали, женились, уходили в солдаты, работали, пировали праздники… Главное же в их жизни всё-таки занимала степь – её смерть и возрождение. Пустела и покрывалась снегами она, – и деревня более полугода жила как в забытьи; тогда немало умирало народа от холода, голода и чёрных изб, немало замерзало в степи. Наступала весна, наступала жизнь, т. е. и работа, скрашенная весёлыми днями… Или они только снились нам в детстве? [3, с. 493]».
Согласно концепции «Заката Европы» О. Шпенглера, «культуры – живые существа высшего ранга», «растущие с возвышенной бесцельностью, как цветы в поле»; и мы творим, «подчиняясь воздействию космического на нас», всегда исторически преломлённого через внутренний опыт той или иной культуры в «текучих горизонтах истории Земли и истории звёзд [6, с. 387–388]», над чем – «есть вечный в Господе покой» (из «фаустовского» эпиграфа к «Закату Европы»). Нам представляется, что именно в этом высоком детерминизме «исихии», а отнюдь не в психологической рефлексии на ближайшем ситуативном плане с его мнимыми «случайностями», «мотивами» и «решениями» кроется объяснение самой трансформации названия и её внутренняя логика – секуляризация заголовочного комплекса.
Обратимся к бунинскому произведению: если бы его потребовалось прочитать вслух, то на это ушло бы примерно тринадцать минут – этот маленький рассказ легко ли пересказать? Фабула здесь едва просматривается, поглощается раздумием об исчезающей многовековой культуре с её крестьянским укладом и надвигающейся цивилизации, разрушающей прежний тысячелетний теотопос, благословлённое Богом устроение пространства, мира, места… Медитация выходит на первый план сюжетной динамики и объемлет фабульность, которая, тем не менее, тут есть, о чём – несколько ниже.
Отметим также, что весь рассказ проникнут «глубокой грустью» по тому, что «старое уходит». Однако писатель видит фатальность разрушения этого родного ему «гнезда», сроднившего небеса и землю, его самого и мужика под «покровом Богородицы», образ которой, теперь уже «точно в горести, потемнел». А люди «ищут… источников нового счастья, – ищут их уже в недрах земли, где таятся талисманы будущего… [3, с. 177]».
Возникает в самом конце рассказа жуткий образ «руды», добываемой из земного чрева, «заводских труб» и «крепких железных путей»… «Освящения» и «благословения» на это Небесной Царицы уже не будет… Но «чьё» тогда будет? – вопрошает писатель в этом, одном из самых православных своих рассказов [3, с. 177].
В композиционном центре его – всё-таки не «руда», а «голубец, – крест с треугольной тесовой кровелькой, под которой хранилась от непогод суздальская икона Божией Матери [3, с. 174]». Голубец в своём имени несёт печать дара Святого Духа, хранящего и питающего земные пути, о чём речь – уже в самом первом предложении рассказа: «За крайней избой нашей степной деревушки пропадала во ржи наша прежняя дорога к городу [3, с. 174]».
Рожь, подобно лермонтовской «желтеющей ниве», сквозь «волнение» которой поэт «в небесах видит Бога» – небесный дар, зачаток квасного хлеба, прелагающегося в Тело Господне на Святой Литургии; и «пропадание прежней дороги во ржи» – символизирует ангелическое хранение степного жития от надвигающегося из будущего городского ада, что, в принципе, имеет совершенно универсальное религиозно-мифологическое значение и лишь по мере углубляющегося заката символического миропонимания вплоть до его окончательной утраты здесь можно указывать на характер субъективной интерпретации… Традиционные города с их центрирующей храмовой символикой сохраняют эту древнейшую мистерию приношения заповеданной Христом бескровной жертвы – стремительно превращающиеся в «парки» внегородские массивы оказываются местом «кровавых боен».
О духовных исканиях Бунина, о его увлечениях восточными религиями – продуктами культурных декадансов, восточной мудростью вообще, в частности – повышенном интересе к буддизму, можно говорить много, но всё-таки весьма характерно то, что в конце жизни Бунин несомненно укореняется в Православии, о чём, например, свидетельствует его замечательная переписка с архимандритом Киприаном Керном, как и личное общение с ним, к которому он однажды обратился со словами:
«Батюшка, перекрестите меня, чтобы мне было легче жить…»; «Боже мой, сколько Ты дал этому человеку! Боже мой, как Ты одарил его! Как он богат Тобою! − восклицает всемирно известный патролог, который пишет самому Бунину, не страшась его искусить: «Я восхищаюсь замыслом Божиим о Вас и думаю о том великом назначении Человека, которое дано всякому, и с особенной силой запечатлено на Вас [5]». Кроме того, заметим очевидное, что Бунин вырос, как художник слова, в принципе – в православной христианской культуре, апокалиптическое угасание которой он обострённо переживал, о чём, в частности, свидетельствует его «лучший» рассказ, изменение названия коего представляется само по себе очень показательным.
Конечно, это рассказ не о «руде» (промежуточный вариант названия, соответствующий настоящему цивилизационному состоянию жизненного мира!), не о начале новой техногенной формы человеческого обитания на земле (о чём, несомненно, тут идёт речь!), но это – эпитафия эсхатологически исчезающему с поверхности земли культурному миру тысячелетней древности, в котором «старая икона дни и ночи охраняла старую степную дорогу, незримо простирая своё благословение на трудовое крестьянское счастье». «В детстве, − пишет Бунин (вполне справедливо здесь отождествляя мужицкое и барское отношение к святыне, согласно которому «начало премудрости есть страх Господень» (Пс., 110 : 10; Прит., 1 : 7; Прит., 9 : 10), − мы чувствовали страх к серому кресту… Но и благоговение чувствовали мы к нему… [3, с. 174]».
В приложении к русской культуре (а именно о её угасании говорит Бунин в этом рассказе и лишь косвенно – о вещах более глобальных…) стоит говорить не о двух тысячах лет большой христианской истории, которая, апокалиптически углубляясь, отнюдь ещё не кончается – но о тысяче лет православной Руси под покровом Пресвятой Богородицы, а также о прохождении некоего универсального цикла русской «женственной» (как её называли многие отечественные религиозные философы) культурой. Когда-то ведь и христианство – согласно Пушкину, «великий духовный и политический переворот планеты» – вытеснило более древний языческий мир и воспринималось как чудовищный катаклизм его жрецами, которые за внешним крушением традиционных форм не могли ещё рассмотреть сокровенного содержания того нового и уже абсолютного, что входило в историческую жизнь, изнутри которой было суждено прорасти вечному.
Обратимся к иконографии священных событий библейской истории, связанных с земной жизнью Богоматери, остановившись на пяти важнейших сюжетах: Рождество Пресвятой Богородицы – Благовещение Пресвятой Богородице – Рождество Спасителя – Сретение Господне – Успение Пресвятой Богородицы. В центральных иконах между Рождеством и Успением Богоматери пропорции меняются… На первой иконе Мария приходит в мир маленькой девочкой, ещё не ведающей о своём высшем предназначении. А дальше – Она изображена уже взрослой, но вместившая в себя семя Благовестия «Невесто Неневестная» как бы умаляется, уступая место Тому, для служения которому Она предназначена свыше. В высшей степени интересно то, что остаётся неизменным в этих пропорциях: Она входит в мир человеческий и, пройдя, покидает его – маленькой девочкой, что остаётся не только символом её небесной чистоты и непорочности, но иконологически свидетельствует о восстановлении истинных пропорций между творящим Богом и тварным миром, с которым она телесно породнила самого Бога, поскольку Христос унаследовал своё тело только от Богородицы!
Покровительница мира покоится на руках Господних – по-детски смиренно и всецело доверяя их делам. Гибель России – для Бунина, равно как и Успение Богородицы – для апостолов (мы видим это на изображении), непонятны: вызывают изумление и великую грусть. Но автор здесь проявляет высшее смирение, никого не судит и лишь вопрошает: чем же освятят новые люди новую жизнь? чьё благословение призовут они на свои пути? И это косвенно показывает, что для Бунина жизнь без освящения и благословения невозможна – таким образом, как и то, что сам он всецело принадлежит культуре этого гибнущего в историческом времени мира; равно как и апостолы, склонившиеся над гробом Богоматери всецело принадлежат Ей, но значит – и той незримой для них и сидящей на руках у Господа девочке, которая уже знает тайну великой трансформации как исполнение обещания тех вечных последствий, которые сулит нам наша маленькая земная жизнь.
Поверх прямой сюжетной перспективы мы можем пересказать содержание этого рассказа, лишь на первый взгляд укрупняя его содержательный масштаб до возведения приоткрытых в нём опорносмысловых реалий к высшим священным духовным событиям, иконографически представленным в богородичном цикле – на самом же деле, как оказывается, это – единственно возможный анагогический путь, «обратная перспектива» которого содержится в иконологическом эпицентре самой композиции этого произведения.
Антииконологический же провал, означенный у Бунина в предфинальной части повествования, упирается в образ «руды», маркированный и одним из промежуточных вариантов авторских названий… Фабульная конструкция рассказа представляет собою разорванный круг, разрыв богослужебного годового круга, он разорван в обрамлении лета…
Образами благословенного лета и хлебного поля начинается первая из семи содержательных частей бунинского текста (два первых абзаца), завершаясь молитвою: «– Пресвятая Богородица, защити нас покровом твоим! [3, с. 174]».
Вторая часть представляет собою третий абзац текста, начинающийся со слов: «Осень приходила к нам светлая и тихая… [3, с. 174]».
Третья часть – четвёртый абзац, обрамляющий «жуткий» образ степной зимы «с начала ноября и до апреля». Здесь почти дословно всплывает из «Листопада» волчье всматривание в сжимающийся человеческий мир; там: «И на поляне волчьи очи / Неясным светятся огнём» – здесь: «…волчьи глаза светились ночью на задворках [3, с. 175]».
Четвёртая часть – пятый абзац, после фразы «Поле долго было мёртвым…», маркирует пробуждение и медленный приход весны с её «дождями» и «первым громом», «тонкими запахами» и «звёздными ночами… [3, с. 175]».
Пятая часть – шестой абзац, в содержательном отношении фиксирующий возвращение лета с его «сенокосами» и ритуальными «играми», но и – с молитвами: «…помню трогательные молебны перед кроткой заступницей всех скорбящих, – в поле, под открытым небом… [3, с. 176]».
После этой фразы начинается шестая часть – седьмой, восьмой, девятый и десятый абзацы – со слов: «Жизнь не стоит на месте, – старое уходит, и мы провожаем его часто с великой грустью [3, с. 176]». Далее Бунин ставит провокативный вопрос, позволяющий уловить по всему скользящий суетный «дух времени», легкомысленную атмосферу секуляризма: «Да, но не тем ли и хороша жизнь, что она пребывает в неустанном обновлении? [3, с. 176]». Однако же, затем возникают не оставляющие никаких сомнений образы утраты райского бытия («Детство миновало»; «…само небо, казалось, стало гневаться на людей [3, с. 176]»), засыхающего «до срока» растительного мира – «Тогда, точно в горести, потемнел от пыльных ветров кроткий лик Богоматери. Проходили годы, – она казалась безучастной к судьбе своего поля. И люди мало-помалу стали уходить по дороге к городу… Степь вокруг была мертва… И голубец уже покосился под берёзой, на верхушке которой торчали сухие белые сучья. Теперь, в сумерки, когда за тёмными полями слабо алел закат, ночевали на ней только грачи да вороны, которые немало видели перемен на этом свете… [3, с. 177]».
Седьмая – финальная – часть бунинского рассказа представлена одиннадцатым и двенадцатым абзацами, начиная со слов: «Вот новые люди стали появляться на степи [3, с. 177]». Автор показывает радикально иной – по сути: люциферианско-демонический! – способ их «нового» бытия и быта: «Ночью они жгут костры, разгоняя темноту, и тени далеко убегают от них по дорогам. С рассветом они выходят в поле и длинными буравами сверлят землю. Вся окрестность чернеет кучами, точно могильными холмами. Люди без сожаления топчут редкую рожь, ещё вырастающую кое-где без сева, без сожаления закидывают её землёю, потому что ищут они источников нового счастья, – ищут их уже в недрах земли, где таятся талисманы будущего… [3, с. 177]».
И, вот, здесь – в самом финале (последний абзац) возникает антиевхаристический образ: «Руда!» – что такое «руда»? – не «полезное» ли «ископаемое», как мы сейчас говорим? Но как добывается «ископаемое» и где залегает оно?
Ответим – в недрах земли, куда устремляются отвратившиеся от неба «новые люди» – те, что устремились к покорению её адских сокровищ, а значит – к вхождению в преисподнюю; они «топчут рожь», обращая поверхность земли в расширяющуюся могилу… Сколько сразу указаний на дьявольский род нового человеческого занятия!
На древней Руси в полной мере архаически именовали землю: «Мать-Сыра-Земля» – цивилизованные же «новые люди» превращают её в рабочий материал, в бездонную кладовую энергии и гигантскую бензоколонку… Но вместе с тем – с проникновением в её заповедные и страшные недра – происходит пробуждение демонических духовных сил, которые начинают управлять людьми, на опасность чего есть интересные указания у Р. Генона в статье «Значение металлургии» [4].
Ведь ад – согласно практически всем древнейшим традиционным представлениям – находится как раз в центре земли, куда устремлены эти «новые люди», пытаясь овладеть «талисманами будущего»… Что это за «талисманы»? – безусловно, власть над миром. Та власть, о которой Еве в райском саду говорит сам дьявол: «Будете, как боги…» – иными словами, десакрализация земли даст энергию для штурма к небу и покорению всего мироздания, о чём главное попечение демона прогрессизма.
Однако же, человек при этом потеряет главное: он останется без Бога, Бог отвернётся от него и Бога человек уже не найдёт. Поэтому последние два вопроса в рассказе: «Чем-то освятят новые люди свою новую жизнь? Чьё благословение призовут они на свой бодрый и шумный труд? [3, с. 177]» – могут носить и риторический, и даже вполне отрицательный характер – ничьего благословения люди не найдут и нечем будет им освятить свою жизнь. Поскольку само благословляющее и священное, как единожды дарованный незаслуженный дар, уже будет потеряно людьми, утрачено безнадёжно…
Этот глобальный кризис был обострённо пережит в ХХ веке самыми глубокими писателями и мыслителями, пришедшими в конце концов к закономерному выводу: «Только Бог ещё может нас спасти, − говорил М. Хайдеггер незадолго до смерти в интервью журналу «Шпигель», единственную возможность спасения я вижу в том, чтобы в мышлении и поэтическом творчестве приуготовлять готовность к явлению Бога либо же к отсутствию Бога в гибели, – чтобы мы, говоря грубо, не «подыхали», а уж если погибали, то перед лицом отсутствующего Бога [1, с. 243]».
Вот, как раз об этом фундаментальном событии, приключившимся с Россией и всем человечеством – «лучший» бунинский рассказ. Нумерологическая символика его двенадцати абзацев и семи рассмотренных частей (тематизированных как: лето – осень – зима – весна – лето – прощание с прошлым – раздумие о будущем) оттеняет универсальные для сакральных традиций циклические нарративы пространства и времени в их космологической исполненности. Эпитафия представляет собою взгляд извне на сбывшееся, которого уже нет – и ранний Бунин, восхищенный над миром и влекомый его сокровенным бытийно-холистическим импульсом, оборачивается отнюдь не из времени, а из близкой вечности на родную для него излучину «реки времён», в сущности – сбывшуюся грёзу…
И если образы «Покрова Богородицы» и «Руды», антитетически соединяющие метафизические области абсолютного Верха и абсолютного Низа, образуют сакральную космологическую Вертикаль – то образ «Эпитафии» свидетельствует о точке на плоскости, обнулении как некоем символически насыщенном пределе, в том числе – пределе возможной секуляризации.
Литература
1. Беседа сотрудников журнала «Шпигель» Р. Аугштайна и Г. Вольфа с М. Хайдеггером 23 сентября 1966 г. // Философия Марина Хайдеггера и современность. − М. : Время и бытие, 1991. − С. 233−250.
2. Булгаков С.Н. Философия имени : соч. в 2 т. / С.Н. Булгаков. − М : Искусство; СПб : Инапресс, 1999. − Т. 2 : Философия имени. Икона и иконопочитание. – 278 с.
3. Бунин И. Собрание сочинений : в 6 т. / И. Бунин. − М. : Художественная литература, 1987. − Т. 2 : Произведения 1887–1909 г. – 511 с.
4. Генон Р. Значение металлургии / Р. Генон // Царство количества и знамения времени. − М. : Беловодье, 1994. − С. 256−264.
5. Из переписки Ивана Бунина и архимандрита Киприана // Россияне : Литературнохудожественный илл. журнал России. − 1995. − № 9–10. − С. 22−25.
6. Шпенглер О. Очерки морфологии мировой истории / О. Шпенглер. − М. : Мысль, 1998. − Т. 2 : Всемирно-исторические перспективы. − 606 с.
Стаття надійшла до редакції 12 липня 2014 року