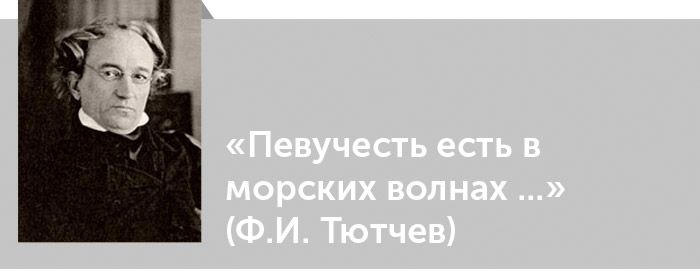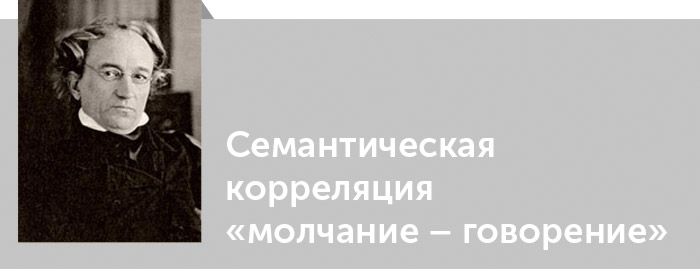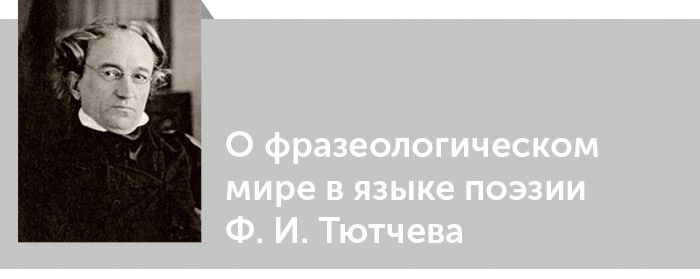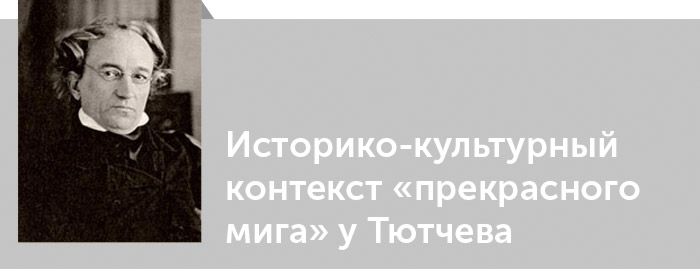«Человек смиренный»: о поэтике миросозерцания Ф. Тютчева
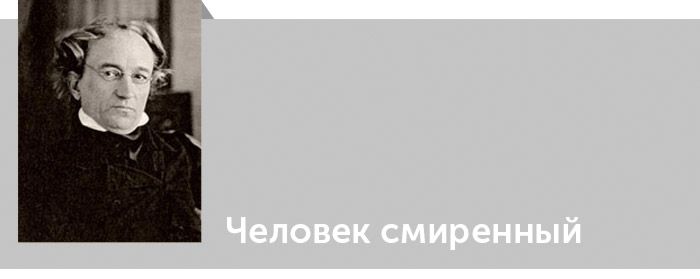
УДК 78.01:784.3
Наталья Пилипенко
Принципы художественного сознания Ф.Тютчева рассмотрены с позиций христианской антропологии через основные её концепты– Любовь, смирение, душа, а также сравнение с романтической семантикой гордого человека.
Ключевые слова: поэзия, природа, смирение, Любовь, страдание, молитва.
Пилипенко Н. «Людина смиренна»: про поетику світобачення Ф. Тютчева. Принципи художньої свідомості Ф.Тютчева розглянуто з позицій християнської антропології через основні її концепти – Любов, смирение, душа; проводиться порівняння з романтичною семантикою гордої людини.
Ключові слова: поезія, природа, покора, Любов, страждання, молитва.
Pilipenko N. «A humble man»: the poetic world-view of F.Tyutchev. The principles of artistic consciousness by F. Tyutchev are analyzed from positions of Christian anthropology through its main concepts – Love, Humility , Soul; the comparison with romantic semantics with the Man proud of himself is carried out.
Key words: poetics, nature, humility, Love, sufferings, prayer.
Веленью Божию, о Муза, будь послушна… Вот такую высоту задал Пушкин русским музам, вот такую работу духа! Этой высотой отныне определяется причастность поэта к большой поэзии. Весь путь Ф. Тютчева, человека и поэта, человека необыкновенного ума и образованности, с пронзительным поэтическим даром – это путь чуткого прислушивания к велению Божию: о себе, о России, о назначении человека вообще и творца, в частности. По силе прозрения этого «веленья Божия» Тютчев не раз поднимался до высот Пушкина, до высот пророков. Недаром в тех главных стихах, по которым мы знаем этого поэта, вся мудрость жизни, вся разгадка тайны и смысла бытия уложены, как правило, в одну-две строки, которые, собственно, мы помним и повторяем: …В разлуке есть высокое значенье…Нам не дано предугадать,/ Как слово наше отзовется……О, как убийственно мы любим!……Мысль изреченная есть ложь……Умом Россию не понять…Не плоть, а дух растлился в наши дни…
Каждая из этих строк концентрирует в себе энергию целого стихотворения, силу и глубину пророческого дара поэта; с ними мы проживаем разные периоды нашей жизни – от «люблю грозу в начале мая» до «я встретил вас»… И, видимо, недаром называют Тютчева поэтом-пророком и мыслителем, а его лирику – философией[1], если и всю глубочайшую философию о человеке он сумел уложить в одну строку, как бы заранее споря с будущим пролетарским писателем, громогласно возгласившим на весь ХХ век: «Человек – это звучит гордо!»…Велик и труден путь Тютчева к его, напротив, тихой строке; много потерь, много скорбей пришлось пережить ему на этом пути, чтобы выстрадать простую и высокую истину: «Человек – это звучит смиренно!»
Какие вопросы волновали поэта на пути к его «открытию», какие сомнения терзали его душу, какие мысли не давали покоя? Думается, они знакомы каждому мыслящему человеку, который хочет понять: грешный он или праведный? что надобно ему для счастья? что значит любить, и как надо любить? как окормлять ему свою душу? Не находя ответов на эти вопросы в своей смятенной душе, Тютчев задает их природе – ближайшей поверенной в мире «таинственно-волшебных дум»:
О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?…
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке –
И роешь и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!…
И не только в ветре – в каждом знаке природы, каждом ее явлении поэт находит живую душу, способную откликнуться на его боль, на непонятную муку сердца, на немой вопрос:
Что ты клонишь над водами,
Ива, макушку свою?
И дрожащими листами,
Словно жадными устами,
Ловишь беглую струю?…
Хоть томится, хоть трепещет
Каждый лист твой над струей…
Но струя бежит и плещет,
И, на солнце нежась, блещет
И смеется над тобой…
И струя, и ива, и жаворонок – они все одушевлены, все становятся участниками таинственного внутреннего диалога:
Вечер мглистый и ненастный…
Чу, не жаворонка ль глас?…
Ты ли, утра гость прекрасный,
В этот поздний, мертвый час?…
Гибкий, резвый, звучно- ясный,
В этот мертвый, поздний час,
Как безумья смех ужасный,
Он всю душу мне потряс!…
Постепенно из соучастника романтических неистовств и душевной смуты – в жажде слиться с беспредельным! – природа превращается в тихого утешителя, мудреца и смиренника с ясной душой; в ее поэзии Тютчев находит тот образец гармонии, равновесия и любви к «всяк входящему», которого так не хватает хаосу романтической души:
Как сладко дремлет сад темно-зеленый,
Объятый негой ночи голубой,
Сквозь яблони, цветами убеленной,
Как сладко светит месяц золотой!…
Таинственно, как в первый день созданья,
В бездонном небе звездный сонм горит,
Музыки дальной слышны восклицанья,
Соседний ключ слышнее говорит…
Природа становится исповедальней поэта – ей он исповедуется в неясном, невыразимом, смутном, несказуемом – и знает, что она поймет его своим материнским сердцем:
Нет, моего к тебе пристрастья
Я скрыть не в силах, мать – земля!
Духов бесплотных сладострастья!
Твой верный сын, не жажду я!
Что пред тобой утеха рая,
Пора любви, пора весны,
Цветущее блаженство мая,
Румяный свет, златые сны?…
Весь день, в бездействии глубоком,
Весенний, теплый воздух пить,
На небе чистом и высоком
Порою облака следить;
Бродить без дела и без цели
И ненароком, на лету,
Набресть на свежий дух синели
Или на светлую мечту…
***
Тени сизые смесились
Цвет поблекнул, звук уснул –
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул…
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном…
Час тоски невыразимой!…
Все во мне, и я во всем!…
Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души
Тихий, томный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства – мглой самозабвенья
Переполни через край!…
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!
Приняв исповедь поэта, природа словно добрый пастырь-наставник, ведет его за собой от «тоски невыразимой» к тайникам откровения: «Дай вкусить уничтоженья»! Как нам понять поэта-провидца, как услышать и постичь его мольбу? И почему этого «уничтоженья» просит Тютчев как награды, как благодати?
Поэт уже понял, какое зло носит человек в самом себе, и зло это– гордыня. (Помните все того же Горького? «Человек – это звучит гордо»?). Гордый человек Тютчева уже знает о своей болезни и ищет исцеления: учится у природы «растворению» («все во мне, и я во всем!»), тишине и покою:
Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Все залей и утиши!
А еще учится любви: ведь что это за чувства, которые доводят до самозабвения? – А это любовь, только она может заставить нас з а б ы т ь себя, чтобы помнить о ближних наших! Ну чем не «учебник философии»? Двустишие – лекарство от неприкаянности, от «тоски невыразимой», от любви к себе, целая наука о человеке – познай себя, узнай правду о самом себе, и воскликнешь, и прострешь руки в мольбе: «Дай вкусить уничтоженья, с миром дремлющим смешай!» –теперь получило новую интерпретацию: «Усмири мою гордыню! Дай познать любовь!» Вот так, через «сумрак зыбкий», «сумрак сонный», через мглу неясных ощущений природа вела поэта к великому откровению Любви и Смирения, к ясному свету – от ненастья уныния:
Когда в кругу убийственных забот
Нам все мерзит – и жизнь, как камней груда,
Лежит на нас, – вдруг, знает Бог откуда,
Нам на душу отрадное дохнет,
Минувшим нас обвеет и обнимет
И страшный груз минутно приподнимет.
Так иногда, осеннею порой,
Когда поля уж пусты, рощи голы,
Бледнее небо, пасмурнее долы,
Вдруг ветр подует, теплый и сырой,
Опавший лист погонит пред собою
И душу нам обдаст как бы весною…
Еще одно откровение дарит природа поэту: исцелять и утешать она учится у их общего Создателя; она умеет обвеять весной средь поздней осени, как Бог умеет дохнуть на душу отрадным и приподнять груз страшных, убийственных забот; а главное, она знает (как знает Бог!), откуда на это берутся силы и благодать? А поэт – знает ли силу благодати?.. Во всяком случае, жаждет сошествия ее на свою душу, и знает, что есть один путь к ней – через очищение души от греха:
Не знаю я, коснется ль благодать / Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать, / Пройдет ли обморок духовный?
Но чтобы дойти к свету – «из ночной тени» – прежде всего надо усмирить в себе ропот и бунт, напоить иссушенную безверием душу влагой прошения, просьбы – смиренной ектении:
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит…
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры – но о ней не просит.
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!»
И жаждет веры, но о ней не просит. Тютчев сердцем чует глубинную правду: человек на краю погибели оттого, что не умеет самого малого – просить; оттого и несчастлив, оттого и скорбит, и «невыносимое днесь выносит», что не умеет, с молитвой и слезой, попросить о помощи: «Помоги, Господи! Паче всех человек окаянен есмь»… И отступит тогда погибель гордыни, и затеплится сердце лаской – ведь только умеющий просить (а не требовать) умеет и сам помочь, а умеющий терпеть и смиряться имеет внутри силу неодолимую, и только знающий горечь унижения может возвысить других. И такие богатства духа родятся в земле равнинной, согбенной, неказистой[2]; именно она, скудная красками, невысокая ростом, русская мать-земля озарила Ф.Тютчева высокой Божьей правдой:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа –
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный нашей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.
И еще один трудный, жестокий урок смирения и покаяния получил поэт от жизни, чтобы узнать всю правду о себе. Это урок беззаветной, безмерной, жертвенной женской любви (не подвластной даже смерти), которой наградила и наказала его одновременно судьба. И опять природа приходит на помощь, извлекая из своих духовных запасников сокровища благодатной любви-утешения. Она дарит их людям как ненавязчивый пример нежности друг к другу:
В часы, когда бывает / Так тяжко на груди,
И сердце изнывает, / И тьма лишь впереди;
Без сил и без движенья / Мы так удручены,
Что даже утешенья / Друзей нам не смешны, –
Вдруг солнца луч приветный / Войдет украдкой к нам
И брызнет огнецветной / Струею по стенам:
И с тверди благосклонной, / С лазуревых высот
Вдруг воздух благовонный / В окно на нас пахнет…
Уроков и советов / Они нам не несут,
И от судьбы наветов / Они нас не спасут
Но силу их мы чуем, / Их слышим благодать
И меньше мы тоскуем, / И легче нам дышать…
Так мило-благодатна, / Воздушна и светла,
Душе моей стократно / Любовь твоя была.
Но не так легко откликнуться на любовь гордому сердцу – горе тому, у кого внутри все выжжено демонским испепеляющим огнем неудовлетворенной гордыни, – тот не способен полюбить других (и этим сделать счастливым себя). Недаром у Пушкина все гордецы – убийцы (Онегин, Алеко, Дон-Жуан), и лермонтовские Печорин, Арбенин – убийцы.
Гордыня – символ смерти, и изнутри, и снаружи.
О, не тревожь меня укорой справедливой!
Поверь, из нас из двух завидней часть твоя:
Ты любишь искренно и пламенно, а я –
Я на тебя гляжу с досадою ревнивой.
И, жалкий чародей, перед волшебным миром,
Мной созданным самим, без веры я стою –
И самого себя, краснея, сознаю
Живой души твоей безжизненным кумиром.
Видимо, и о своей холодной, горделивой душе сожалеет Тютчев. Но самоотверженная любовь женщины, принесшей себя в жертву его гордыне, страдавшей и не отрекавшейся, наконец, ценой собственной жизни заплатившей за спасение души любимого – за те капли любви и смирения, которые засверкали на его сердце, – эта жертвенная любовь растеплила холод остывшего пепелища, оживила его горячей волной страдания:
О Господи, дай жгучего страданья,
И мертвенность души моей рассей:
Ты взял ее, но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней, –
По ней, по ней, свой подвиг совершившей
Весь до конца в отчаянной борьбе,
Так пламенно, так горячо любившей
Наперекор и людям и судьбе, –
По ней, по ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить,
По ней, по ней, так до конца умевшей
Страдать, молиться, верить и любить.
И далее еще больнее:
Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло
С того блаженно-рокового дня,
Как душу всю свою она вдохнула,
Как всю себя перелила в меня.
И вот уж год, без жалоб, без упреку,
Утратив все, приветствую судьбу…
Быть до конца так страшно одиноку
Как буду одинок в своем гробу.
Из этого «жгучего страдания» рождается постепенно тихое смирение и обвевающее душу ласковое утешение:
Завтра день молитвы и печали
Завтра память рокового дня…
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
Да, это она, сама способная к «самозабвению», научила и его чувствовать радость растворения в другом человеке (и освобождения от гнета своего самостного Я), подарила восторг и ликование от счастья принадлежать не себе, а другому, сладость благодарного умиления:
«Слава Богу, я с тобою!»:
Пламя рдеет, пламя пышет, / Искры брызжут и летят,
А на них прохладой дышит / Из-за речки темный сад.
Сумрак тут, там жар и крики, / Я брожу как бы во сне, –
Лишь одно я живо чую: / Ты со мной и вся во мне.
Треск за треском, дым за дымом, / Трубы голые торчат,
А в покое нерушимом / Листья веют и шуршат.
Я дыханьем их обвеян, / Страстный говор твой ловлю…
Слава Богу, я с тобою, / А с тобой мне – как в раю.
Это она утишила его ропщущую и бунтующую душу благостью мира «в груди», покоя в природе, дремотою легкого касания вечности:
Так, в жизни есть мгновенья –
Их трудно передать.
Они самозабвения
Земного благодать.
Шумят верхи древесные
Высоко надо мной,
И птицы лишь небесные
Беседуют со мной.
Все пошлое и ложное
Ушло так далеко,
Все мило-невозможное
Так близко и легко.
И любо мне, и сладко мне,
И мир в моей груди,
Дремотою обвеян я –
О время, погоди!
Вот оно, счастье! Любоваться, восхищаться каждым живым мгновением Богом дарованной жизни, благословлять все, что уместилось в этом мгновении, и желать остановить его, чтобы прикоснуться к Вечности – «О время, погоди!»
* * *
Вместо выводов. Такие тайники Жизни и сокровищницы Божьей благодати открыли Федору Ивановичу Тютчеву природа, любовь женщины и «риза чистая Христа». В единении с ними поэт познает откровения духовной жизни. Они приходят к нему через узрение духовных недугов, которыми болен человек, и поиск путей излечения их – с тем, чтобы вкусить мир души и ощутить целостность Бытия.
Вчитаемся еще раз в стихотворение «Наш век». Что это, как не выражение в лаконичной поэтической форме идеи спасения?.. Идеи, подкрепленной глубоким анализом причин и следствий погибели: растление духа, тоска, ропот и бунт, безверие, невыносимые душевные муки…
Как просты и как трудны, а подчас и непреодолимы для гордого человека пути спасения: смиренная просьба, молитва, слеза (раскаяние), наконец, вера!.. Вся мудрость тут, вся «философия» – и как проста для понимания и ясна в выражении! Тютчев знает, как нелегок путь к Возрождению, как велика борьба между смирением и гордостью, между плотью и духом, между временем и Вечностью, но он любит человека и верит в способности его души:
О вещая душа моя! / О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге / Как бы двойного бытия!
Так, ты – жилица двух миров, / Твой день – болезненный и страстный,
Твой сон – пророчески неясный, / Как откровение духов…
Пускай страдальческую грудь / Волнуют страсти роковые –
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть!