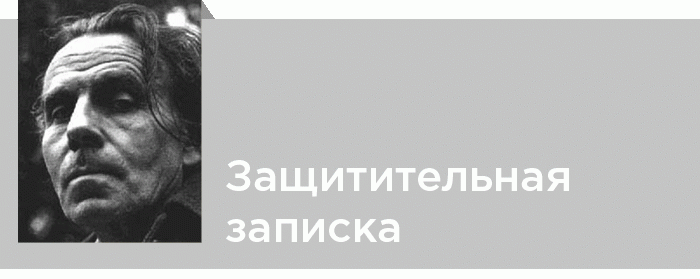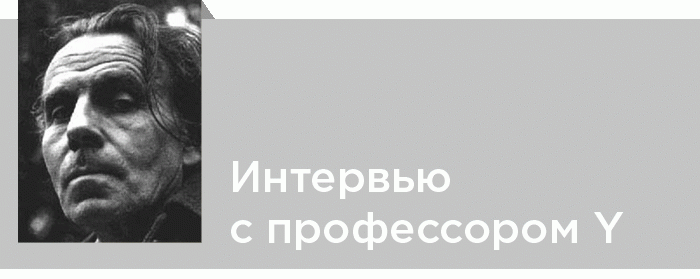Бунтующий язык (Речь героя и рассказчика в романах Луи-Фердинанда Селина)
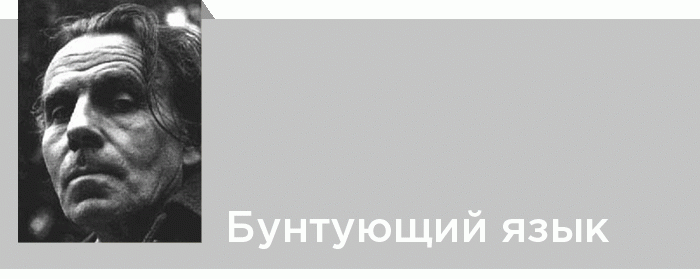
Т. Балашова
Новая проза декларирует первостепенную роль языка, стиля, — именно язык должен придать новый облик литературе постсоцреалистической. Дискуссии вокруг проблемы соотношения нового взгляда на действительность и новой лексики, синтаксиса в течение долгих лет активно шли на Западе и не стихают у нас.
Странным образом в этих спорах редко апеллируют к имени французского писателя Луи-Фердинанда Селина.
Имя Селина (1894-1961) обычно связывается с одним романом — «Путешествие на край ночи» (1932). За ним последовали еще семь, но если бы не шок, произведенный первым, вполне вероятно, что творчество этого писателя заняло бы нейтральное место в истории литературы и табели о рангах. Через четыре десятилетия после выхода в свет «Путешествия» суждение о влиянии этой книги звучит непререкаемо. Даже раздавшиеся в конце 30-х годов столь неожиданно из уст Селина антисемитские инвективы не произвели столь «всестороннего» шума, какой произвело «Путешествие». Памфлеты — «Меа culpa» (1936), «Резня из-за пустяков» (1937) — одно из звеньев ожесточенной идеологической «перестрелки» между разными политическими силами в канун войны, удивляться пришлось не столько их грубости, сколько источнику, — автор, высмеявший патриотический энтузиазм и величие Франции, вдруг обрушился на тех, кто ее портит семитскими примесями.
Впрочем, шок от первого романа в известной степени смягчил возмущение, поднявшееся из-за памфлетов; действительно, одно дело, когда в роли антисемита выступает бесталанный амбициозный «защитник отечества», другое — если эти слова принадлежат писателю, уже доказавшему, что он мастерски владеет пером и достоин самой престижной во Франции Гонкуровской премии.
Так чем же так потряс читающую Францию первый роман Луи-Фердинанда Селина? Пытались мотивировать потрясение бескомпромиссной критикой всего строя человеческой жизни и авторским презрением вообще к человеку. Однако подобной «бескомпромиссностью» дышали книги и до Селина, его случай явно из иной оперы... Возмутил (одних) и восхитил (других) именно сам язык романа. Всех поразило, что язык дна, который порой не очень прилично даже слушать, с такой свободой расположился на страницах романа. Рецензии переполнены контрастами — или восторгом, или возмущением. Селин отвечал достаточно резко. Но самым поразительным было, пожалуй, вполне доброжелательное и любознательное отношение к этому необычному тексту именно писателей. Художники абсолютно иных эстетических вкусов, тяготеющие к иным сюжетам, имеющие иной взгляд на мир, никогда не пытавшиеся ни до, ни после первых романов Селина пойти на языковой эксперимент, почувствовали, что перед ними явление незаурядное. Франсуа Мориак проницательно рассмотрел в романе Селина «человечество... которое не может быть названо ни народом, ни пролетариатом», но в котором сконцентрированы «все муки и пороки». Услышав отзыв этого писателя, который по логике своих взглядов должен был бы первым возмутиться «безбожным» свободомыслием Селина, автор «Путешествия» откликнулся с полной искренностью. «Вы так издалека протягиваете мне руку, — растроганно писал Селин, — что нужно быть дикарем, чтобы не испытать при чтении Вашего письма волнение. Примите мою благодарность, окрашенную удивлением, оттого что так красноречива Ваша благожелательность и духовная симпатия.
А ведь нас ничто не сближает, ничто и не может нас сблизить; Вы принадлежите другой породе, видитесь с другими людьми, слышите иные голоса; для меня, юродивого, Бог — это хитрая выдумка, чтобы получше думать о себе и совсем не думать о других, одним словом, чтобы достойно дезертировать. Видите, сколько во мне гордыни и вульгарности! Я полностью раздавлен жизнью и хочу, чтобы об этом узнали раньше, чем я подохну, на остальное мне наплевать... я надеюсь только, что смерть не будет слишком мучительной, но достаточно осмысленной, а там... трын-трава».
Поддержка со стороны Мориака, Мальро, Моруа, Валери, Бернаноса, Андре Шамсона, Марселя Арлана — может быть, основное свидетельство мгновенного триумфа Селина.
Крайности в оценке «Путешествия» вышли наружу при выдвижении произведения на Гонкуровскую премию.
Скандал с Гонкуровской премией перешел все границы. Хотя в конце концов она досталась другому автору («Волки» Ги Мазлина — имя, которое быстро исчезнет из истории литературы), но положительное голосование половины жюри, а потом решение некоторых изменить свое мнение дало основание сразу для двух обвинений — что Гонкуровская академия не выполняет возложенных на нее завещанием Эдмона Гонкура задач «по защите и прославлению» французского языка и что члены ее голосуют в зависимости от суммы предложенной взятки. Подобным нападениям Гонкуровская академия не подвергалась ни ранее, ни позднее. Дело дошло до суда, и в Постановлении было записано: «Не приходится удивляться... что Гонкуровская академия отказалась увенчать эту книгу наградой, которая, согласно завещанию Гонкура, предназначена произведениям, новаторским по форме и смелым по мысли, но при условии, однако, что поиски на этом направлении не имеют следствием ущемление нравственности читателя и отвращение его от чтения как такового из-за неприятной неожиданности встретиться с выражениями, которые шокируют, даже если принять во внимание ситуацию, в которой они произносятся».
Рассматривая творчество Селина как творчество дерзкого новатора, целесообразно попытаться понять, как сам он соотносил с традицией свое творчество. Ведь деклараций в духе «левых» течений Селин не делал; на частые вопросы «кто ваши учителя?» отвечал, нарочно эпатируя: «Врачи» (упорство Селина, на всем протяжении жизни повторявшего, что главным в его существовании была врачебная практика, поистине поражает). Литературные симпатии проскальзывают скорее попутно, в связи с тем или иным поводом, и нередко противоречивы.
Среди предшественников Селин предпочитает... Рабле — писателя совершенно иного темперамента и «градуса» жизнерадостности, но зато с удовольствием использовавшего «низкую речь». Из современников чаще других мелькает Имя Андре Жида. Селин явно считал себя более достойным славы, во всяком случае Нобелевской премии, и не раз возвращался к этому «упреку» судьбе в разговорах и письмах. Ревность не мешала Селину относиться к Андре Жиду как к истинному авторитету, именно поэтому, мотивируя отдельные свои мысли, он часто призывает на помощь те или иные суждения (или романные ситуации) своего знаменитого современника. Прямые же оценки — что вообще характерно для Селина — контрастны: «Андре Жид совсем не писатель», — рубит он с плеча и некоторое время спустя: «В сущности, во Франции есть только один писатель — Жид». И тут же добавляет довольно двусмысленно: «Иначе говоря, никого» («никого» — потому что один писатель это слишком мало? или «никого» — потому что Жид тоже не писатель?). Возмутившись, что его сравнивают с Джойсом, Селин неожиданно называет таких «учителей», которые как будто от него совсем далеки, — Валлеса, Барбюса. «Какие-то идиоты, черт побери, пытаются сейчас приписать меня к линии Джойса, к числу его прихлебателей. Иностранный отец — в этом есть что-то гротескное, невыносимое. Если уж обязательно приписывать меня к какой-то линии, то исключительно французской: Брюан, естественно, Валлес, Барбюс».
Имя Барбюса, в отличие от имени Андре Жида, упоминается всегда в позитивной контексте, и довольно неожиданно звучит вывод: «С моей точки зрения, в 2000 году будут читать только Барбюса, Морана, Рамю и меня...» Творчество ни одного из этих художников слова на первый взгляд никак не могло помочь Селину вершить языковую реформу. В «Огне» солдатский жаргон никогда не захватывает авторскую речь изысканно чистая проза Морана далека от языковой стихии «Путешествия», как ясное небо от унавоженной земли; размеренный ритм деревенских сюжетов швейцарца Рамю — словно спокойный аккомпанемент к нервной, «издерганной» мелодии селиновского повествования... Следует предположить, что упоминаемые авторы «научили» Селина чему-то иному, чем обращение с языком, и это «иное» казалось Селину достаточно существенным. Барбюс, Валлес, Рамю ему близки потому, что обратили свой взор к «жертвам». Высокие рассуждения о метафизических проблемах его раздражали именно потому, что они не были бы поняты его героями; сами эти проблемы имеют в его романах крепкие корни; не случайно в критических статьях иногда всплывало имя Паскаля, — то, что тот говорит «сверху», Селин «кричит снизу». Селин здесь даже излишне категоричен: «Метафизические муки — это не для меня. Я всегда вижу глаза, тело, конкретные вещи…» Сартр (по свидетельству Симоны де Бовуар) отнесся к первым романам Селина сразу с явным интересом, а своей знаменитой «Тошноте» предпослал, как известно, выразительный эпиграф из Селина.
А Селин даже слышать не хотел рядом со своим именем имена Жан-Поля Сартра, Жана Жене, Генри Миллера — писателей, создавших интеллектуальный климат своей эпохи, кумиров интеллигенции, что само по себе чрезвычайно примечательно.
Ясно, что бунт слова, отказавшегося подчиняться законам литературной речи, возмутил в романе Селина больше всего прочего.
Роман действительно отбросил все условности, называя любые части тела и отправления организма так, как им положено называться, без всяких эвфемизмов. За подобной откровенностью обнаруживалась откровенность обобщений: нечего делать вид, будто есть добрые существа и благородные поступки, все мы одним миром мазаны, так будем помнить, чем мы мазаны, какая вонь идет от наших желаний и наших поступков. Идет не только сверху — от столпов общества, но и снизу — из народной среды. Разговор об этих желаниях и поступках надо вести именно на том языке, на котором говорит народ, именно говорит и именно народ. Поэтому Селин берет за основу разговорную форму речи, прививая на нее в изобилии арготизмы, сленговые выражения.
Считается, что «Путешествие на край ночи» — первый в истории литературы роман, написанный разговорным языком. Не потому что впервые зазвучал в прозе разговорный язык, а потому что впервые он захватил сферу собственно авторской речи.
За этим «перескоком» арготического стиля в собственно авторскую речь стоит проблема уже не только языковая. Подобная ситуация отражает особенности отношения автор/рассказчик/герой в романах Селина. В них есть действующие лица, увиденные извне, не связанные с рассказчиком узами нравственного родства, но основное поле занято описаниями, суждениями, обрывочными обобщениями, которые в равной мере могут принадлежать и рассказчику, и тому, о ком он повествует. Рассказчик такой же, как все, он не имеет права судить и не судит. Всю первую половину «Путешествия» читатель вообще не знает, какое положение в обществе занимает рассказчик по отношению к другим действующим лицам. Открытие, что рассказчиком является врач, то есть человек, достаточно высоко поднявшийся по социальной лестнице, неожиданно и отбрасывает свет на предшествующие страницы.
Парадоксальность бурного вхождения разговорного, да еще арготического языка в авторскую речь заключается в невероятности ситуации, при которой бы рассказчик мог изъясняться на таком сленге. Бардамю — врач, высокообразованный человек, находящийся на известной дистанции от своих больных из нищенских кварталов города. Он может, конечно, подыгрывать им, употребляя привычные для «дна» обороты, но постоянно говорить на их языке наверняка неспособен. Неестественно, когда врач обзывает больного, ребенка «ослом», обещая ему достаточно несчастий, чтобы у него «вытекли и глаза, и мозги, и все остальное». Но, конечно, приходится иметь в виду, что грубая фактура речи рассказчика (и внутренней речи, монологической, воссоздающей субъективную, не отлившуюся в словах, оценку тех или иных явлений) приобретает дополнительную функцию: по сути, такой фактурой метафорически выражено отношение рассказчика к действительности — выражено не смыслом слов (которые не обязательно несут осуждение), но их «внешностью», шокирующей лексикой, сленговым называнием феноменов, имеющих и другое имя; если выбрано имя низкое, снижается, подвергается так или иначе осмеянию суть называемого. В подобном резко сниженном стиле идет все повествование — о любых — исторических (первая мировая война, колониальная авантюра в Африке) или локальных — событиях. Язык играет роль содержательного камертона, определяющего отношение к окружающему. Все внимание писателя направлено на стиль — писать только так, как говорят, как говорят, когда не уважают никого и ничто вокруг. «Табак» вместо «потасовки», «чепчик» вместо «головы» и т. п. Да еще комбинации из половинок арготизмов... К разговорным оборотам и арготическим выражениям Селин добавляет изобретенные им неологизмы, а кроме того, использует принцип «смещения» — вроде бы почти привычная фраза, но привнесена в нее чуть заметная неправильность, которая сразу переводит ее в разряд нелитературной. Это прорывается даже на уровне заглавий. «D’un château l’autre» — смысл названия романа 1957 года («От замка к замку») ясен сразу, хотя пропуск предлога «к» (à) заставляет споткнуться — получается что-то вроде «От замка замок».
Понять особую сращенность автора со своими героями, находящимися на самой низшей ступеньке социальной лестницы, помогает его собственное отталкивание от титула «писатель»; достаточно хорошо зная себе цену и ставя себя высоко в системе литературных координат, Селин одновременно не любил, когда слово «писатель» употреблялось в качестве разделительной черты: писатель / не писатель; интеллигент / человек из народа. Отсюда столь неожиданный для любой литературной дискуссии отказ автора отвечать критикам «Путешествия» в качестве писателя; он хочет отвечать «как рабочий» и парадоксальным образом в качестве оправдания подсчитывает количество лет, потраченных на работу, и тысячи рукописных листов.., упоминая и о таком своем свойстве, как «усердие». Эта идентификация труда писателя с трудом не только врача, но и пролетария-разнорабочего, пробавляющегося случайными заработками и вынужденного быть усердным, терпеливым, преодолевать усталость, дает направление поисков для ответа на вопрос, почему автор решил не разграничивать лексику и синтаксис в речи своих героев и в своей собственной, авторской. И войдя в высшие сферы почитаемых мастеров слова, Селин остался там, внизу, по-прежнему прикованный своим неослабевающим интересом к говору и эмоциональной реакции улицы.
Не только о «Смерти в кредит» (1936) можно было бы сказать: «Это книга насилия от начала до конца... Читателя тащит за собой единый поток — насилие в разных его формах. Физическое и нравственное насилие, от которого страдает Фердинанд. И прямые нападения на него». Но основная агрессия идет со стороны языка. Он колет, царапает, оскорбляет. К селиновскому повествованию применимо понятие «эстетика насилия», но ни изуверских сцен, ни садомазохистской порнографии автору для его агрессии не нужно. Ему достаточно вести речь об окружающем мире на том своем особом языке. Единство суждения о мире и языковой формы этого суждения — поразительно. Наивысшую степень этого единства пытались пояснить цитацией из Сезанна: «Только когда цвет обретает все свое богатство, форма получает полное завершение». Цвет и линия взаимозависимы, рисуемый предмет не способен показать своих завершенных очертаний, пока он не наполнен цветом. У Селина — как у Сезанна с цвета — все начинается со стиля, языка, только им порождается эпизод, действующее лицо, оппозиция фрагментов и т. п.
В агрессивности селиновского языка большую (многим кажется — центральную) роль играет идея смерти. Она присутствует как устрашающая — пусть дальняя — неизбежность, как ежеминутная угроза, которую, может, избежишь, а может, и не избежишь уже сегодня; как неосознаваемое удовольствие от смерти других — хотя бы потому, что это пока не ты; как странное, болезненное искушение-желание увидеть, а значит, приблизить свою смерть — как приблизил ее двойник Бардамю Робинзон, провоцируя свою любовницу Мадлон на выстрел.
Селин прекрасно осознавал, что все его сюжеты и эпизоды вращаются вокруг стержня смерти. В переписке с Эженом Даби, единственным писателем, близким к популизму, которого он по-настоящему уважал и ценил, Селин сразу реагирует на название романа Даби «Новопреставленный»: он советует другу побыстрее завершать «историю смерти». «Вы ведь знаете, — продолжает Селин, — я специалист по трупам. Мне интересно узнать, как вы нам представите это».
Селин предпочитает вводить сюжет смерти без всякого трагизма, издеваясь над страхом у одних и над отсутствием страха у других, кощунственно балагуря по поводу этой трагической темы и оставляя ощущение инстинктивного страха у читателя — от самой возможности так говорить о смерти. Это тоже входит составной частью в систему агрессии языка. Иногда такую селиновскую браваду подводят под определение «черного юмора», но если связывать это понятие все-таки с эстетикой сюрреализма (его воплотившей), то от юмора, даже черного, Селин далек — здесь сарказм, сочащаяся отовсюду злоба и подозрительность, тотальное осмеяние, абсолютно лишенное той игровой легкости, которая присуща сюрреализму. Ни «несчастные» больные, которых лечит Бардамю, ни солдаты на фронте — будучи, конечно, жертвами — совершенно не вызывают сострадания, они тоже полны зависти, злорадства, эгоизма. Так рассказчик их видит, так видит он и сам себя. Тут снова полное совпадение эмоциональности персонажа и рассказчика, ни малейшей оценочной дистанции. Позиция по отношению к окружающему словно совершенно не зависит от личного, частного опыта; индивидуализация этого опыта автора не интересует. Поэтому не индивидуализирован и язык. Специфика, колорит индивидуального «говора» не имеет в текстах Селина ни малейшего значения; различие стилевых потоков существует, но безотносительно к «индивидуальному характеру». Основной массив текста — от лица рассказчика/автора (при передаче ими друг другу слова) — выдержан в том же ключе: говорит не тот или иной персонаж — говорит улица.
Воссоздание этой «общей» речи и «общей» реакции на окружающее составляло внутреннюю задачу автора. Самый смысл такого «общего» чрезвычайно существен — и для Селина, и для определенных тенденций новейшей прозы. Необходимо дать голос коллективному бессознательному и «общей» эмоции, — из такой убежденности возникла теория тропизмов (то есть подсознательных, не отлившихся в слово импульсов) Натали Саррот, в значительной мере — театр Арто.
Если спроецировать на литературу те теории бессознательного, которые возникли в философии, то бессознательное как вдохновение, источник творческой энергии (по классификации Юнга) было воплощено только в сюрреализме, в романных же формах коллективное бессознательное возникает как база для обезличенных, запрограммированных обществом реакций. Наиболее богато в художественном слове выражена «прерывность сознания», иначе говоря, переходы от ясного осмысления к смутным ощущениям, когда «психическая деятельность падает ниже порога сознания». Селина эти переходы особенно не интересовали. Он воплощал автоматизм человеческих поступков, некую неизбежную реакцию индивидуума на насилие общества. Причем никакого социологического подтекста для тех или иных подсознательных импульсов (а это тоже одно из направлений философских теорий в XX веке) он не ищет, верный своей идее, что принадлежность к классу случайна и ничего не меняет. Но и иррациональное, оккультное в бессознательном Селина не увлекает. Он ведет «исследование» на уровне извечной, смертельной вражды между индивидуумом и миром — этим определяется подсознательный фон любого поступка.
В романах Селина это не обязательно бессознательное, зачастую — вполне аргументированное и твердое суждение о мире, о «другом». Но оно именно общее, не меняется в зависимости от личного опыта того или иного персонажа.
Подобная общность, однако, отнюдь не предопределяет общих действий, то есть коллективное подсознательное (или «сознательное») не продолжено коллективным действием. Более того: нет и мысли о том, что коллективное действие желательно, способно хоть что-либо изменить к лучшему. Любой из героев — будь то солдат Робинзон, врач, вынужденный лечить бедняков, Бардамю или гонимый всеми писатель, уверовавший на горе себе, что нацистский порядок безопаснее анархического либерализма (трилогия Селина последнего десятилетия), — любой из них индивидуалист, не питающий никаких иллюзий. Но характерные черты этого индивидуалиста, как отмечено выше, автор и не предполагал индивидуализировать, сообщать им какой-то конкретный колорит: озлоблены все — в том числе и рассказчик, эту озлобленность отмечающий, обобщающий.
Поистине слепы были те из современников, которые пришли в восторг от беспощадности селиновской «критики капиталистического строя». В СССР и среди левых французских писателей роман вызвал радостное удивление — правда, с нотками недоверия (различие в интерпретации романа, например, между И. Анисимовым, автором предисловия к русскому переводу, и Максимом Горьким на съезде писателей характерно для сей непроясненной реакции). Но если проницательности хватило, чтобы почувствовать за презрением к капитализму демонстрируемое презрение к человеку вообще, то роль языка была оценена «от противного»: роман признали заслуживающим поддержки несмотря на опасные эксперименты с языком. Обрадовавшись бунту, который поднял Селин, не сумели оценить глубину бунта слова. Этим и объясняется возможность издания русского перевода романа в 1933 году — в «сглаженном», мягко говоря, варианте, при игнорировании многих принципиальных моментов селиновского монолога и диалога.
Аберрация левых критиков была подкреплена решением Селина посетить Советский Союз. Но как он записал позднее в Дневнике, он осознанно поехал не по официальному, приглашению, а за свой собственный счет. Побывал только в Ленинграде, вечера проводил на балетных представлениях Мариинки, днем часто устремлялся в больницы, — убожество больниц насторожило врача Селина сразу, и вывод его о бессилии и лживости социализма тем самым был предрешен. У него давно сложилась идиосинкразия по отношению к «болтовне» (применительно как к литературному стилю, так и к жизненным обстоятельствам), «татаро-иудейские комиссары» предстали болтунами, не умеющими трудиться, «спасать бедных», но взахлеб расхваливающими построенное ими общество.
По возвращении во Францию писатель опубликовал памфлет против советской формы коллективизма — «Меа culpa». Инквизиция из-за инакомыслия, поясняет Селин, происходила во все века. Времена не особенно изменились. Таким образом, репрессивный строй СССР Селина вроде бы и не удивил — он подтвердил правоту его взгляда на человека. «Что прельщает в коммунизме, что является большим его преимуществом, так это разоблачение им человека наконец! Там у человека нет никаких извинений». Через год после выхода «Меа culpa» была переиздана под одним переплетом с жизнеописанием талантливого венгерского врача, которого затравили современники. Селин продолжал развивать ту же мысль: «В сердцах людей всегда война».
В СССР заинтересовались и вторым романом Селина, но после появления «откровений» «Меа culpa» вопрос отпал. А этот, второй, роман отчетливо подчеркнул, что «языковое хулиганство» Селина было не случайным, как не случайным был и союз бунта языкового и нравственного.
Как ни велико было потрясение от первого романа Селина, сам автор очень быстро пришел к выводу, что это только начало задуманного им языкового эксперимента, в письмах к друзьям стал называть «Путешествие» излишне классическим, «отставшим» (retard), находя многие фразы прилежно «вытканными», противоречащими поставленной цели. С выходом «Смерти в кредит» (1936) рецензенты и вовсе пришли в неистовство. Многократно демонстрируя свое презрение к критическим отзывам, Селин тем не менее не мог скрыть своего страдания: «Что слева, что справа, критика одинаково гнусная, поток слепой завистливой злобы, зловонной ненависти».
В «Смерти», где он возвращается памятью к своему детству, юности, к трудным отношениям с близкими, писатель продолжил революционное реформирование языка. Рассказчик уже, по сути, полностью слит с автором (носит то же имя, проходит через те же жизненные испытания), но лексической дистанции между его речью и речью других действующих лиц по-прежнему нет. Причем в этом, втором, романе Селин развернул масштабный эксперимент над синтаксисом. Уже в «Путешествии» изменения синтаксического порядка были не менее красноречивы, выразительны, чем лексические: обязательное вынесение в начало предложения ударного смыслового слова, независимо от того, где оно должно стоять по правилам французской грамматики; постоянное помещение перед существительным местоимения («он, Фердинанд...», «ему, дядюшке...»); настойчивое удвоение подлежащего, вынос дополнения на первую позицию во фразе (против правил французского синтаксиса) и т.п.
По всему тексту опущена первая часть отрицания (ne) и первая часть оборота «имеется» (II у а); текст пересыпан указательными местоимениями (наиболее часто ça), как и положено в неряшливой речи необразованного человека. Нередко в монологическом фрагменте появляются вставки «знаешь ли», «понимаешь» и т.п.
Все это в целом сообщает роману разговорную динамичность и сразу настраивает на адресата, слушателя, внимание которого необходимо приковать.
В «Смерти» впервые многоточия и восклицательные знаки начинают править бал. По смыслу они иногда взаимозаменяемы, но лихорадочно теснящие друг друга восклицания (повышение интонации не столько голосовой, сколько эмоциональной, на грани нервного срыва) несут гиперболизированную агрессивность, слушать такую «речь» физически неуютно.
Когда восклицаниями перенасыщена прямая речь, это имеет смысловое оправдание. Но восклицательные знаки в авторских ремарках («Она уперла сжатые кулаки себе в бока! И развалилась в кресле!») или в ходе внутреннего монолога звучат диссонансом, составляя характерную особенность селиновской манеры.
Повышая эмоциональную интонацию своих произведений, Селин испытывал, так сказать, «обратное влияние»: и в своих эпистолярных или иных текстах он начинал следовать тональности своих романов. В этом плане весьма красноречиво авторское предисловие к переизданию «Путешествия», написанное в 1949 году. Оно — совершенно не в жанре предисловия — напоминает торопливую, возбужденную речь: «Нет, до какой же степени надо быть слепым и глухим! А вы мне скажете: при чем здесь «Путешествие»! ваше преступление, из-за чего вы там гниете, оно не имеет к «Путешествию» никакого отношения! Вы сами — ваше собственное проклятье!» Далее следуют две строчки плотно пригнанных арготизмов, общий смысл которых: «Вы меня не проведете!»
Текст «Смерти» состоит из коротких отрывистых фраз, вернее, фрагментов фраз; общее составляется из повторов, восклицаний, обращений, которые при желании — если бы речь шла о собственно информации — легко можно было бы организовать в целостную, правильно построенную фразу. Но информация здесь третьестепенна — первичен ритм речи. Селин трудился над ритмом самозабвенно (только это и объясняет, почему он полагал более адекватным называть свой текст не романом, а песней). Кстати, в этой углубленной творческой работе и над лексикой, и над синтаксисом пробивалось в конечном счете то уважение к носителям народного, разговорного языка, в котором им как будто было отказано по смыслу содержания. Друзья рассказывали, как любил Селин читать им свои произведения, сам вслушиваясь в звучание, в мелодику. О внимании к музыке звучания свидетельствует и безапелляционное суждение Селина о практике переводов. Возмущаясь сравнением своих книг с книгами иных национальных литератур, Селин осуждал «эту манию сравнивать язык, живое творение par exelence, с неизменно мертвым языком переводов. Есть ли в них ритм? каденция? А ведь в этом — всё». Селиновская работа над языком — поистине труд музыканта. Музыкально одаренные рецензенты это, редкое для прозы, свойство Селина оценили вполне. Да и самые яростные критики Селина, возмущенные его «тошнотворной» лексикой, иногда вдруг проявляли снисходительность к преобразованию синтаксиса, в известной мере сравнивали правомерность новаторства на этих двух уровнях языковой материи. Больше того: звучали даже оговорки, что синтаксическая ритмика сглаживает отвращение к лексическому строю — ритм настолько увлекает, настолько приближает к прекрасному (в эстетическом значении слова), что перестаешь замечать грубость слов, этим ритмом захваченных.
Страсть к языковому эксперименту держала Селина в своей власти и в период создания поздних романов, когда все его внимание как будто было поглощено внутренней полемикой с теми, кто считал его антисемитом, предателем. Полемика эта располагалась опять-таки в русле агрессивного языкового потока; атаковали читателя не столько слова, сколько их ритм, движение толчками, ударами. Многоточия и восклицания снова выполняли особую стилистическую функцию — агрессивно-наступательную, возмущенно-эмоциональную.
[…]
Как мыслил Селин вообще соотношение между языком и композиционной структурой романа, можно догадаться, вчитавшись в его (разбросанные по письмам, интервью) признания, чего он ждет от литературы. Например, представление Селина о том, каковы должны быть действующие лица современного повествования, весьма зыбко. Порой Селин, отказывая, например, в убедительности прозе Блэза Сандрара; поясняет свое мнение отсутствием у Сандрара... характеров: «Нет, Сандрару не удается удерживать книгу на ногах... У него неплохая память, но это не более чем caphamaum. А ведь что требуется — так это прежде всего характеры. Характеров у Сандрара нет». Чаще, отвергая задачи психологизма, Селин дает понять, что характеры столь же старомодны, как и литературный язык. Не только характеры, но и персонажи не очень-то нужны. По поводу действующих лиц из своего «Путешествия» Селин прямо говорил, что не считает их «персонажами», «скорее это призраки». Возможно, имея в виду те самые юнгианские «Маски», прячущие истинное ego, подчиненное «Тени», то есть внутреннему злу. У Юнга «Маска» — попытка защититься от обезличивания; «маски-призраки» Селина воплощают сразу и обезличенность, и агрессивность — через утверждение цинизма и зла — сопротивление агрессии общества, мира.
Заявляя, что цель литературного произведения — ставить вопросы, Селин обращает эти вопросы не столько к интеллекту, сколько к сфере эмоционального восприятия. Задача творчества связывается с необходимостью разбередить сферу чувств, потрясти эмоционально. Для этого и нужен именно такой язык.
Селина всегда раздражало, если речь о его романах начинали с разговора о сюжете, отраженных реалиях. «Господи, история — вещь вспомогательная. Интересен только стиль. Вот почему художники освобождали себя от предмета — от вазы, кувшина, яблока, от чего угодно... Важно только, как подать сюжет».
Отвечая критикам, Селин наиболее полно сформулировал свою эстетическую программу (отдельных статей на сей сюжет он не создавал). Причем в его формулировках язык (не вообще стиль, но самая лексика, синтаксис) предстает как основное, вернее, единственное средство добиться поставленной цели. Он полагает, что классический роман XIX века лишен «эмоционального эффекта» (rendu motif), оттого что мертв язык. Любой из них — не более чем «проект романа», чтобы получить сам роман, надо начать его писать, поработать на уровне языка. Селин многократно пояснял, что вводимый им язык имеет иную цель, чем язык любого «обычного» романа: он не повествует (narrer), а заставляет чувствовать (ressentir).
Внимание, которое придает Селин эмоциональной (и подсознательной) жизни человека, велико. Не раз сожалел он, что его романы, несмотря на все старания, остаются слишком «рациональными», в них недостаточно «бреда» (délire). Не менее выразительны и синонимы; так, в своих романах, да и в письмах Селин любил употреблять слово «divagation», играя на сочетании двух значений: странствование и отклонение от нормы, бредовые видения. Появляющаяся в его высказываниях формула «разбуженного сна» (rêve éveillée), то есть состояния на грани сна и бодрствования, неожиданным образом коррелирует с теориями сюрреализма. Декларации писателя о том, что он месит «тесто жизни», обязательно должны быть скорректированы частым появлением слова «бред» и менее частым, но достаточно значимым появлением слова «сновидение». Теоретически жизнь для него, как и для сюрреалистов, — все проявления человеческой натуры; подсознательное и инстинкты столь же достойны внимания, сколь и высшая нервная деятельность, высокий интеллект. (Андре Бретона, привыкшего к изяществу даже в описании «низа», тексты Селина отпугивали, он признавался, что они, перегруженные «грязью», вызывают у него буквально приступы рвоты.)
Если Селин в отличие от многих своих современников не увлечен воссозданием тех импульсов подсознания, которые позднее получили имя «тропизмов», позиция от этого не меняется. Зависимость личности от «тропизмов» и инстинктов демонстрируется на многих страницах его романного повествования. Внимание к сфере подсознательного неизбежно заставило Селина оценить опыт Фрейда. Изначальным для него были не теории, а непреодолимое желание показать «всего человека», не останавливаясь на пороге дозволенного. Оценки Фрейда снова зазвучали попутно, в ходе полемики, при ответах разъяренным критикам, требовавшим как раз на том пороге остановиться. Против чего решительно возражал Селин, так это против вульгаризации идей Фрейда, когда по поводу любого бытового инцидента вспоминают знаменитые «комплексы». Тут он надевал маску профана. Не оспаривая фрейдизм с научной точки зрения, он произносит, словно повторяя то, что могли бы сказать его герои: «Чтобы появились комплексы, надо иметь свободное время». Столь бытовой аргумент, который ставит Селина по одну сторону разделительной полосы с народными низами против властителей умов, пожалуй, красноречиво поясняет, с кем Селин при раскладе общественных симпатий/антипатий, но это, однако, вовсе не определяет его отношение к Фрейду. Напротив, при размышлениях о задачах романиста Селин взывает к необходимости многому учиться у Фрейда. «После Бальзака, — формулировал свою мысль Селин, — критики, кажется, больше ничего не желают знать о человеке. Они убрали лестницу (к нему ведущую). Мимо накопленного фрейдистской школой опыта прошли, совершенно не заметив его».
Помня именно обо «всем человеке», Селин выносил свои суждения и о социальных классах (он уверен, что принадлежность к тому или другому — чистая случайность, предрешенная обстоятельствами рождения, не имеющая никакого отношения к мироощущению), и об обществе в целом, и о «социалистических» экспериментах.
Уверенность, что зло в человеке непобедимо, так или иначе подвела его на пороге второй мировой войны к немыслимому для большого писателя откровенному расизму.
В скандально известном памфлете «Резня из-за пустяков» (1937) под обстрел попали не только коммунисты, но и лица... лишенные арийской крови. Яростный антисемитизм Селина, оставивший на его имени пятно до последних дней жизни, пытались объяснить по-разному. Вспоминали и отчаянное раздражение Селина на литературных критиков, среди которых попадались еврейские фамилии; полагали, что сыграл свою роль и вывернутый наизнанку пацифизм: Селину вроде бы казалось, что антифашистское движение разжигает ненависть, и, «ненавидя ненависть», он ополчился на антифашистов и евреев, «подталкивающих мир к войне». В антифашистском движении он увидел «единодушие садизма, берущее исток в глубоко укорененном в человеке, а тем более в людской массе, желании (что сродни любовному неодолимому нетерпению) слиться со смертью». Иначе говоря, антифашисты и гонимые нацистами евреи приняли в его понимании образ врага, который разжигает извечный инстинкт убийства.
В сознании интеллигента, занявшего такую более чем странную позицию, решение сотрудничать с оккупировавшей Францию Германией родилось само собой — сделан был следующий шаг к позору. История расплаты за этот позор — бегство из Парижа в германский городок Зигмариген, потом в Данию, суд по обвинению в сотрудничестве с оккупантами, тюремное заключение, ссылка, возвращение на родину после амнистии, попытка вернуть себе имя — нашла отражение на страницах томов трилогии, два из которых увидели свет при жизни автора — «От замка к замку» (1957), «Север» (1960), «Ригодон» (1969). В этом последнем названии снова игра на двух значениях — вполне мирном, даже радостном, и зловещем, агрессивном: rigodon — танец и прием, используемый при стрельбе в тире. Здесь рассказчик не только слит с автором, но и сосредоточен в основном на себе, довольно мало уделяя внимания «другим». В последних романах роль рассказчика вообще усиливается. «Повествование тут мало что значит само по себе; оно функционально подчинено личности рассказчика, его постоянному присутствию, всячески акцентируемому».
Эти романы гораздо ближе к жанру исповеди, чем предыдущие, и необходимость арготизмов, разговорных оборотов (естественных при обращении к среде «дна») как будто иссякает. Но в исповеди нет никакой исповедальности. Грубый разговорный язык не нужен для описания, но «языковая агрессия» востребована, потому что основная цель — передать отвращение к миру — по-прежнему актуальна. Автор «Севера» и «Ригодона» мог бы повторить вслед за боготворившим его Генри Миллером: «Когда я клянчу милостыню или расталкиваю всех локтями, когда я краду или занимаюсь проституцией, я не собираюсь изобретать alter ego, чтобы все шишки валились на него. Я признаю: да, это я, Генри Миллер, врал, крал, вел себя как проститутка, что еще? Я могу об этом сожалеть, но отрицать этого не буду».
Селин не отрицает и не сожалеет, упорствуя и после войны в своем презрении к лживым играм в выборы, голосование, парламент, повторяя, что гуманный смысл имеет только концепция «почвы и крови». Как и раньше, в романах пространных рассуждений на эти темы (или любые иные) нет, система авторских взглядов складывается на основании обрывочных полуфраз, еле намеченных зарисовок, остановленных мгновений. Но еще в большей степени на основании лексико-ритмического строя — рубленого, агрессивного, бьющего наотмашь.
Когда Селин защищал свое право писать так, как разговаривают, он в качестве одного — может быть, не самого главного, но красноречивого — аргумента приводил мотив беспрерывного изменения языка. Тот язык, который лег на страницы его романа, завтра уже умрет, спасти его от забвения можно только так — введя в роман.
Специалисты, годами трудившиеся над рукописями Селина, свидетельствуют, что количество вариантов и обилие правки превосходят все ожидания. С автором главы о творчестве Селина Виктором Ерофеевым, утверждавшим, что «стиль Селина являет собой нечто совершенно противоположное автоматическому письму сюрреалистов», можно было бы полностью согласиться, если бы к настоящему моменту не были проанализированы «сюрреалистические рукописи», обнаружившие упорную редакторскую работу авторов, писавших в состоянии «полусна». Интереснее, напротив, увидеть сходство с автоматическим письмом в спонтанности селиновского речевого потока, отсутствии каких-либо «подготовительных материалов» и пр. А работу над рукописью он вел действительно фанатичную. Причем — что как раз согласуется с установкой автора на приоритетную роль языка — редактура, расширение текста шли не за счет добавления новых эпизодов или новых действующих лиц, но за счет стилевой проработки уже сложившихся фрагментов, пояснения деталей, выявления дополнительных тонов. Тут Селин был неутомим и предельно скрупулезен, считая важным любой оттенок. «Не существует мелких деталей, которые показались бы мне утомительными. Я ХОЧУ ЗАНЯТЬСЯ ИМИ ВСЕМИ! ЛЮБАЯ ЗАПЯТАЯ МЕНЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВОЛНУЕТ».
И снова возникает мотив писателя-рабочего: никто за него, никакие «вонючие корректоры» исправления провести не могут. «Я рабочий, я не в куличики на пляже играю, не детишек развлекаю. У меня серьезная общественная работа».
Первоначальные версии рукописи словно написаны на одном дыхании (и впрямь почти в манере 'автоматического письма — все на кончике пера), затем начинается процесс структуризации, «удаление следов автоматизма и слишком прямых связей».
В отличие от большинства писателей Селин заранее не набрасывал никаких планов, «сценариев», избегал пространных пометок на полях, которые бы разъясняли, что он думает о написанном/перечитанном, как собирается вести повествование дальше. Его способ движения по рукописи скорее интуитивный (если не автоматический); все существует здесь и сейчас, в данный момент (в точном соответствии с тем, как он видит жизнь языка, ежеминутно умирающего, ежеминутно обновляющегося); «наброски» невозможны именно потому, что замысел может воплотиться только в полной языковой (как у Сезанна в цветовой) форме; набросок или должен превратиться в страницу будущего романа, или должен существовать только в голове.
Весьма оригинальны решения Селина по структуризации льющегося поначалу неостановимо потока повествования, выражающиеся в нескольких этапах работы над рукописями. Одно из направлений этого «конструкторского» рвения — стремление сбалансировать «рассказ» (сюжетную линию) с самовыражением рассказчика, с провозглашением собственных взглядов.
Но особенно неукротимой выглядит собственно лексико-синтаксическая правка. Тут есть определенное противоречие. Многократно Селин заявлял, что иначе он писать не мог, такой язык лился естественно, сам собой... Но специалисты, если решились бы поверить уверениям автора, заглянув в рукописи, не смогли бы скрыть удивления: значительные массивы первоначального текста написаны нормативной лексикой; затем начинается ювелирная работа по преобразованию литературного языка в разговорный. Противоречие здесь, конечно, относительное. Ведь в «автоматическом режиме» автор, естественно, использует и разговорные, и арготические обороты; но они перемежаются иными, «мертвыми», как называет их сам Селин, считая это вредным влиянием общества на его сознание. Преодолевая подобную ненавидимую зависимость, он и начинает редактировать свой текст, меняя лексику и синтаксис, приближая целое к задуманной цели.
Известно, что Селин уверял, будто рукописи его потеряны; лишь после его смерти оказалось, что он передал их одному из друзей. Теперь те, что найдены, находятся в Институте издательских архивов, название которого можно перевести как «Институт издательской памяти» (Institut de Mémoire d’Edition contemporaine — IMEC).
Следя по рукописям за направлением авторской правки, обнаруживаешь, что именно казалось ему существенным для реформирования языка.
Замены существительных и прилагательных почти всегда идут к опрощению, снижению стиля: вместо la gueule (рожа) появляется еще более грубое — la hure (харя). Из трех возможных вариантов — проглоченный, усвоенный, переваренный — выбирается последний, с некоторым натуралистическим оттенком.
Синтаксически фразы тоже становятся менее плавными, более «корявыми» и... более эмоциональными. «И тогда я сказал ему...» — начинает автор фразу. И тут же себя исправляет: «Я немедленно это проорал ему!» («Je l’ai hurlé immédiatement!»).
Знаменательны и легкие смещения, незначительные изменения, влияющие тем не менее на стиль, сбивающие его в разговорный. Вместо les chaussons появляется les godelles — слово, объединившее godasse (разг. башмак), godaille (попойка) и godelu (щелкопер). Смысл остался тот же — речь идет об обуви, — но оттенок резко изменился.
В повествовательную фразу на уровне рукописи вставляются обращения к потенциальному собеседнику («Слышишь, ты?»); добавляются парадоксальные «обобщения», задающие издевательски-ироничный тон дискурсу: «Он думал, что мир ждет прихода разума, чтобы измениться. Измениться-то мир изменился, но разум так и не появился».
Можно говорить о том, что Селин в духе элитарного модерниста (недаром он так часто вспоминает имя Малларме, как будто от него невероятно далекое) то и дело прибегает к эллипсам — пропускам каких-то звеньев, но у него не смысловых, а грамматико-синтаксических. И в том случае, если такие пропуски узаконены разговорной речью, и в том случае, если он придумывает их сам, как бы конструируя виртуальную разговорную форму. Шокирующую ассоциацию языка Селина с языком Малларме поддержал такой авторитетный ценитель языкового совершенства, как «голубой гусар» Роже Нимье. Он уверен, что родись Селин в иную эпоху, он стал бы поэтом, — ведь «необычный облик» слова и «внутренняя потребность заставлять слова танцевать» слишком сильны в прозе Селина, являются для нее определяющими. Сам Селин свои общие с Малларме цели попытался пояснить, назвав Малларме и себя «колористами слова» и обозначив общую цель — найти необычные лексические единицы, нарушить «правильность»; только Малларме ищет «слова предельно редкостные», а он — «слова истертые, каждодневные».
Критики, уверявшие, что роман Селина антибуржуазен, фальсифицировали или, во всяком случае, редуцировали ситуацию, потому что искали антибуржуазность на уровне означаемого; Селин же признавал свою антибуржуазность на уровне именно означающего: антибуржуазным он называл язык своей прозы, поскольку это язык «жертв общества». На следующем этапе культурного развития, когда структуралисты аргументировали необходимость отбросить «буржуазную» литературную форму и «прирученный» истеблишментом язык, мотивировки Селина вполне вписались именно в такое понимание антибуржуазносги. Речь должна идти не столько о том, что это «язык жертв», сколько о том, что способно быть «буржуазным» самое изложение фактов, безотносительно к тому, кто говорит. Вот поэтому и введена была Седином эта традиция — единый стиль речи и действующих лиц, и рассказчика, и дна, и интеллигента Бардамю, которого можно считать жертвой лишь в метафизическом смысле: если все мы — жертвы несправедливого устройства вселенной. Так расширяется селиновское толкование «антибуржуазности» языка, оно напрямую соотносится с дискуссиями о буржуазной культуре, что развернулись в 60-е годы. Со структуралистской критикой литературного дискурса Селина сближает и отстранение от задач психологического повествования, что для начала 30-х годов было неожиданно, как бы преждевременно, поскольку основной массив романного творчества лежал все-таки в сфере психологизма, хотя уже скорее прустовского, а не бальзаковского типа. Ни документ не нужен, ни психология, утверждает автор «Путешествия», значим и содержателен лишь сам Язык. (Интересно, что это противопоставление Селин аргументирует в своей статье «Во славу Золя».)
В процессе этих споров о романе, а вернее, о его языке, по сути, вступила в действие закономерность, полностью осмысленная лишь десятилетия спустя. Здесь снова позиция писателя предвещает позицию, которую займут культурологи в 60-е годы: именно тогда настойчиво заговорили о том, что форма произведения передает не содержание (то есть интерпретацию реальности), а самое реальность: форма имитирует реальность.
Теперь, когда дискредитировали себя различные варианты политической завербованности, столь модной в 20-30-е годы, На современном этапе общественного сознания прояснилось то, что Селину, очевидно, было ясно еще тогда, в 1932-м: истинную верность художник может хранить только слову, подлинный бунт начинается с выбора не политической позиции, а эстетической формы. В конце 50-х, после прощания со всеми иллюзиями относительно «первой страны социализма», об этом заговорил Ален Роб-Грийе: «Ангажированность писателя имеет отнюдь не политическую природу; для него ангажированность — в глубоком осознании проблем своего собственного языка, в убежденности в их чрезвычайной значимости, в желании разрешить эти проблемы изнутри».
Позднее ту же мысль повторили с разных полюсов европейской вселенной автор «Нулевой степени письма» и «Основ «семиотики» Ролан Барт и авторы подготовленного в России альманаха «Метрополь». Последние видели причину «хронической хворобы» советской литературы в «неприязни к непохожести», в стагнации художественных форм. А ведь новизна формы приоритетна. Ролан Барт настаивал на том же приоритете: «Силы свободы, заключенные в литературе, не зависят ни от гражданской личности, ни от политической ангажированности писателя, ни даже от направленности его произведений, но только от той работы по смещению, которую он производит над языком».
Подобная ориентация объективно была предвосхищена позицией Селина-стилиста. К тому же, если возможен вариант бунтарства слова при нейтральном его содержательном наполнении, то у Селина бунт возведен в квадрат. Слово и сообщение оказались в полной (дисгармоничной) гармонии, мысль, главная для романа, и поэтика, ее в себе несущая, не могли быть разъяты.
На базе этой основной посылки, дававшей приоритет языку перед взглядами, позицией, в 60-70-е годы развернулись споры вокруг методов новой критики и структурализма. Большинство литературоведов, предложивших новое «прочтение» Истории литературы — Р. Барт, Ц. Тодоров, Ж. Женетт, Ж. Руссе, Ж. Старобинский, Ю. Кристева, — настаивали на нейтральности идей, замыслов, предшествовавших созданию произведения, и на приоритете слова, языка, который «не передает, а создает, показывает то, чего не было до него, то есть строит, а не отражает».
Поэтому Ролан Барт и советовал написать вместо традиционной истории литературы «историю форм», которая полностью игнорировала бы имена авторов, их биографии, их суждения об эпохе. Экстремальный вывод о такой закономерности «имманентной формы» звучал безапелляционно: «Язык говорит только о самом языке». Подобная крайность Селину была, пожалуй, чужда. При всей его убежденности в приоритете языка, стиля перед любыми ментальными построениями (особенно идеологическими) автор «Путешествия» не раз пояснял, какую цель он преследует, создавая, конструируя свою систему языка. А цель его лежала все-таки за пределами лексического поля, язык говорил не только о языке. Селин предвосхитил, пожалуй, не столько бартовские интерпретации соотношений между художественным произведением и реальностью, сколько интерпретации, обоснованные позднее Л. Гольдманом, К. Бремоном, Ц. Тодоровым. Защищаясь от критиков, Селин заявлял: «Меня упрекают за систематическую жестокость. Пусть мир изменит свою душу — я изменю форму». Таким образом, вслед за изменением «души мира» он обещал изменить не свое представление о ценностях, не преломление их в произведении, но самое форму. Глава одного из направлений структурализма Люсьен Гольдман именно и пытался найти «гомологическое соответствие», даже «строгое подобие» меж структурой художественного текста и структурой общества. Главное методологическое предложение Л. Гольдмана — исключить при анализе категорию сознания, рассмотреть прямую зависимость «самой романной формы от социально-экономической структуры». Высшую похвалу из уст Л. Гольдмана может получить произведение, «структура которого аналогична основной структуре социальной действительности, в недрах которой произведение написано». Такое «строгое подобие» видел теоретик-социолог во многих текстах нового романа, как бы дающих «слепок» с форм общественного устройства.
Вместе с Гольдманом Цветан Тодоров и Клод Бремон пытались вывести «законы синтаксиса», которые были бы едиными для повествовательных и для внеповествовательных ролей, иначе говоря, «универсальную грамматику бытия». Если для Барта литературная практика — это практика имитации, «бесконечных копий», то для другого направления структурализма (а еще раньше — для Селина) литературная практика — это формообразование моделей, тождественных моделям общества. Если приложить к творчеству Селина оба термина структурализма littéralité (литературность как индивидуальный стиль) и littérarité (литературность как художественная система в общем движении форм), то он предстает новатором на обоих уровнях — причем в его понимании уровень языка является определяющим по отношению к уровню художественного целого.
Культуролог Леонид Баткин вообще связывает с понятием «культура» только динамику творчества, динамику порождающую, а не продуцирующую, способность человека мысленно экспериментировать, воображать еще не существующее и даже не могущее существовать». Только так и получает воплощение формула Бахтина о существовании культуры «на границе». Более «пограничного» в этом смысле явления, чем романы Селина, представить трудно.
Скачки славы Луи-Фердинанда Селина — всеобщий интерес с разными ценностными знаками в начале 30-х годов, отторжение и сугубо идеологическая оценка с конца 30-х и в 40-50-е годы, признание неоспоримого вклада в поэтику французского романа, пришедшее уже, по сути, после смерти писателя, — зависели от многих причин: не только от странного дрейфа Селина к надеждам на «Новый порядок», но и от меняющихся запросов самой литературной ситуации. Ныне, спустя четверть века после последних строк, написанных ручкой романиста, влияние его на развитие художественного слова не оспаривается никем. Как и влияние сюрреализма, опыт селиновского конструирования разговорного народного языка, основного для него способа «высказывания» о мире, его антагонизмах и неизбывном зле, оказал опосредованное воздействие на стилистику современной прозы. Первым «последователем» может считаться Ж.-П. Сартр, автор «Тошноты», хотя Селин и считал его своим антагонистом; на следующих хронологических рубежах эстафету Селина в известном смысле подхватили Раймон Кено и Борис Виан, подойдя к наследию по-разному. Раймон Кено, например, совсем не воспринял «мрачно-тошнотворные» аспекты дискурса Селина, но зато упоенно продолжил эксперименты с языком. Борис Виан сочетал игру на мрачных и карнавально-веселых нотах, связывая их по законам абсурда.
Само введение разговорной народной речи в ткань произведения давно осмыслялось в качестве признака демократизации литературы. Если в эпоху первых селиновских романов дебаты в этом направлении не активизировались, то Раймон Кено уже прямо призвал писать на «третьем французском». Кено в полный голос заговорил о необходимости коренного пересмотра всей системы литературной речи в конце 30-х годов. Его собственный роман 1933 года «Закавыка» («Chiendent»), продемонстрировавший возможности экспериментов с языком, прошел незамеченным, но, вполне вероятно, его личный интерес к проблемам языка обострился под влиянием бури, поднявшейся вокруг романа Селина. Селин подписался бы под многими декларациями Кено, прозвучавшими в статьях «Академический язык», «Мы говорим» и др. Будучи не только поэтом, романистом, но и литературоведом, Кено был назван «лидером языковой реформы», «поставившим под вопрос самую суть языка». В деятельности Кено соединилась виртуозность сюрреалиста (он был среди активных участников движения 20-х годов) с убежденностью, что язык надо демократизировать, — метафорическая усложненность сюрреализма его скоро утомила, и он как бы привил на дерево сюрреалистической дерзости, не стесняющейся своей элитарности, селиновский интерес к «произношению» низов. Симбиоз получился блестящим: смысловой спектр обычных слов расширялся до бесконечности, сталкивались синонимы, омонимы, выворачивались наизнанку переносные значения, стихия звуковой игры — но именно в сфере народного, разговорного языка — захлестнула повествовательный дискурс. Обновление, предпринимаемое Кено, шло иным путем, чем селиновское, но взаимозависимость ощутима.
Молодая французская проза 70-90-х годов, отдавшая приоритет языковым проблемам перед идеологическими, естественно, обратила свой взор к автору «Путешествия» и «Смерти». Никто из молодых не назвал себя последователем Селина, возможно страшась прослыть амбициозным. К тому же симбиоз опыта Седина, Кено, Виана явно пришелся больше по вкусу поколению, достигшему зрелости к концу века. Каждый, кто начинал разрабатывать языковую материю, изобретать неологизмы, использовать народную «низкую» речь, играть лексическими парадоксами, чувствовал себя увереннее, продолжая путь, который прошли старшие экспериментаторы. Традиции Селина, Кено, Виана ощутимы в прозе Жоржа Перека, Даниэля Буланже, Жака Рубо, в нашумевших произведениях Гари-Ажара «Большой ласкун» (1974) и «Вся жизнь впереди» (Гонкуровская премия 1975 года), в искрометных новеллах, повестях следующего поколения прозаиков (например, Мари Редонне) и произведениях драматургов (например, Рене Обалдиа или Валера Новарина).
Комбинируя влияния предшественников в разных сочетаниях, молодая французская проза работает с ними главным образом на уровне языка, стремясь максимально усилить его роль. Значение эксперимента Луи-Фердинанда Селина по созданию особой системы корреляции между лексико-синтаксическим рисунком и глобальной оценкой мира оказывается здесь первостепенным.
Л-ра: Вопросы литературы. – 2002. – № 6. – С. 187-213.
Произведения
Критика