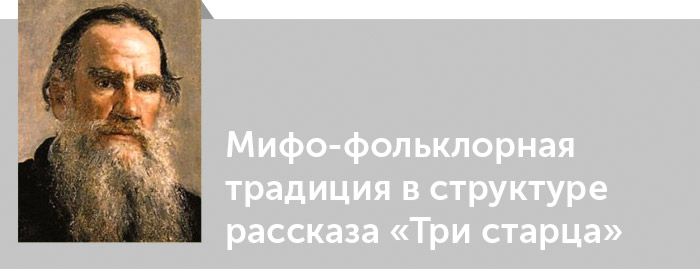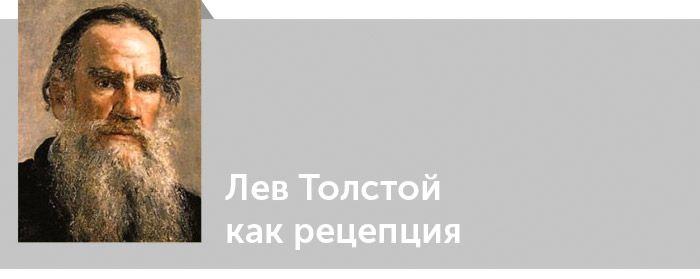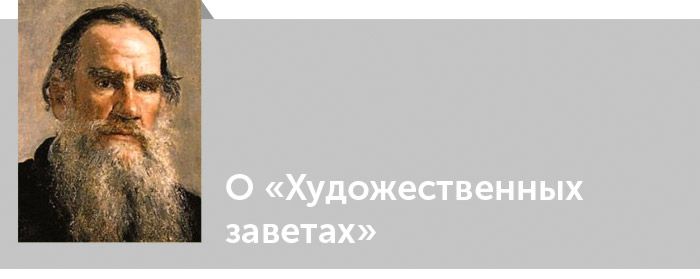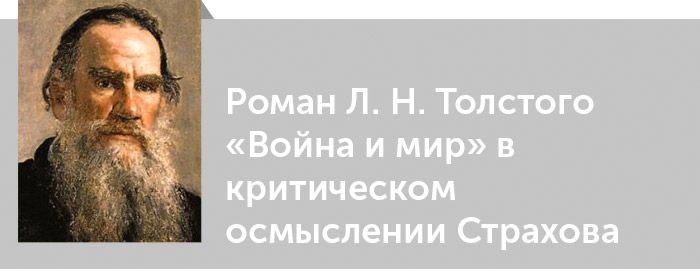Повесть Л. Н. Толстого «Отец Сергий»

УДК 821.161.1
О.Ю. Добробабина,
кандидат филологических наук,
старший преподаватель кафедры мировой литературы
Одесского национального университета имени И.И. Мечникова
Повесть Л. Н. Толстого «Отец Сергий»: трансформация житийного жанрового канона
Исследуется «жанровая парадигма» произведения. Рассматривается взаимосвязь между «эпическим», «архаическим», «драматическим» компонентами жанровой структуры.
Ключевые слова: жанровая структура, мифологический, эпический, драматический, архаический компонент, сюжетные мотивы.
Досліджується «жанрова парадигма» твору. Розглядається взаємозв’язок між «епічним», «архаїчним», «драматич ним» компонентами жанрової структури.
Ключові слова: жанрова структура, міфологічний, епічний, драма тичний, архаїчний компоненти, сюжетні мотиви.
The article is concerned with the « genre paradigm» of work. Intercommunication is examined between «epic», «archaic», «dramatic» the components of genre structure.
Key words: genre structure, mythological, an epic, drama, archaic component, plot motives.
Повесть «Отец Сергий», с точки зрения реализуемого в ней и воплощаемого на всех уровнях жанрового «архитекста», – наиболее емкое и семантически насыщенное произведение позднего периода творчества Л.Н. Толстого. Это качество обусловлено теми изменениями, которые произошли в жанровой структуре повести, являющейся заключительной частью толстовского «триптиха». В ней прежде всего возрастает роль «монологической парадигмы» (И.Я. Матковская), свидетельствующей о значительно большем по сравнению с предшествующими повестями довлении авторского дискурса. Соответственно повышается и роль риторичности как качества жанра, провоцирующего обращение писателя к всевозможным разновидностям «готового», авторитарного слова. Поэтому есть все основания говорить здесь об «эпическом монологизме» Толстого.
По мнению Ю. Кристевой, в эпосе можно выделить «постсинкретический период существования», когда на первый план выдвигается именно тенденция автора, проявляющаяся в языке как «носителе конкретного и всеобщего, индивидуального и коллективного одновременно». В связи с этим «организационным принципом эпической структуры остается монологизм». Это означает, что повествовательные стратегии в произведениях «эпического монологизма» ограничены и «стеснены». Ю. Кристева прямо говорит, что Ф.М. Достоевскому присущ «романный диалогизм», а Л.Н. Толстому «эпический монологизм».
Проявлением данного жанрового качества в повести «Отец Сергий» выступает явная, незавуалированная ориентация писателя на традиции житийной литературы. В толстоведении приводится довольно обширный список агиографических произведений, послуживших источниками для данной повести. Это прежде всего житие Иакова Постника, восходящее, в свою очередь, к Скитскому Патерику. Также немаловажными в процессе создания повести были житие Мартиниана, Сергия Радонежского, Аввакума, Тихона Задонского, Арсения и Пимена Великих. Список древнелитературных текстов, к которым обращался Толстой, можно было бы продолжить, но ясно одно: жанр жития был фокусом, творческим материалом, обусловившим сюжетно-композиционную структуру «Отца Сергия», его архитектонику и жанр. Поэтому нашей задачей является интерпретация патериковых, проложных, минейных и собственно толстовских житий в их соотнесенности с жанровой структурой данной повести.
Житие здесь выступает своего рода «прототекстом», архаическим фундаментом толстовской повести, поскольку «цементирует», «оцельняет» ее жанровую структуру. Это та общая архетипическая схема, на которую накладывается изображение индивидуальной судьбы героя, принадлежащего иной эпохе, мировоззрению и т. д.Отсюда – установка на всеобщее, универсальное, бытийное, сакральное.
Жанр «жития» был близок Л.Толстому присущим ему аспектом изображения человека – его нравственно-религиозного поведения.
«Житийный» сюжет выбран писателем в соответствии с проблемой нравственного самоусовершенствования человека. В основе сюжета повести «Отец Сергий» лежит нравоучение об истинной и мнимой святости, о чем свидетельствует история создания произведения, поэтика его сюжета.
Анализируя житийный пласт в качестве жанрового «прототекста» повести «Отец Сергий», мы при этом опираемся на генологическую теорию Н.Д. Тамарченко. Ученый считает, что одним из константных признаков повести как жанра является ее ориентированность на циклическую сюжетную схему. В центре циклического сюжета лежит ситуация испытания героя. В свою очередь, испытание связано с «необходимостью выбора», следовательно, «необходимостью этической оценки автором и читателем решения героя».
В связи с этим повесть опирается на жанровые каноны, воссоздающие не случайное, а закономерное, повторяющееся. В качестве архаических жанровых «прототекстов» повести, по мнению Н.Д. Тамарченко, могут выступать народное предание, притча, легенда и, наконец, житие.
Житие в повести «Отец Сергий» явилось тем смысловым стержнем, «костяком», на котором зиждится его жанровая структура. А.Г. Гродецкая отмечает в этой связи важность тех «моральных схем патерикографии, тех общих схем, к которым апеллирует Толстой, буквально следуя фабуле жития Иакова Постника» [2, с. 214]. Именно житие с присущим ему набором устойчивых признаков и свойств риторического типа словесности в полной мере отвечало авторскому заданию. Житие выражало риторико-назидательную тенденцию произведения в максимальной степени. По верному замечанию Д.С. Лихачева, житие святого всегда выступает как «моральный образец для остальных людей».
В то же время в произведении Л.Н. Толстого житие «функционирует» не в виде своей канонической модели, а в значительно переосмысленном и переакцентированном по законам художественного мышления жанровом «регистре». Здесь вновь возникает тот жанровый эффект, который в определенной степени был присущ «Крейцеровой сонате» и «Дьяволу». Это так называемое двойное видение, прием скольжения смыслов, наконец, игра повествовательными планами, сферами. Однако в «Отце Сергии» подобная жанровая амбивалентность выражена в значительно большей степени и проявляется на уровне целостной структуры. Поэтому можно говорить, что трансформация житийного канона здесь и задает координаты жанровой структуры, ее стратегии. Отсюда – сочетание в повести противоположных начал: памфлетного и драматического. В отличие от предшествующих повестей, это сочетание принимает здесь принципиально иной характер. Его особенности как раз и обусловлены избираемым автором жанровым «прототекстом». Проанализируем основные пути и средства моделирования особого типа целостности повестийной жанровой структуры, характерной именно для последней трети ХIХ в.
Следует отметить, что уже предыстория молодого князя Касатского, данная в начале повести, свидетельствует о чуждости главного героя житийным образам. Возникающее же сходство с некоторыми житийными мотивами, отдельные аллюзии на житие носят, прежде всего, формальный характер. Поэтому они не принципиальны для содержательной характеристики образа Касатского в последующем, когда он становится монахом-отшельником.
Определяющей чертой молодого Касатского было стремление не к Богу, а к развитию собственных способностей в разных сферах. Это была, по сути, игра своими силами, своим самосовершенствованием. Именно с таким настроением князь Касатский уходит в монастырь и живет в нем. Недаром Толстой в ходе повествования о предыстории героя неоднократно подчеркивает мотив гордыни как основной при поступлении в монастырь и при прохождении монашеских послушаний. При этом гордыня героя передается как в авторском восприятии, так и сквозь призму сознания сестры Касатского. Таким образом, уже в этом своеобразном «прологе», предыстории делается ощутимая установка на объективность. На уровне повествования всяческим образом демонстрируется несостоятельность отца Сергия как настоящего монаха.
Однако Толстой намеренно подчеркивает и акцентирует чуждость героя произведения монашеству как таковому. При этом писатель преследовал сугубо рационалистическую задачу: в лице отца Сергия и его наставников обличить монашество. Подобная авторская установка особенно наглядно просматривается в следующем описании: «Игумен монастыря был дворянин, ученый писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии, монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик известного старца Амвросия, ученика старца Леонида, ученика Паисия Величковского» [4, с. 32]. Таким образом, отец Сергий оказывается преемником всех самых известных православных святых старцев. В ХIХ в., а тем более ко времени написания повести эти святые были очень почитаемы в России. При этом Толстой ни в коей мере не оспаривает авторитет старцев. Старчество в русской культурной традиции в целом и для крайне «неортодоксального» мышления писателя мыслилось в категориях сакральных, во многом определивших пути русской духовности. Толстой же, отталкиваясь от идеи всеобщего духовного перелома, кризиса, обнаруживает «трещину» не в опыте святых прошлого, а в герое-современнике. Поэтому ошибку делает именно ученик старцев. Он совершает немыслимое для старчества – отправляет гордого монаха в затвор.
Отступления от канона обнаруживаются не только в этом. Следует отметить, что при описании жизни отца Сергия в затворе отсутствует необходимая для христианской литературы о святых мотивировка усиления подвигов и чудотворения реальным духовным возрастанием. Толстой показывает, что в отшельничестве отец Сергий остается по-прежнему светским человеком, по-прежнему во время молитвы сомневается, есть ли Бог, к которому он обращается за помощью. Он молится механически, а между тем ведет чрезвычайно аскетический образ жизни, занимается «умной молитвой». Таким образом, уже на данном уровне подчеркивается двойственность героя. Она, в свою очередь, является следствием его ухода из мира, точнее, раскрытием мотивации этого ухода (по сути уход героя из мира спровоцирован светским окружением). Своим поступком князь Касатский демонстрирует нежелание подчиниться внешнему миру, который диктует свои условия. На формальном уровне он прерывает с ним диалог, демонстративно разрывает связи с этим миром, которые удерживали его в состоянии унизительной зависимости, ограничивали его самостоятельность.
Однако его усилия, направленные на то, чтобы разорвать связи с мирским, оказываются тщетными. Подтверждением этому служит эпизод с генералом, свидетельствующий о том, что связи с миром не прерваны. Наоборот, герой то и дело возвращается к ним, они являются содержанием его внутренней жизни.
Все это, так или иначе, обусловливает специфическое и неортодоксальное, с точки зрения церковно-христианских догматов, использование элементов патристики, агиографической легенды. Важно также то, что в патериках находит выражение близкая Толстому идеология раннего христианства. Именно это христианство, по мнению писателя, живет в народе «в легендах, пословицах, рассказах». Поэтому «еретическое» начало толстовской повести питали ее народно-христианские, патериковые корни.
Патериковая мораль, идеология воплощается в повести Толстого наиболее полно. Это как бы и житие и вместе с тем отступление от него, разрушение его канонов. Характерным в этом отношении является следующий этап борьбы героя с миром, попытка подавить в себе привязанность к нему. Имеется в виду посещение Маковкиной. В этом эпизоде на внешнем уровне довольно точно повторяется та цепочка событий, которые присутствуют в житии Димитрия Ростовского, явившемся основным источником толстовской повести. Герой здесь побеждает. Действительно, описана победа духа над плотью. Но по сути это лишь формальная сторона отображения. Толстой вновь раскрывает психологию героя во всей его противоречивости. Перед нами трансформированный вариант присущей толстовскому психологизму «диалектики души».
Данный эпизод построен на борьбе между соблазном, которым Маковкина стремится подчинить себе отшельника, и его волей. Для героя произведения в конечном счете важно победить не свою плоть, а Маковкину. Отсюда – деталь, вызывающая сходство с житийным героем, в частности, с героем жития Димитрия Ростовского. В свою очередь, деталь вырастает до уровня мотива сожжения рук, который в контексте повести обретает расширительный смысл. В данном мотиве не только реализуется заповедь избавления от соб лазняющей части тела, но и буквально воплощается другая евангельская формула: временный огонь предпочитается огню вечному. Жест возложения руки на огонь приобрел в агиографической традиции «этикетный» характер. Он может истолковываться двояко: как движение реальное и вместе с тем ритуальное. В древней литературе реализация данного мотива довольно заметна. Так, протопоп Аввакум возлагает руку на пламя, руководствуясь каноном. С плотским искушением борется Тихон Задонский. Он держит руку над огнем свечи. В дальнейшей литературе тенденция использования и воссоздания этого устойчивого житийного мотива прослеживается довольно часто. В повести Л.Н. Толстого также обнаруживается его авторская интерпретация.
Герой действительно стремится следовать своему житийному предшественнику – Иакову Постнику. Из жанрового «прототекста» известно, что Иаков Постник в течение нескольких часов держал свою левую руку над огнем, пока правая касалась тела блудницы. Житийный герой боролся с «дьявольским искушением». При этом его борьба не преследовала цели воздействовать на сознание блудницы. Сергий же должен победить Маковкину. Следовательно, эта задача не требовала от него жертв, подобных тем, которые приносил Иаков Постник. В соответствии с этим и победа героя повести Толстого направлена, прежде всего, на соблазнительницу. Таким образом, писатель здесь выходит за рамки житийно-канонической интерпретации. Он переосмысляет ее согласно своему миросозерцанию, своим представлениям о роли и функциях житийной литературы в современной ему реальности. «Автор не следует этикету и едва ли может ему следовать – по самой природе своего бунтующего против этикета художественного творчества. «Жест» его героя более непредсказуем, внезапен и непосредствен, нежели того требует поведенческий ритуал» [2, с. 225]. По мнению исследовательницы, писатель здесь становится на точку зрения патериковой морали. Поэтому в контексте произведения отсутствует этикетность, ритуальность, характерные для канонического жития.
Следует отметить, что в такой же степени приближенными к патерику по сути являются заключительные мотивы раскаяния и пострижения блудницы. Эти мотивы на внешнем, формальном уровне совпадают со своими сюжетными аналогами в каноническом житии («Через год она была пострижена малым постригом»). На глубинном уровне автор в значительной степени отступает от житийной интерпретации. Он изображает прежде всего внут реннюю борьбу Сергия, что придает его победе совершенно иные коннотации. Отсюда – раскаяние и пострижение Маковкиной, с точки зрения фабульной реализации, то есть соответствия житийному канону, являются для автора далеко не первоочередными. Писатель лишь констатирует внешнее сходство, избирает своеобразный архетипический «каркас» и наполняет его индивидуальной художественной семантикой. Толстой опирается не столько на жесткую структуру жития, сколько ему интересна сама мораль, извлеченная из него. Поскольку же жанр патерика был значительно архаичней по своему происхождению, то, очевидно, писатель видел в нем больше «жизненности», морали, связанной не с готовыми, сложившимися истинами, а с неожиданными, подчас даже новеллистически непредсказуемыми коллизиями. Этим и обусловлено, как нам представляется, обращение Толстого к патерику, который он, в свою очередь, облекает во внешний «каркас» канонического жития. Для писателя на первом плане не произошедшее впоследствии с Маковкиной, а прежде всего ее роль в судьбе отца Сергия, тот урок, который он должен был извлечь после встречи с ней.
Сосредоточившись на воссоздании многолетней жизни героя в затворничестве, писатель вместе с тем подчеркивает глубинную связь его с миром. Речь идет о моделировании героя особого склада, с которым Толстой связывал надежду на возрождение духовности. Следует отметить, что в литературоведении утвердилось понятие толстовского праведника. Однако если мы проследим эволюцию праведничества в русской культурной традиции, то придем к выводу о том, что данное понятие как раз и может быть связано с его «мирской» интерпретацией. Более того, представления о праведничестве находились в ХIХ в. в русле православной традиции.
Такой подход обусловил и ту последовательность, цепочку испытаний, которым под вергается Сергий. Характерным в этом отношении является испытание, связанное с появ лением в его келье слабоумной Марьи. Согласно логике жития, этот эпизод должен был лишь утвердить героя в вере, в нем должна была укрепиться сила духа. Однако на деле происходит обратное. Убедившись в «чувственности и слабоумии» Марьи, герой, тем не менее, не в состоянии преодолеть в себе похоть, он не может устоять перед примитивным существом. Падение героя происходит быстро, практически незаметно для него самого. В результате падения в сознании героя возникает представление о грехе. Здесь показательным является то, что Толстой отходит от приближенной к народной интерпретации греха и становится на путь более догматического его толкования.
В повести же Толстого вслед за падением героя, которое было высшей точкой его саморазоблачения, сразу наступает искупление греха. Но путь возрождения, просветления отца Сергия состоит из нескольких этапов.
Толстой вновь прибегает к житийной схеме. Она реализуется прежде всего на уровне выявления житийных прототипов. В изображении жизни Сергия во втором монастыре содержится упоминание о барыне, которая начала заискивать» в нем и просила ее посетить. Сходный эпизод присутствует в житии Арсения Великого. Некая «боярыня богатая», случайно увидевшая Арсения, пожелала видеть его и впредь, на что получила гневную отповедь старца, возмущенного суетным желанием женщины. В «Отце Сергии» этот мотив присутствует в виде «соблазна женского»: Сергий не отвечает барыне, но ужасается «определенности своего желания».
Сюжетные аналогии с патериковыми житиями обнаруживаются и в эпизоде встречи Сергия с Пашенькой. Следует отметить, что данный эпизод восходит к общему архаическому сюжету о посрамлении прославленных аскетов. Он обнаруживается в многочисленных рассказах патерикового происхождения. Так, известными были рассказы о некой девственнице, всеми помыкаемой и оскорбляемой, которая служила в монастыре и отличалась редким смирением и самоуничижением. Епископу Питириму даже явился ангел, обличая его в превозношении собственными подвигами и указывая образец истинного подвижничества: «она лучше тебя». Кстати, к этому же типу сюжетов примыкают и рассказы о благочестивых скоморохах, в которых мнимому праведнику является праведник подлинный.
Именно эти традиционные элементы сюжета использует Толстой в повести «Отец Сергий». Герою в «тонком сне» является видение: «И во сне он увидал ангела, который пришел к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твои грехи, в чем твое спасение». Он проснулся и, решив, что это было виденье от Бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении» [4, с. 34]. Здесь соблюдено внешнее сходство с житийным каноном. Но далее писатель идет по пути его трансформации, прибегая к нарочитому снижению устойчивого житийного мотива. Известно, что уже в первой редакции повести житийная формула о святости и праведничестве Пашеньки звучала не из уст ангела, а принадлежала «грубому мужику». Эта тенденция к редуцированию житийных мотивов сказалась и в окончательной редакции. Житийное «виденье от Бога» осталось в повести неразработанным эпизодом, подобно предшествующим раскаянию и пострижению блудницы. И это выглядит вполне закономерным, поскольку повесть не была завершена Толстым и при жизни писателя не публиковалась.
Если структурные компоненты «видения», его внешние признаки, восходящие к древнерусской агиографии, остались неразработанными в повести, то сама его суть, содержание оказываются в центре авторского внимания. Сон же выступает своеобразной рамкой, формой, в которую писатель облекает свою идею праведничества. Главное – это то, что внутри сна, то есть его содержание, идея.
Очевидно, Толстому здесь оказывалась ближе фольклорная интерпретация видения. Ее контекст довольно обширен. Изображение посрамления пустынника было частотным в легендах, сказках, духовных стихах. В фольклоре разоблачается не гордыня и самомнение монаха, а эгоизм святости, когда забота о спасении души заменяет заботу о благе ближнего. Подвижники-скоморохи, крестьяне из народных легенд превосходят пустынников в деле служения ближнему. В некоторых патериковых рассказах забота о ближних противопоставляется эгоистической монашеской морали. Толстой здесь становится на позиции «народности», ему импонирует мораль, извлеченная не дедуктивным способом из опыта монашеско-аскетической жизни, а приближающийся к истине взгляд крестьянина. Это взгляд наивный, мирской по своей природе. А.Г. Гродецкая в этой связи пишет: «Из двух взаимоотрицающих и сосуществующих в христианстве представлений о путях спасения, мирском и аскетическом, Толстой, несомненно, признавал только первый» [2, с. 232]. В качестве доказательства своей точки зрения исследовательница приводит слова самого писателя: «…Отделить себя, чтобы не грязниться, есть величайшая нечистота…» [2, с. 204].
В данном случае фольклорные и древнелитературные источники, на которые опирался Толстой, способствовали более глубокому уяснению жанровой структуры произведения. С помощью архаических сюжетов в более сильной позиции раскрывалось памфлетнопублицистическое начало. В еще большей степени оно предстает в разоблачении праздности монашества. Это, пожалуй, основной объект толстовской критики, также восходящий своими корнями к народной морали, которая трансформируется в патериковых и легендарных сюжетах о посрамленных пустынниках.
Антитезой по отношению к праздности выступают герои трудящиеся, кормящие себя и своих ближних. Это всевозможные персонажи фольклорных сюжетов – дровосечцы, камнесечцы, вертоградари, пастухи и т. д. С точки зрения выражения народного отношения к монашеству, заслуживают внимания и рассказы Киево-Печерского патерика. Это известный эпизод с возницей из жития Феодосия Печерского, когда возница просит преподобного Феодосия занять его место, поскольку устал от работы, монах же празден.
В повести Толстого монашество с присущими ему духовным «сибаритством», «святостью», основанной на «рабстве», подвергается последовательному, соответствующему всем эстетическим параметрам памфлета, развенчанию. Об этом речь шла выше. В данном аспекте важна связь риторичности и таких ее проявлений, как дидактико-назидательная тенденция автора, учительный пафос с архаическими «прототекстами», формирующими жанровую структуру «Отца Сергия» древними жанровыми схемами. Тем более, что на этот раз перед нами вновь трансформация житийного канона, связанная с образом Пашеньки. Выявляемое нами фольклорное начало выступает здесь своего рода механизмом данной трансформации, переакцентировки.
Действительно, Пашенька вбирает в себя множество традиционных черт житийных героев. В ней на обобщенном уровне выражается идея самоуничижения и смирения, выступающая антитезой по отношению к светскому и монашескому честолюбию Сергия. Пашенька живет с ощущением собственной вины, неправоты и несовершенства («Да я прожила самую гадкую, скверную жизнь…», «…только и есть, что знаешь всю свою гадость…»). Олицетворяя самоотречение, Пашенька противостоит эгоцентрически замкнутому сознанию монаха. Духовное состояние своего героя, когда «все внимание, все интересы его были сосредоточены на своей внутренней жизни», Толстой называет «состоянием усыпления». Когда же угасает и этот интерес, «усыпление» сменяется «уничтожением» «внутренней жизни», ее полностью заменяет жизнь «внешняя». В Пашеньке воплотилась и идея деятельного милосердия, деятельного служения ближнему. Разумеется, писатель отталкивается от этой идеи как от антитезы монашеской праздности. Следует отметить, что Толстой придает данной антитезе особую форму. Как и в канонических жанрах, перед нами «упрощенно-назидательный моральный и сюжетный схематизм, повторяющий столь же схематичную бинарную конструкцию (должное – недолжное) соответствующих сюжетов предания» [2, с. 236].
Подобный схематизм может быть объяснен родом занятий героини. Исследователь Э.С. Афанасьев обнаруживает «поразительное сюжетно-смысловое соответствие» между финалом «Отца Сергия» и проложным «Словом о епархе Феодуле и скоморохе Корнилии». Пашенька, как и ее житийные прототипы, занимается далеко не благочестивым занятием, с точки зрения христианской морали. Здесь на первый план выдвигается «принцип минимизации “подвига”». В результате этого «этический закон предания (выше тот, кто ниже), определивший художественное решение Толстого, действует в данном случае против его же собственных канонов и догматов» [2, с. 237]. При этом снижению, профанации деятельности героини также способствует фольклоризация, взгляд на нее с точки зрения народной морали. Именно поэтому непонятная народу классическая музыка отрицается Тол стым. Вместе с тем фольклоризация изображаемого вступает во взаимодействие с тенден цией христианизации. Для сравнения можно вспомнить отрицательное отношение автора к музыке в «Крейцеровой сонате». В «Отце Сергии» занятия Пашеньки музыкой интерпретируются в таком же ключе. Это занятие с позиций церковной морали безбожно так же, как и занятие скомороха. По мнению А.Г. Гродецкой, писатель «антиканоническую народную модель использует в ее обычной функции, направляя против собственного ригоризма и догматизма» [2, с. 238].
Однако житийный контекст образа Пашеньки не исчерпывается установлением параллелей с «народными» представителями труда, «малых дел». Данный контекст гораздо шире. Вполне закономерным является сопоставление Пашеньки с Юлианией Лазаревской. В литературоведении существует традиция подобного сопоставления (И.А. Юртаева, П. Честер, А.Б. Тарасов). Сходства возникают на уровне сравнения семейного служения толстовской героини с семейной и хозяйственной деятельностью Юлиании, с ее заботами о чадах и домочадцах. Но, пожалуй, наиболее объединяющим обеих героинь является то, что они не бывают в церкви, их добродетель не связана с церковной моралью. Но следует отметить, что ориентация Толстого на житие Юлиании Лазаревской не была сознательной. Такими же выглядят выявляемые сходства, даже текстуальные переклички с «Житием Исидоры Юродивой». Это скорее был творческий импульс, толчок для обобщенного выражения представлений о святости. Иными словами, перед нами определенный пласт мотивов и образов агиографической словесности, способствующий объемности и многомерности жанровой структуры повести.
Писателю важно не выявить конкретный архаический прототип своего героя, а создать широкий контекст. Справедливым представляется мнение А.Г. Гродецкой: «Подбором устойчиво-трафаретных житийных мотивов создается широкий контекст, ориентированный не на единственный агиографический прототип, а на житийную традицию в целом как явление не литературы, но идеологии» [2, с. 245]. Однако вывод исследовательницы о том, что «Отец Сергий» является «по существу антижитием с героем антисвятым» [2, с. 245], представляется спорным. Подобного мнения придерживаются также Е.Н. Купреянова и С.И. Стоянова. Они говорят об «антиканоническом» характере произведения.
Толстой не ориентировался на житие только с целью указания адресата критики, разоблачения. Он не ограничивался использованием «православного декорума» с этой целью, а сознательно опирался на целостные структуры древнерусской агиографии. И это соответствовало той эстетической и нравственной позиции писателя, которая выдвигается на первый план в его позднем творчестве. Поэтому сходство и отца Сергия, и Пашеньки с житийными героями не только внешнее, но обнаруживает глубинную связь на уровне жанровой структуры. Эта связь подтверждается проанализированной выше сценой искушения Сергия великосветской дамой Маковкиной. Данная сцена в совокупности с последующим изображением обращения блудницы наиболее приближена к каноническому житию, которое писатель практически оставляет без изменений.
Л.Н. Толстой не столько спорил с моралью жития, не столько разрушал его каноническую структуру, сколько переосмыслял ее. Писатель выбирал во всем множестве агиографических текстов те сюжеты, которые соответствовали его принципиально «неортодоксальному» учению. Писатель искал подобные совпадения, явившиеся не чем иным, как «подтверждением “вымученных” истин личного опыта» [2, с. 246]. Причем в поле авторского внимания оказывались как агиографическая легенда с присущей ей «еретической», антиканонической направленностью, так и патериковое житие, на котором основывается глубинный слой жанровой структуры повести «Отец Сергий».
В этой связи целесообразно вести речь о «притчевости» произведения Толстого. Именно притча в качестве первичного «прототекста» проникает в житие, и, трансформируя его, в значительной степени разрушая его каноническую структуру, тем самым приближает героя к миру, делает весомым выбор героем индивидуальной жизненной позиции. Отец Сергий предстает подлинным «субъектом этического выбора». Подобная жанровая установка притчи не противоречит ее свойствам авторитарного текста, ее «учительному дискурсу» (В.И. Тюпа). Обращение Толстого к притчевым моделям обусловлено возрастанием роли дидактико-назидательного начала, морализаторской тенденции. Выше мы уже отмечали влияние этих факторов на специфику художественности в позднем творчестве Л.Н. Толстого. Теперь же дидактизм, назидательность, учительный пафос как частные проявления риторического дискурса нас интересуют в связи с их реализацией в «авторитарной риторике императивного, монологизированного слова» притчи. В самом деле, притча как своеобразный жанровый «первофеномен» (М.М. Бахтин) способствует усилению в тексте толстовской повести риторичности, возрастанию в ней монологической парадигмы. Данные свойства притчевой структуры также позволяют глубже понять особенности сюжетики позднего Толстого, обусловленные, в свою очередь, субъективной трактовкой писателем христианской догматики.
Есть все основания полагать, что интерес произведений патерикового типа к изображению кающихся грешников идет от притчи. В них говорится о своеобразной «апологии» греха, о сложном процессе познания и самосовершенствования, обретения добродетельных качеств посредством греха. В этом смысле «патериковые поучения и рассказы буквально повторяют или иллюстрируют евангельские заповеди и притчи о раскаявшихся грешниках – разбойнике и блуднице, блудном сыне, заблудившейся овце, потерянной и найденной драхме. Абсолютно созвучными им оказываются “заповеди” Толстого». Для писателя важной была мысль о возможности подлинного раскаяния и последующего обретения истины только через падение. Именно таков путь героя притчи. В дневнике Толстого 9 августа 1890 г. появляется запись: «К Отцу Сергию. Описать новое состояние счастия – свободы, твердости человека, потерявшего все и не могущего упереться ни на что, кроме Бога. Он узнает впервые твердость этой опоры» [4, с. 74]. В письме В.П. Золотареву о своем «павшем» герое Л. Толстой пишет: «…И только в падении, осрамившись навеки перед людьми, он нашел настоящую опору в Боге. Надо опустить руки, чтобы стать на ноги» [4, с. 268].
Таким образом, концепт греха в художественной и мировоззренческой системе Л.Н. Толстого приобретает первостепенное значение. Грех – это необходимая предпосылка дальнейшего развития личности, ее духовного движения, которое противопоставлено статике, застывшей форме, догме, духовному «усыплению». В трактате «О жизни» Толстой писал, что грех, заблуждение, страдание, раскаяние осмысляются как источник необходимого для жизни движения. Поэтому «…страдания вызывают ту самую деятельность, которая и составляет движение истинной жизни, – сознание греха, освобождение от заблуждения и подчинение закону разума» [2, с. 248]. Именно такое понимание греха как пропасти, угрозы смерти, утраты смысложизненных ориентиров характеризует духовную эволюцию героев поздних произведений Л.Н. Толстого. Это и близкий к самоубийству Левин, и автобиографический герой «Исповеди», «Записок сумасшедшего» и других произведений. Подобное искушение грехом проходит и отец Сергий.
При этом писатель всяческим образом подчеркивает ценность жизненного этапа, связанного с ощущением героем своей греховности. Это ценность прежде всего познавательная. Для сравнения вновь обратимся к мифологической парадигме грехопадения в предшествующих повестях. Так, например, в «Крейцеровой сонате» явно прослеживается тенденция оправдания греха, являющегося условием, необходимой предпосылкой последующего возрождения героя. Преступление Позднышева по сути оправдывается, оно выполняет своего рода «очистительную» функцию. Воздействие совершенного греха здесь еще сильнее, чем в «Отце Сергии». Следует отметить, что подобная интерпретация грехопадения свойственна мифологическому мышлению, элементы которого трансформируются и переходят в раннехристианские памятники. Именно на них опирается Толстой, вступая тем самым в противоречие с церковными догматами, ортодоксальным православием. В этом и проявилось радикальное переосмысление им христианских догматов. В дневнике писатель отмечает, что его повесть «о человеке, всю жизнь искавшего доброй жизни, и в науке, и в семье, и в труде, и в юродстве, и умирающего с сознанием погубленной, пустой, неудавшейся жизни. Он-то святой».
Если в отце Сергии воплощается динамика, противоречивость духовных поисков, то в изображении Пашеньки, наоборот, на первый план выдвигается статика, неподвижность. Представление о праведной жизни дано ей изначально. Несмотря на неблагочестивость своего труда, Пашенька все же погружена целиком в его стихию. Такому труду до самоот речения отдается Пашенька. Она предстает в «роли воплощенного идеала», «ее путь к ис полнению своего высшего “предназначения” прямее, короче и однозначнее» [2, с. 252]. В связи с этим образ Пашеньки предстает чем-то вроде «унификации».
Однако, Толстому ближе не «пребывание» в праведности, а становление, динамика. Поэтому статичный идеал отодвигается на второй план, уступая место в художественной системе повести образу кающегося грешника. В результате в произведении возникают «двойные смыслы». Эффект «двойного смысла» появляется именно за счет усиления динамики, перестановки традиционных акцентов в отображении героя. Касатский именно вследствие своей греховности «святее» идеальной Пашеньки.
Подобный подход определен самой жанровой структурой «Отца Сергия», ориентированного, с одной стороны, на житие, а с другой, – переосмысляющего это житие в соответствии не только с миросозерцанием Толстого, но и с религиозно-философской парадигмой эпохи в целом. Ее отражение в русской литературе наиболее очевидно в принципиально «неканонических» «житиях» Н.С. Лескова и, как это ни парадоксально, даже в художественной системе такого православно ориентированного писателя, как Ф.М. Достоевский. При этом имеется в виду его «Житие великого грешника», в котором писатель выдвигает идею прощения греха. В нем Достоевский записывает: «О прощении непростимого преступника (что это мучение всего мучит сильнее)».
Переосмысление, трансформация традиционных житийных структур в «Отце Сергии» оказываются возможными на основе такого жанрового качества толстовской повести, как притчевость. Именно в притче как жанровом «первофеномене» в большинстве случаев выражена раннехристианская мораль с ее «апологией греха». При этом в контексте данной повести целесообразно вести речь не об определенном притчевом сюжете, лежащем в основе жанровой структуры, а о собственно притчевости как свойстве, качестве, заключающем в себе комплекс представлений о грешном герое, движущемся к истине. Поэтому закономерным является сходство героя повести и с блудным сыном, и с заблудшей овечкой, и потерянной и найденной драхмой. Здесь притчевость выступает тем качеством, которое позволяет применить к герою аксиологию не житийную, а в значительной степени ассимилированную, представленную в реалиях конца ХІХ – начала ХХ ст.
Притчевость обусловливает также определяющий повестийную структуру принцип «обратной симметрии». Он реализуется в мотиве ухода героя, его возвращения в мир. Если первый уход в монастырь предполагает следование модели пути героя жития, то второй уход Сергия наиболее очевидным образом демонстрирует отступление писателя от канонической житийной структуры.
Вместе с тем разрушение агиографического канона осуществляется не только на основе притчевости. Подтверждением этому и является архетипический по своей сути мотив ухода. Его значимость в контексте повести Толстого определяется наличием в нем не противоречащих друг другу притчевой и житийной семантики и накладывающихся на них онтологических смыслов. Доказательством здесь может служить жизнетворческая реализация ухода в духовном опыте самого Толстого. Интерпретируя последовательное воплощение данной архетипической структуры в культурно-историческом контексте эпохи второй половины ХIХ в. и ее трансформацию в творчестве Толстого.
Итак, переосмысление житийного канона осуществляется, с одной стороны, на основе проникающих в житие жанровых «первофеноменов», как, например, притчи, а с другой – изнутри самого агиографического образца. В результате перед нами жанровая структура повести, вбирающая в себя и по-разному переакцентирующая диаметрально противоположные и одновременно тождественные семантические пласты. Это и обусловливает эффект двойного видения, скольжение между разными смыслами внутри одного жанрового денотата, в данном случае житийного. Подобная многомерность, позволяющая «распределять», акцентировать разные коннотации в пределах одного денотата, свидетельствует о возникновении и утверждении в русской литературе принципиально нового типа повестийной структуры. Она зиждится прежде всего на амбивалентности ее жанровой модели, характеризующей произведения малого эпоса последней трети ХIХ – начала ХХ в. Это становится возможным на основе двуплановости, явившейся следствием соотнесения повести с такой архаической жанровой моделью, как житие.
Список использованных источников
1. Аверинцев С.С. София-Логос. Словарь / С.С. Аверинцев // Собр. соч. – К.: Дух і літера, 2006. – 912 с.
2. Гродецкая А.Г. Ответы предания: Жития святых в духовном поиске Льва Толстого / А.Г. Гродецкая. – СПб.: Наука, 2000. – 264 с.
3. Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности / И.А. Есау лов. – М.: Кругъ, 2004. – 560 с.
4. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. / Л.Н. Толстой. – М.: Худож. лит. – Т. 27: 1928–1958. – 620 с.
5. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в бласти мифопоэтического / В.Н. Топоров. – М.: Прогресс – Куль тура, 1995. – 624 с.
6. Тюпа В.И. Аналитика художественного. Введение в литературо ведческий анализ / В.И. Тюпа. – М.: Лабиринт, РГГУ, 2001. – 192 с.
7. Юртаева Е.Н. Жанровое своеобразие повестей Л. Толстого 70–90-х гг. XIX века / Е.Н. Юртаева // Толстовский сборник № 27. – Тула, 1992. – С. 39–50.
Одержано 1.10.2013.