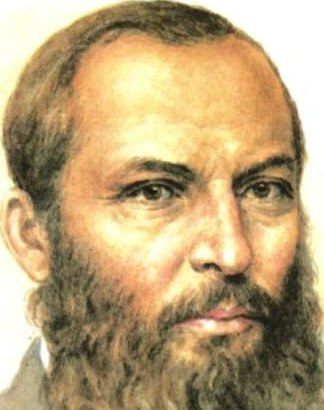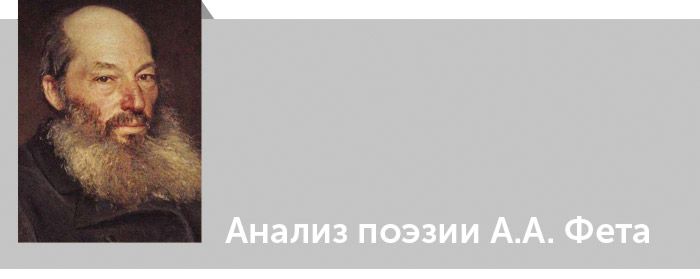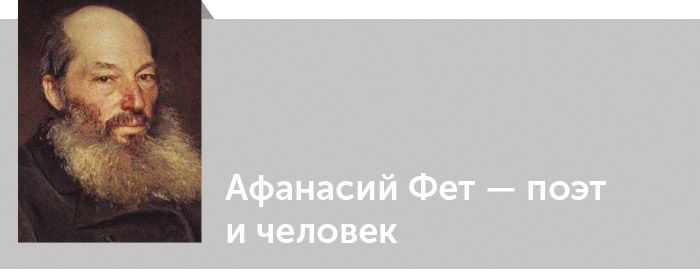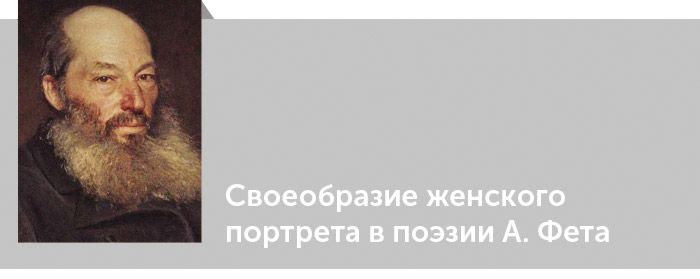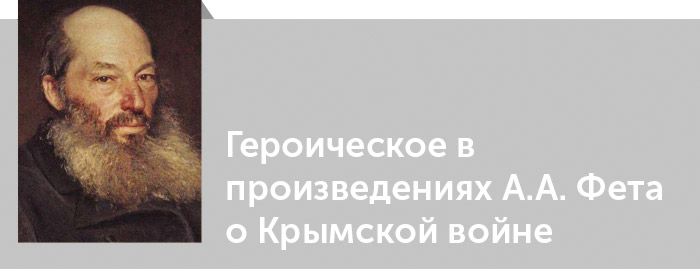Проза Фета-Шеншина
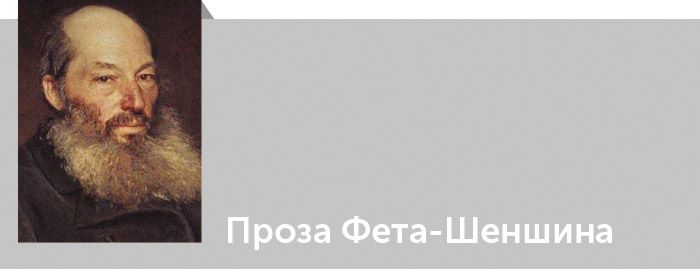
А. Тархов
А. А. Фет. Сочинения в двух томах. Том второй.
М., "Художественная литература", 1982
Фет вспоминал, как в мае 1853 года, поехав к Тургеневу в Спасское, он прочитал ему — за неимением новых стихотворений — свою небольшую комедию. "Когда я кончил, Тургенев дружелюбно посмотрел мне в глаза и сказал:
— Не пишите ничего драматического. В вас этой жилки совершенно нет.
Сколько раз после того приходилось мне вспоминать это верное замечание Тургенева, и ныне, положа руку на сердце, я готов прибавить: ни драматической, ни эпической" {Мои воспоминания. 1848-1889. А. Фета. Ч. I. M., 1890, с. 7 (в дальнейшем ссылка на это издание дается сокращенно: МВ, часть, страница).}.
Это написано Фетом в конце жизни; но если его драматургический опыт не имел продолжения — то в прозе, напротив, Фет был к этому времени автором семи рассказов. И пусть сам создатель, по-видимому, ценил их невысоко — для нас они представляют несомненный интерес: и как своеобразное явление художественной прозы, и как материал для понимания личности поэта, его биографии, его мировоззрения. Отличительная особенность фетовских рассказов — обнаженная автобиографичность: их сюжеты — фрагменты его биографии, их материал — жизненные события, душевный опыт, размышления поэта. Это качество прозы Фета сопоставимо с "дневниковой природой" художественного очерка у молодого Толстого, но особенно близко манере А. Григорьева, рассказы которого заполняются материалами дневников и писем (см. об этом в статье Б. Ф. Егорова "Художественная проза Ап. Григорьева". — В кн.: "Аполлон Григорьев. Воспоминания". Л., 1980). Эта особенность сказалась уже в первом произведении, с которым выступил Фет-прозаик в 1854 году, — рассказе "Каленик": мы встречаемся здесь с тем самым Калеником, денщиком Фета, о котором говорится и в фетовских мемуарах; подобные же параллели находим и ко всем прочим рассказам. Но как раз сравнение рассказов с теми же сюжетами и лицами в фетовских воспоминаниях помогает понять творческий импульс художественной прозы Фета: в ней поэт искал возможности соединения живого, единичного, индивидуально-неповторимого жизненного явления с философским размышлением, с духовным обобщением непосредственного жизненного опыта (что менее заметно в мемуарах, воспроизводящих "жизненный поток"). Поэтому прав был один из первых исследователей Фета, который по поводу рассказа "Каленик" сказал, что это "есть как бы микрокосм миросозерцания Фета в его основных началах..." {Б. Садовской. Ледоход. Пг., 1916, с. 69 (в дальнейшем ссылка на это издание дается сокращенно: Садовской, страница).} Свой первый рассказ поэт сделал выражением своих любимых идей об отношениях человека и природы: перед вечными тайнами жизни бессилен разум человека, и природа открывается лишь "непостижимому чутью" таких людей, как Каленик, который есть "дитя природы" и от нее наделен "стихийной мудростью". Подобный же "мировоззренческий трактат" — но уже на другую тему — представляет поздний рассказ "Кактус" (см. о нем во вступительной статье). От этих двух рассказов, где единичное явление служит лишь "наглядным примером" некоей общей идеи, — существенно отличаются два обширных повествования Фета (которые близки уже к повести) — "Дядюшка и двоюродный братец" и "Семейство Гольц". В этих произведениях весь интерес — в самой рассказанной "жизненной истории", в характерах, в отношениях персонажей; автобиографическая основа первого рассказа более очевидна, во втором она завуалирована и усложнена автором, но в том и другом случае перед нами весьма важные по материалу "повести из жизни Фета". Наконец, еще три прозаических произведения Фета имеют каждое свое лицо: "Первый заяц" — детский рассказ; "Не те" — анекдот из армейской жизни; последний же рассказ поэта, "Вне моды", — это что-то вроде "автопортрета в прозе": бессюжетная зарисовка, в которой перед нами внешность, привычки, ощущения мира, характерное течение мыслей старика-Фета.
Художественная проза Фета прошла почти незамеченной у современников; в противоположность этому большой резонанс имели литературно-эстетические выступления поэта. Краеугольным камнем эстетической позиции Фета было резкое разграничение двух сфер: "идеала" и "обыденной жизни". Это убеждение не было для Фета плодом отвлеченного теоретизирования — оно выросло из его личного жизненного опыта и имело общий корень с самим существом его поэтического дара. В воспоминаниях Фет приводит свой разговор с отцом — человеком, погруженным всецело в "практическую действительность" и лишенным "порывов к идеальному"; резюмируя этот разговор, поэт пишет: "нельзя более резкой чертой отделить идеал от действительной жизни. Жаль только, что старик никогда не поймет, что питаться поневоле приходится действительностью, но задаваться идеалами — тоже значит жить" {МВ, I, с. 17.}. Этот эпизод относится к 1853 году; но можно полагать, что подобное убеждение владело Фетом уже в студенческие времена. Основание для такого предположения дает один документ (о нем см. в комментариях к письмам Фета к И. Введенскому), относящийся к 1838 году, в котором Фет назван именем "Рейхенбах". Б. Бухштаб обратил внимание на то, что это — имя героя романа Н. Полевого "Аббадонна", напечатанного в 1834 году. Мы, в свою очередь, полагаем, что не случайно Фет-студент выбрал себе (или получил от друзей) прозвище "Рейхенбах": вероятно, на страницах романа Полевого, в речах его героя, поэта-романтика Вильгельма Рейхенбаха, он нашел много "своего" — нашел отклик собственным убеждениям, вынесенным из горького жизненного опыта. "Никогда не находил я в мире согласия и мира между жизнью и поэзиею!" — восклицает Рейхенбах. С одной стороны — "бездушие жизни, холод существования", непреходящая "горечь действительности"; но этому противостоит "наслаждение мечтаний" — то неистребимое стремление поэта "отказаться от пошлой будничной жизни" и страстно требовать: "Дайте мне первобытного, высокого, безотчетного наслаждения жизнью; дайте мне светлое зеркало искусства, где свободно отражались бы и небо, природа и душа моя!" Здесь как бы сформулирована самая сердцевина убеждений Фета, которые он сам многократно высказывал (и даже в сходных выражениях) на протяжении всей своей жизни.
Первым и наиболее "программным" печатным выступлением Фета-критика была его статья 1859 года "О стихотворениях Ф. Тютчева". В лице этого поэта Фет видел "одного из величайших лириков, существовавших на земле" (об отношениях Фета и Тютчева см. т. 1, комментарий к стих. "Ф. И. Тютчеву"). Однако взяться за перо Фета заставило не столько само по себе большое событие в русской поэзии — выход первого сборника стихотворений Тютчева, сколько новые, "базаровские" веяния общественного умонастроения, отвергавшие "чистое художество" во имя "практической пользы". Чтобы ясно представить себе "злободневность" фетовской статьи, напомним один факт. В феврале того же 1859 года, когда Фет печатно выступил со своей "программно-эстетической" статьей, состоялось другое, устное выступление, весьма близкое по духу фетовскому: это была речь Л. Толстого 4 февраля 1859 года в Обществе любителей российской словесности по случаю избрания его членом этого Общества. Писатель, между прочим, говорил следующее: "В последние два года мне случалось читать и слышать суждения о том, что времена побасенок и стишков прошли безвозвратно, что приходит время, когда Пушкин забудется и не будет более перечитываться, что чистое искусство невозможно, что литература есть только орудие гражданского развития общества и т. п. <...> Литература народа есть полное, всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отразиться как народная любовь к добру и правде, так и народное созерцание красоты в известную эпоху развития. <...> Как ни велико значение политической литературы, отражающей в себе временные интересы общества, как ни необходима она для народного развития, есть другая литература, отражающая в себе вечные, общечеловеческие интересы, самые дорогие, задушевные сознания народа..." {Л. Толстой. Полн. собр. соч., т. 5. М.-Л., 1930, с. 271-273.} Если принять во внимание, что вместе с Толстым выступали еще три вновь принятых члена Общества и что все они, подобно Толстому, избрали темой выступлений одну и ту же тему — о "художественной" и "тенденциозной" литературе (но высказались в пользу второй, а не первой, как Толстой), — то станет ясной актуальность проблемы и острота борьбы. В том, что Толстой в своей речи "чистосердечно признал" себя "любителем изящной словесности", — не было ничего неожиданного (хотя этот период и был кратковременным): ровно за год до этого в письме к В. Боткину от 4 января 1858 года он предлагал создать чисто художественный журнал, отстаивающий "самостоятельность и вечность искусства", в котором объединились бы единомышленники: "Тургенев, вы, Фет, я и все, кто разделяет наши убеждения". Но если в своей речи в Обществе Толстой вместе с тем нашел возможность отдать должное "тенденциозной литературе" ("В последние два года политическая и в особенности изобличительная литература, заимствовав в своих целях средства искусства и найдя замечательно умных, честных и талантливых представителей, горячо и решительно отвечавших на каждый вопрос минуты, на каждую временную рану общества..." и т. д.), то его единомышленник Фет не собирался этого делать. В запальчивости полемики нередко доходящий, по собственному выражению, до "уродливых преувеличений" (Тургенев называл его "удилозакусным"), Фет в начале статьи "эпатирует" своих оппонентов следующей фразой: "...вопросы: о правах гражданства поэзии между прочими человеческими деятельностями, о ее нравственном значении, о современности в данную эпоху и т. п. считаю кошмарами, от которых давно и навсегда отделался". Но, словно бы поостынув от этого полемического запала к концу статьи, Фет говорит там уже следующее: "Преднамеренно избегнув, в начале заметок, вопроса о нравственном значении художественной деятельности, мы теперь сошлемся только на критическую статью редактора "Библиотеки для чтения" в октябрьской книжке 1858 года: "Очерк истории русской поэзии". В конце статьи в особенности ясно, спокойно и благородно указано на высокое это значение". Таким путем-отсылкой к статье близкого ему критика А. Дружинина — Фет дает понять, что "нравственное значение художественной деятельности" есть вопрос для него отнюдь не безразличный; но в своей статье он сосредоточивается на вопросах философии искусства, психологии творчества и поэтического мастерства.
Статья "О стихотворениях Ф. Тютчева" содержит и тонкие оценки конкретных поэтических текстов, и ценные суждения о специфике "поэтической мысли", о "созерцательной силе" поэта и т. д. Остановимся специально лишь на одном месте статьи, где Фет говорит о природе лиризма: "Все живое состоит из противоположностей; момент их гармонического соединения неуловим, и лиризм, этот цвет и вершина жизни, по своей сущности, навсегда останется тайной. Лирическая деятельность тоже требует крайне противоположных качеств, как, например, безумной, слепой отваги и величайшей осторожности (тончайшего чувства меры)". О лиризме сказано глубоко и сильно; но автору этого мало, он хочет максимально усилить свою мысль — и прибегает к следующему рискованному образу: "Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик". Над Фетом, "бросающимся с седьмого этажа", потешались уже не только противники, но и друзья его, множество раз обыгрывая эту его фразу. Фраза действительно производит впечатление довольно комичное; однако если в нее вдуматься, то открывается смысл весьма серьезный. Фраза эта явно связана с образом "безумного парения" — той особой силы, которая, по Фету, и помогает поэту прорвать плен "будничной действительности". Полагаем, что с приведенной фразой (имеющей явные признаки "автопортретности") можно поставить рядом другое высказывание Фета — уже прямо представляющее собою "автопортрет лирика": "Кто развернет мои стихи, увидит человека с помутившимися глазами, с безумными словами и пеной на устах бегущего по камням и терновникам в изорванном одеянии" (письмо к Я. Полонскому от 23 июня 1888 года). Понять смысл этой фразы можно лишь в том случае, если учесть, что Фет сравнивает себя с безумно-экстатическим поэтом-пророком, каким он представлялся античной эпохе (в предисловии к переводу "Превращений" Овидия Фет говорил о "ясновидении" как о том свойстве, "которое привело древних к смешению понятия поэта и пророка в одном и том же слове vates). Платон писал в диалоге "Ион": "Так и Муза — сама делает вдохновенными одних, а от этих тянется цепь других, одержимых божественным вдохновением. Все хорошие эпические поэты слагают свои прекрасные поэмы не благодаря искусству, а лишь в состоянии вдохновения и одержимости; точно так и хорошие мелические поэты: подобно тому как корибанты пляшут в исступлении, так и они в исступлении творят эти свои прекрасные песнопения; ими овладевают гармония и ритм, и они становятся вакхантами и одержимыми" {Платон. Соч. в 3-х томах, т. I. M., 1968, с. 138.}.
В этом же месте у Платона о поэтах сказано и так: "Говорят же нам поэты, что они летают, как пчелы, и приносят нам свои песни, собранные у медоносных источников в садах и рощах Муз. И они говорят правду: поэт — это существо легкое, крылатое и священное; и он может творить лишь тогда, когда сделается вдохновенным и исступленным..." {Платон. Соч. в 3-х томах, т. I, с. 138.} Можно лишь поражаться тому, насколько "цветение красоты" и "мед поэзии" — для Фета реальные вещи, насколько естественно для него сравнение поэта с пчелой; косвенные подтверждения этого можно найти в той же статье "О стихотворениях Ф. Тютчева" и прямые — в стихах самого Фета:
Роями поднялись крылатые мечты
В весне кругом себя искать душистой пищи...
Подобные мотивы нам хорошо знакомы у раннего Фета — но это написано в 1880-е годы, в эпоху "Вечерних Огней": поэт состарился, но его "пчелиный инстинкт" все так же могуч, все так же влечет его священная красота розы и всепобедная красота женщины. Если когда-то это влечение породило легкие, танцующие строки стихотворения "Роза", то теперь старик Фет изливает свою страсть в строках, звучащих с органной мощью:
Моего тот безумства желал, кто смежал
Этой розы завои, и блестки, и росы;
Моего тот безумства желал, кто свивал
Эти тяжким узлом набежавшие косы.
Злая старость хотя бы всю радость взяла,
А душа моя так же пред самым закатом
Прилетала б со стоном сюда, как пчела,
Охмелеть, упиваясь таким ароматом...
Это стихотворение, написанное 25 апреля 1887 года, Фет поместил в третий выпуск своих "Вечерних Огней" (вышедший в 1888 году); этот выпуск поэт открыл предисловием, которое представляет собой последнее по времени литературно-эстетическое выступление Фета. В последний раз прозвучала здесь ключевая тема фетовской эстетики — тема "борьбы искусства с будничной жизнью": "Конечно, никто не предположит, чтобы в отличие от всех людей мы одни не чувствовали... неизбежной тягости будничной жизни... <...> эти-то жизненные тяготы и заставляли нас в течение пятидесяти лет по временам отворачиваться от них и пробивать будничный лед, чтобы хотя бы на мгновение вздохнуть чистым и свободным воздухом поэзии".
Кроме рассказов и литературно-эстетических работ, Фет-прозаик опубликовал в 1856-1857 годах три путевых очерка, посвященных его заграничным впечатлениям. Известны также фетовские опыты в жанре философского этюда ("Послесловие" к переводу книги Шопенгауэра "Мир как воля и представление"; статья "О поцелуе"). Наконец, перу Фета принадлежат две обширные мемуарные книги: "Мои воспоминания" (ч. I-II, М., 1890) и "Ранние годы моей жизни" (М., 1893).
Таким образом, на протяжении нескольких десятилетий поэт Фет многократно представал перед читателями автором разнообразных прозаических сочинений. Однако не будет преувеличением сказать, что для современников Фет-прозаик был прежде всего публицистом: его деревенские очерки, на протяжении девяти лет печатавшиеся в русских журналах ("Русский вестник", "Литературная библиотека", "Заря"), решительно заслонили в восприятии современников всю прочую прозу Фета. Именно под влиянием этих очерков сложилась в русском обществе прочная репутация Фета как "крепостника и реакционера"; кроме того, эти очерки были прямо связаны с практической сельскохозяйственной деятельностью Фета, которая дала ему весомое социальное и общественное положение и способствовала тому, что он наконец вернул себе фамилию Шеншина (26 декабря 1873 года Александр II дал указ сенату о присоединении Фета к "роду отца его Шеншина со всеми правами, званию и роду его принадлежащими"). В результате в представлении многих русских читателей "прозаик Шеншин" (хотя деревенские очерки и печатались под фамилией "Фет") оказался негативной стороной, антиподом "лирика Фета", что с афористической законченностью высказал поэт А. Жемчужников в стихотворении 1892 года "Памяти Шеншина-Фета":
Искупят прозу Шеншина
Стихи пленительные Фета.
"Проза Шеншина" — это пятьдесят один очерк: вместе они составляют целую книгу, которая по своей "весомости" среди прозаических созданий этого автора не уступает его мемуарам и столь же существенна как материал для изучения личности Фета и его биографии в 1860-1870-е годы. Эти очерки, однако, никогда не переиздавались; в настоящем издании мы также не имеем возможности поместить хотя бы некоторые образцы фетовской публицистики. Но жизнь Фета нельзя правильно понять без его "фермерского периода" (об этом говорит и полушутливая самохарактеристика поэта: "солдат, коннозаводчик, поэт и переводчик"), — равно как его личность и мировоззрение — без "деревенских очерков": поэтому так необходим их хотя бы краткий обзор {Следует отметить, что в 1860-1890-е годы в различных журналах и газетах было напечатано — за подписью и "А. Фет", и "А. Шеншин" — почти два десятка небольших статей и заметок хозяйственного и юридического характера; но капитальное сочинение Фета-публициста одно — деревенские очерки. Они печатались под двумя названиями в следующем порядке: "Записки о вольнонаемном труде". — "Русский вестник", 1862, No 3, 5; "Из деревни". — "Русский вестник", 1863, No 1, 3; "Русский вестник", 1864, No 4; "Литературная библиотека", 1868, No 2; "Заря", 1871, No 6.}.
Говоря о своем решении обратиться к сельскохозяйственной деятельности, Фет в начале своих "записок о вольнонаемном труде" ограничивается лишь следующим объяснением: "Года за три еще до манифеста бездеятельная и дорогая городская жизнь стала сильно надоедать <...> Мне пришла мысль купить клочок земли и заняться на нем сельским хозяйством". Много позже, в "Моих воспоминаниях", Фет называет причину уже более определенно: "... убеждение в невозможности находить материальную опору в литературной деятельности..." И уже совершенно конкретное событие названо в письме ближайшего друга Фета И. Борисова к Тургеневу от 12 октября 1861 года: "... все это наделала статья "Современника". С того дня, как прочел — он бросился из литературы в фермерство, — это истина верная" {"Тургеневский сборник", в. IV. Л., 1968, с. 383.}. Это была издевательская по тону, "разгромная" статья Д. Михаловского "Шекспир в переводе г. Фета" ("Современник", 1859, No 6), направленная не только против Фета-переводчика, но и против всех тех эстетических принципов, которые только что во всеуслышание декларировал Фет в своей статье "О стихотворениях Ф. Тютчева". Однако И. Борисов называет (в письме за границу Тургеневу от 28 октября 1863 года) еще одну причину отказа поэта от литературной деятельности — и причина эта гораздо более существенна, чем "антифетовский" выпад "Современника": "Вы и представить себе не можете, до какой степени изменился воздух в общей жизни, — старому Фету — прежнему, не фермеру, и дохнуть бы теперь нечем было..." {"Тургеневский сборник", в. III. Л., 1967, с. 352.} Действительно, "воздух жизни" изменился очень сильно: наступала новая эпоха — "шестидесятых годов", принесшая с собой не только коренные социальные изменения, но и совершенно новые умонастроения, идейные веяния и вкусы. Девизом времени были слова: "польза", "дело", "практика"; нельзя не видеть, что статья "Современника" (равно как и предшествовавшее ей выступление Фета в защиту "чистой поэзии") — порождение этого "духа времени"; но вместе с тем нельзя не признать, насколько по-своему отвечал этому же "духу времени" последовавший затем жизненный поступок Фета: ведь поэт оставил область "изящной словесности" ради "практического дела". Этот шаг для Фета, находившегося в состоянии тяжелейшей хандры и депрессии, был спасительным; недаром В. Боткин, получив от Фета первые письменные извещения о ходе "дела", писал ему: "Одно уже краткое описание начатых и предполагаемых работ произвело на меня отраднейшее впечатление: в этой борьбе с природой и с практикой есть что-то освежающее душу" {MB, I, с. 352.}. Тот же В. Боткин не сомневался в успехе предприятия: "А ты, Фет, я думаю, можешь быть хорошим хозяином при твоем практическом смысле". Но может быть, наиболее важными были для Фета слова одобрения и поддержки, сказанные его другом-писателем еще раньше него оставившим литературу ради "сельского дела". "Вашей хозяйственной деятельности я не нарадуюсь, когда слышу и думаю про нее. И немножко горжусь, что и я хоть немного содействовал ей", — писал Л. Толстой 12 мая 1861 года своему приятелю, называвшему себя "упраздненным сочинителем" {Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями, т. I. M., 1978, с. 348 (в дальнейшем ссылка на это издание дается сокращенно: Переписка, страница).}. Сельскохозяйственный сезон 1861 года Фет провел уже на "своей земле" — на юго-западной окраине Мценского уезда, среди голой степи он купил хутор Степановку: двести десятин отличной черноземной пахотной земли, новый скотный двор и недостроенный дом в семь комнат под соломенной крышей — вот то, с чего начинал "фермер Фет" {О современном состоянии Степановки, где Фет провел семнадцать лет своей жизни, см. в кн.: Н. Чернов. Орловские литературные места. Тула, 1970.}.
Кажется, есть необходимость напомнить об одной существенной разнице между двумя сельскими хозяевами — Толстым и Фетом: первый, столбовой дворянин, работал в своей наследственной усадьбе; тогда как второй (лишившийся с юности родовой фамилии, дворянских прав и никогда не владевший даже самым захудалым наследственным поместьем) должен был выступать в роли "вольного предпринимателя", фермера. Может быть, поэтому так настойчиво подчеркивал Фет в деревенских очерках свое отношение к отмене крепостного права и вольнонаемному труду: "Насколько мы понимаем дух крестьянской реформы, она должна разрешить два вопроса: эмансипацию личности и эмансипацию труда, что почти одно и то же. ... вольнонаемный труд является логическим последствием и конечною целью реформы, о которой, во избежании недоразумений, скажем раз навсегда, что мы ей и в принципе, и во всех проявлениях по сей день — глубоко сочувствуем"; "Заподазривать меня в пристрастии к старому порядку или в антипатии к вольному труду нельзя. Я сам добровольно употребил на это дело свой капитал и бьюсь второй год лично над этим делом". Сельская деятельность Фета была не "поэтической блажью", не "игрой в помещика", а серьезным жизненным делом, направленным к практическому результату: "Я хотел, хотя на малом пространстве, сделать что-либо действительно дельное". Один из фетовских очерков назывался строкой из Грибоедова: "Деревня летом — рай", и вот что писал здесь хозяин Степановки: "Хотя земной рай вещь субъективная и относительная, тем не менее смысл грибоедовского полустишия ясен. Автор указывает на созерцательное спокойствие духа, вызываемое материальным довольством, не возмущаемым безмерными требованиями столичной жизни. Всего необходимого в изобилии. Приходит оно в руки само собою. Наслаждайся природой, чтением, охотой. Если ты работал в городе, отдохни летом в беспечном бездействии, а если в городе ничего не делал, продолжай это занятие более дешевым способом в деревне. Таков был для большинства землевладельцев идеальный деревенский рай. Нечего говорить, что подобное положение неминуемо вело за собой беспомощную скуку и апатию, ставившую себе противуположный идеал городской суеты и гоньбы за всевозможными призраками. Таков был идеал деревенской жизни до освобождения крестьян. Но прилагать его в настоящее время к сельскому быту — значит не иметь о последнем ни малейшего понятия. <...> ...признаем несомненный факт, что рай праздной лени, поэтической обломовщины менее всего осуществим в деревенской тишине, если живешь в ней не гостем, а деятелем".
Итак, степановский фермер приступает к делу: "... вольный земледельческий труд только и может рассчитывать на возможноулучшенный и высший способ хозяйства". Вольнонаемный рабочий-- новый тип труженика, главная надежда земледельческого дела — "единственного источника нашего народного благосостояния". Фет чрезвычайно озабочен, прежде всего, установлением принципов своих отношений с рабочими — на основании справедливости, разумности и взаимной обязательности: "... я на первый раз не столько заботился отыскать для себя материальную, сколько моральную исходную точку. ... прежде всего, мне нужно было определить мои отношения к рабочим. Там, где нет дружбы, признательности и т. п., отношения должны основываться на справедливости, а в деле обязательств справедливость состоит в добросовестном их исполнении. Нанимая рабочего, я обязуюсь его тепло поместить, сытно кормить здоровою пищей, не требовать работ свыше условия и исправно платить заработки". Но то, что представлялось таким легким в теории — оказалось чрезвычайно затруднительным на практике: Фет взялся за устройство фермы во время "хаотического брожения двух разнородных элементов земледельческого труда: крепостного и вольнонаемного" и скоро убедился, как мало вчерашние крепостные готовы к новым формам труда, как живуче в них все, что было худшего, развращающего в крепостной жизни. Несмотря на то что в своих отношениях с рабочими Фет старался держаться середины — "не допуская самоволия", но избегая придирок и понуканий, — однако зрелище недобросовестности, беззакония, нечестности, лени не могло оставить его равнодушным. Благодаря своей действительной озабоченности состоянием земледелия, с одной стороны, и вследствие стремления к "фотографической передаче фактов" — с другой, Фет наполняет свои деревенские очерки целой вереницей зарисовок "темных сторон нашей земледельческой жизни". Объясняя этот бросающийся в глаза крен своих деревенских очерков, Фет писал: "Я ничего не сочинял, а старался добросовестно передать лично пережитое, указать на те, часто непобедимые препятствия, с которыми приходится бороться при осуществлении самого скромного земледельческого идеала". Но в очерках Фета все-таки есть "светлые факты"; и может быть, самый характерный из них — история с солдатом-копачом Михайлой. Весной под фундаментом дома собралось много воды, грозившей серьезными неприятностями всему строению; ни сам хозяин, ни его рабочие не могли найти способа вывести воду. Призванный для совета копач Михаила очень быстро нашел решение — и Фет пишет: "Эта здравая и совершенно простая мысль, не пришедшая, однако же, никому из нас в голову, привела меня в восторг. <...> Никогда не забуду, как отрадно было мне среди тупого непонимания и нежелания понимать встретить самодеятельную усердную догадку".
Завершая в 1871 году свои очерки "Из деревни", Фет утверждал: "За последние 10 лет Россия прошла по пути развития больше, чем за любое полустолетие прежней жизни". Не стояла на месте и Степановка — за десять лет она превратилась в образцовое доходное хозяйство; более того — бывший хутор стал хорошо устроенной усадьбой со скромным, но уютным и комфортабельным домом, с прудом, садом (выращенным на пустом месте), с отличной подъездной дорогой на месте прежней непролазной колеи и т. д. Но что самое существенное — самого хозяина Степановки уже нельзя было назвать "фермером": пусть его социальный статус оставался все тем же — но и "внутреннее самочувствие", и характер его идей принадлежали не "фермерской" сфере. Это обстоятельство со всей отчетливостью сказалось в процессе появления деревенских очерков Фета, но угадать его можно было уже в самом факте обращения Фета к сельскохозяйственной деятельности. Как ни мало был он знаком с реальным положением дел в сельском хозяйстве, но все-таки не мог не знать, среди какого хаоса и трудностей ему придется действовать. И если все-таки Фет решился "закрепостить себя сельскому хозяйству" (по выражению одного старого критика) — то, значит, на это у него были серьезные внутренние причины. Чрезвычайно существенным представляется нам следующее соображение Б. Бухштаба: "При энергии и практических способностях Фета, при его родственных связях по жене с верхами московской буржуазии можно было, без сомнения, найти способы употребить деньги, полученные в приданое за женой, вернее и выгоднее. Но Фет хотел, по-видимому, прежде всего внутренней опоры, удовлетворяющего социального самоощущения" {Б. Я. Бухштаб. А. А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1974, с. 43.}.
Действительно, упорная борьба Фета за осуществление "земледельческого идеала" отнюдь не сводилась к "фермерской программе" нового, прогрессивного хозяйствования; деятельность Фета вдохновляла иная идея: среди катастрофического кризиса всей помещичьей жизни, оскудения и разорения дворянских усадеб, всеобщего убеждения в исчерпанности исторической роли дворянства как сословия — наперекор всему этому стремиться к осуществлению нового человеческого идеала земледельца: а таковым был для Фета среднепоместный дворянин. Фет, в сущности, стремился к тому, чего искали герои Тургенева и Толстого — Лаврецкий и Левин, но делал это по-своему.
В одном из деревенских очерков Фет писал: "Если переживаемый нами период может быть вернее всего охарактеризован задачей: делать все из ничего, то в земледельческой деревне, у корня всего государственного дерева, эта задача должна чувствоваться сильнее, чем где-либо. — Рук нет, людей нет". В своей критике всего, что, по его мнению, было "затруднением" и "препятствием" для развития земледельческого труда, Фет был независим и прям. Если его резкую антипатию вызывал "пьяный, нахальный, вечно хитрящий и между тем странно тупой и бестолковый мужик" (староста в очерке "Контракт"), то не щадил он и крупное, титулованное дворянство, которое "ничего не хочет знать, кроме минутной прихоти, хотя бы на последний грош". Последняя фраза — из письма Фета С. Толстой (см. в наст. томе письмо No 54), но в своих деревенских очерках он высказывается в том же духе: "... большинство крупных землевладельцев служит и потому поставлено в невозможность не только писать о собственном деле, но и разуметь его основательно. Нельзя требовать, чтобы человек и служил где-нибудь в Мадриде, и основательно следил за своим делом в Самаре. А если нельзя утверждать, что все крупные землевладельцы непременно на службе, то от этого не легче: они все-таки не живут по деревням, и волей-неволей плохие судьи в собственном деле". Это Фет говорит в очерке, который называется "Кому следует гласно обсуждать возникающие вопросы новой земледельческой деятельности" и из которого явствует, что хозяин Степановки делает ставку на среднего землевладельца-дворянина, который есть не только реальный деятель сельского хозяйства, но и воплощение культурного идеала "среднепоместного дворянина". Фет явно ориентирует и себя самого на этот идеал и в своих деревенских очерках развивает идеологию "среднего дворянина". Автор набрасывает портрет "среднего землевладельца", как он его себе представляет: "Я вижу его напрягающим последние умственные и физические силы, чтобы на заколебавшейся почве устоять, во имя просвещения, которое он желает сделать достоянием своих детей, и, наконец, во имя любви к своему делу. Вижу его устанавливающим и улаживающим новые машины и орудия, почти без всяких к тому средств; вижу его по целым дням перебегающим от барометра к спешным полевым работам, с лопатой в руках в саду и даже на скирде непосредственно наблюдающим за прочною и добросовестною кладкой ее; а в минуты отдыха — за книгою или журналом. Все это не выдумка праздной фантазии, а дело, на которое я могу вокруг себя указывать пальцами".
По глубочайшему убеждению Фета, влияние на народные массы, "народное воспитание" — одна из важнейших задач среднего дворянства: "...положительные нелицеприятные законы, внушающие к себе уважение и доверие, — только один из многих путей к народному воспитанию. Рядом с ним должны прокладываться и другие, для внесения в народные массы здравых понятий — взамен дикого, полуязыческого суеверия, тупой рутины и порочных тенденций. Лучшим, удобнейшим проводником на этих путях может, без сомнения, быть грамотность. Но не надо увлекаться и забывать, что она не более как проводник, а никак не цель. Говорите: нужно, во что бы то ни стало, воспитание; это главное. Нам стыдно уже поступать в этом деле так же опрометчиво, как поступали некогда невоспитанные и равнодушные родители, которые совали указку в руки первому пьяному пономарю или французскому кучеру". Продумывая систему народного воспитания, автор очерков приходит к выводу, что первоначальными воспитателями народа должны быть православные священники: христианство является — в представлении Фета — "высшим выражением человеческой нравственности и основано на трех главных деятелях: вере, надежде, любви. Первыми двумя оно обладает наравне с прочими религиями. ...зато любовь — исключительный дар христианства, и только ею галилеянин победил весь мир... И важна не та любовь, которая, как связующее начало, разлита во всей природе, а то духовное начало, которое составляет исключительный дар христианства". Одновременно Фет полемически упоминает недостатки семинарского образования, благодаря которым из семинарий вышли учителя современного "нигилизма". Это явление встречает самого непримиримого противника в лице Фета — идеолога "среднего дворянства"; объектом своей критики он избирает образ тургеневского Базарова. Защиту "прошедшего", охрану исторически сложившихся устоев национальной жизни от пагубных экспериментов Фет тоже возлагает на среднее дворянство.
Таким предстает в своих деревенских очерках Фет — идеолог "среднего дворянства". Зачем же мы так подробно на этом остановились? Только для того, чтобы понять реальное содержание его центрального публицистического труда и чтобы представить его реальный идеологический облик, с прошлого века и до сих пор заслоненный случайными полемическими ярлыками, вроде того что Фет "воспел сладость крепостного состояния в России". Нужно ли доказывать, что "крепостником" Фет никогда не был — и быть им не мог? Если уж искать название для его далеко не прогрессивной идеологии, то скорее всего ее следует назвать почвенническим консерватизмом. У автора очерков "Из деревни" было немало единомышленников (И. Борисов писал Тургеневу 22 июня 1864 года: "Фет из деревни продолжает, и круг его читателей и почитателей гораздо шире, чем у поэта"), но, конечно, еще больше было противников. Нельзя, правда, не подивиться тому обстоятельству, что ни один из них не выступил с обстоятельной критикой его идеологической системы; дело ограничилось в буквальном смысле двумя эпизодами, которые, действительно, не украшают фетовские деревенские очерки. Появление обоих этих эпизодов порождено двумя обстоятельствами: во-первых, болезненным пристрастием Фета к теме "законности", а во-вторых, его "фотографическим" способом фиксации жизненного материала, при котором важное и значительное оказывалось перемешанным с мелким и даже мелочным. Ничего удивительного, что среди очерков "Из деревни", появившихся в 1863 году, оказалось два ("Равенство перед законом" и "Гуси с гусенятами"), где Фет с мелочной подробностью описывает свою не менее мелочную тяжбу с работником Семеном (досрочно уволенным за нерадивость, но не выплатившим часть взятого задатка) и владельцами гусей, совершивших потраву на его поле. Поэты-сатирики "Искры" многократно обыграли оба этих эпизода; не обошел их и Писарев, в очередной раз выступивший против Фета в статье "Нерешенный вопрос" ("Реалисты"): "Вы не думайте, господа, что свистящая журналистика ухватилась так крепко за работника Семена по ребяческому пристрастию к бесплодному зубоскальству. Работник Семен — лицо замечательное. Он непременно войдет в историю русской литературы, потому что ему назначено было провидением показать нам обратную сторону медали в самом яром представлении томной лирики. Благодаря работнику Семену мы увидели в нежном поэте, порхающем с цветка на цветок, расчетливого хозяина, солидного bourgeois и мелкого человека. Тогда мы задумались над этим фактом и быстро убедились в том, что тут нет ничего случайного" {Д. И. Писарев. Соч. в 4-х томах, т. 3. М., 1956, с. 96.}. "Разоблачение" Фета Писаревым носит гротескно-полемический характер — равно как и утверждение критика о том, что издания Фета пойдут со временем "для завертывания сальных свечей, мещерского сыра и копченой рыбы", но мимо одного обстоятельства нельзя пройти: констатации несомненной связи между Фетом-лириком и Фетом — сельским хозяином. Если эту связь рассмотреть не с целями "разоблачительства", а со стороны существа дела — то перед нами откроется исключительно важная проблема единства личности Фета.
Не представляет труда назвать ту почву, на которой существует это единство, — "Фета" и "Шеншина", "лирика" и "прозаика": имя этой почвы — русская дворянская усадьба. Об этой почве неоднократно говорилось в самых разных работах, посвященных поэту, равно как и многократно отмечалось единство "Фета" и "Шеншина": "Хватанье за устои" Фета-политика — "глубоко принципиально..."; оно закономерно для того, кто ощущал усадьбу как живую культурную силу"; {Ю. А. Никольский. История одной дружбы. Фет и Полонский. — "Русская мысль", 1917, No 5, с. 120, 122.} "...можно прямо сказать, что на Афанасии Афанасьевиче до конца были ясно видны два отпечатка: старого помещичьего быта, с его тонкою общительностью и изяществом жизни, и военной службы николаевских времен, с ее строгим пониманием власти и обязанности"; {Н. Н. Страхов. А. А. Фет. Биографический очерк. — В кн.: "Полн. собр. стихотворений А. А. Фета". Под редакцией Б. В. Никольского. Изд. 2-е, т. I. СПб., 1910, с. XXXI.} "...источник этой поэзии... — в том складе старинного барского быта, который уже погиб и ожил лишь у наших поэтов, где передана поэзия этого быта, т. е. то вечное, что было в нем" {Ю. Н. Елагин. Поэзия Фета. — "Русский вестник", 1893, No 3.} Так говорили старые критики; а вот мнение советского литературоведа: "Творчество Фета связано с усадебно-дворянским миром" (Б. Михайловский. Фет. — "Литературная энциклопедия", т. 11. М.-Л., 1939, с. 705). И если эта тема все еще не разработана в "фетоведении", если она недооценивается или игнорируется — то причина этого, скорее всего, в том, что еще не создана история русской усадьбы как культурно-исторического феномена; мы знаем лишь помещичью усадьбу как элемент социально-экономической истории России. Однако появление таких работ, как альбом "...В окрестностях Москвы. Из истории русской усадебной культуры XVII-XIX веков" (М., "Искусство", 1979), позволяет надеяться, что этот пробел будет восполнен не только в искусствоведении, но и в истории русской литературы, где появятся специальные работы, выявляющие роль усадьбы в становлении мировоззрения, формировании эстетических представлений и развитии художественного вкуса — Державина и Карамзина, Жуковского и Пушкина, Толстого и Тургенева, Блока и Бунина. Что такое русская дворянская усадьба с точки зрения духовно-эстетической? Это — "дом" и "сад", устроенные на лоне природы: когда "человеческое" едино с "природным" в глубочайшей органичности роста, цветения и обновления, а "природное" не дичится облагораживающего культурного возделывания человеком; когда поэзия родной природы развивает душу рука об руку с красотой изящных искусств, а под крышей усадебного дома не иссякает особая лирика домашнего быта, живущего в смене деятельного труда и праздничного веселья, радостной любви и чистого созерцания. Воспользовавшись словами одного из авторов названного выше альбома — В. Турчина, — скажем так: усадьба — это "идеальный мир природы, жизни и искусства".
Но вернемся к Фету — хозяину Степановки и автору очерков "Из деревни". Смысл всей этой истории состоит в том, что "хутор" превратился в "усадьбу", а "фермер" — в "дворянина" и идеолога "среднего дворянства"; то есть Фет (выросший в дворянской усадьбе и обязанный ей как почве, взрастившей его лирический дар), напором новой эпохи заставленный уйти от "поэзии" — к "практике", в конце концов вернулся к собственной же усадебной сущности — только уже с другой стороны. Устойчивость и специфика "усадебной закваски" Фета чрезвычайно сильно сказались в его деревенских очерках. Вспомним, что "рай праздной лени, поэтической обломовщины" дореформенной усадьбы вызывал критическое отношение Фета; это неудивительно, ибо он же писал: "...идеал всякого живого организма в будущем, а не в прошедшем. Поэтому-то нам и не нужно ни общинного владения, ни крепостного права". Но в старой, прежней усадьбе есть для Фета ценности непреходящие. Вот его рассказ о том, как его сосед и родственник Шеншин (который сохранил с крестьянами барщинные отношения) послал в помощь Фету свой обоз: "Нельзя себе представить более стройную картину сельского труда. Лошади у всех мужиков исправные, а у многих превосходной породы, от господских лошадей. Я насчитал сто подвод, и вся эта сильная стройная вереница потянулась к сараю. Кто не понимает наслаждения стройностью, в чем бы она ни проявлялась: в движениях хорошо выдержанного и обученного войска, в совокупных ли усилиях бурлаков, тянущих бечеву под рассчитанно-однообразные звуки "ивушки", тот не поймет и значения Амфиона, создавшего Фивы звуками лиры".
Кажется, именно это место фетовских деревенских очерков и дало повод его противникам говорить, что он "воспел сладость крепостного состояния в России"; доказывать предвзятость такого вывода вряд ли нужно, но зато следует отметить тот особенный критерий, которым выделяет Фет ценности прежней усадьбы и который в нем самом воспитан этой же усадебной почвой; критерий этот можно было бы определить как эстетику жизни: в данном случае он означает, что красота и порядок, сила и стройность составляют неразделимое целое.
Нельзя не привести еще одной — хотя и весьма обширной — выдержки из "деревенской прозы" Фета, ибо речь идет о кульминационном месте его очерков, где, как в высшей точке, соединяются: и апология "среднего дворянина", и утверждение усадьбы "как живой культурной силы" (по выражению Ю. Никольского), и торжество универсального фетовского критерия "эстетики жизни". Приводимое размышление Фета находится в очерке, озаглавленном "Значение средних землевладельцев в деле общего прогресса": "...при въезде в усадьбу небогатого, но мало-мальски образованного помещика, материальным средствам которого не позавидует и самый скромный горожанин, — при въезде в подобную усадьбу я каждый раз не могу подавить в себе невольно чувства недоверия к действительности. Мне все кажется, что я все это во сне вижу. Наш брат, ружейный охотник, которому приходится за лето изъездить до 1000 верст по всем возможным проселкам и закоулкам, останавливаясь где попало, поймет это лучше всякого. Куда бы вас, кроме помещичьего дома, ни закинула судьба на ночлег, вы везде мученик. Всюду одно и то же: Духота, зловоние самое разнообразное и убийственное, мухи, блохи, клопы, комары, ни признака человеческой постели, нечистота, доходящая до величия, ни за какие деньги чистого куска чего бы то ни было. Всюду дует и течет, и ни малейшей попытки принять против этого меры. Страшный зной, и никакой потребности посадить под окном деревцо. Совершенное отсутствие чувства красоты, ни одного цветка, и если на огороде красуются подсолнухи, то единственно затем, чтоб осенью можно было щелкать его семечки. Вы скажете: бедность. Но почему же в уездных городах, у зажиточных людей, осушающих по нескольку самоваров в день, — то же самое? Тот же разительный запах прогорклого деревянного масла и невычищенной квашни, та же невозможность достать чистой посуды или пищи, за исключением вечных яиц. Проездив неделю таким образом, вы и сами убеждаетесь в невозможности достать здесь или завести что-либо порядочное. Нет, — думаете вы, — нужна еще тысяча лет, — и с этими мыслями вдруг въезжаете в помещичью, хотя и соломой крытую, усадьбу. Все зелено и приветливо. Видно, что здесь, на степи, дорожат каждой веткой. Там старые ивы нагнулись над прудом, здесь молодые тополи вперегонку тянутся вверх, а в сторонке где-нибудь виден древесный питомничек. Перед балкончиком пестрый партер, и всюду чистые дорожки, по которым ежедневная утренняя роса не мочит ног и не портит обуви. Вы входите в дом: насекомых нет, зловония нет; все чисто, все прибрано к месту. Вас встречают небогато, но мило одетая хозяйка; фортепиано и ноты показывают, что она, худо ли, хорошо ли, играет. Между тем хозяин, загорелый и усталый, возвращается с работ. Стол накрывают чистейшей скатертью, — гордость домовитой хозяйки. Суп без всяких убийственных запахов и — о роскошь! — кусок сочного ростбифа со стаканом хорошего вина. Может быть, этого вина и не большой запас, но оно есть, и радушно предлагается гостю. Вечером вы засыпаете на мягкой свежей постели. Разве это не волшебство? Утром вам предлагают до подставы хотя старомодный, но все-таки покойный экипаж; хомуты целы и смазаны. Мы берем в пример небогатых помещиков. Правда, все виденное вами стоило хозяевам неимоверных хлопот и усилий. Хозяйка, быть может, не только не в состоянии выписывать арбузов из Милютиных лавок, а даже купить цветочных семян для своего партера. Но у нее есть добрые соседки, и она им скажет: "берите у меня сколько угодно семян резеды и корней георгин, я в нынешнем году отвела множество отводков, а мне одолжите астр". Одним словом, вы слышите тут присутствие чувства красоты, без которого жизнь сводится на кормление гончих в душно-зловонной псарне".
Еще две — наконец последние — цитаты из деревенских очерков Фета. Первая из них говорит о том, что в своих цивилизаторских устремлениях Фет помнит и о жертвах, приносимых этому процессу; он с сочувствием приводит слова одного своего знакомого помещика: "Никто более нас с вами не способен оценить блага нового жизненного строя, блага цивилизации. Но, воля ваша, нельзя подчас не пожалеть о многом хорошем, первобытном, могучем, ежедневно смываемом набегающей волной этой цивилизации". Другая цитата относится к фетовской философии искусства; критикуя ремесленно-тенденциозную поделку художника Шервуда, Фет говорит: "Задачей художника, очевидно, не было создать картину, требующую, как всякое произведение свободного искусства, уловления момента, самобытно играющего собственною жизнию". Обе приведенные цитаты по-своему дополняют и идеологию среднепоместного "консервативного почвенничества", развиваемую Фетом в его центральном публицистическом труде, и тот принцип "эстетики жизни", который оказывается таким направляющим для его практической деятельности.
Завершая обзор деревенских очерков Фета — без чего наше представление о личности поэта было бы явно односторонним, — необходимо вернуться к началу этого обзора и сделать существенную поправку к приведенному двустишию А. Жемчужникова: стихам Фета незачем "искупать" прозу Шеншина — ибо это неразделимые стороны одного и того же явления русской культуры и искусства второй половины XIX века.