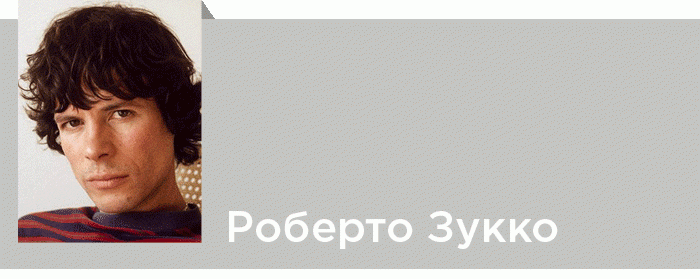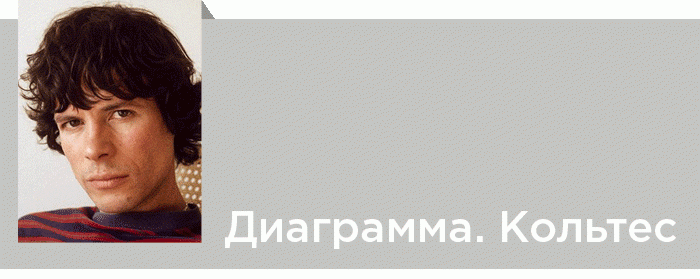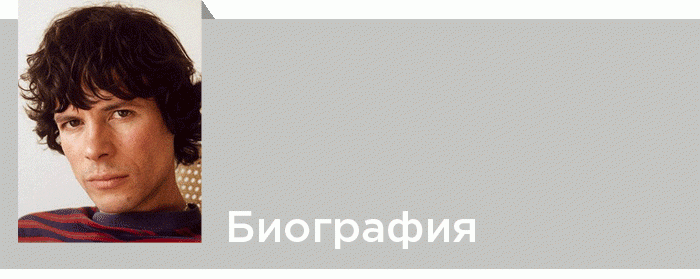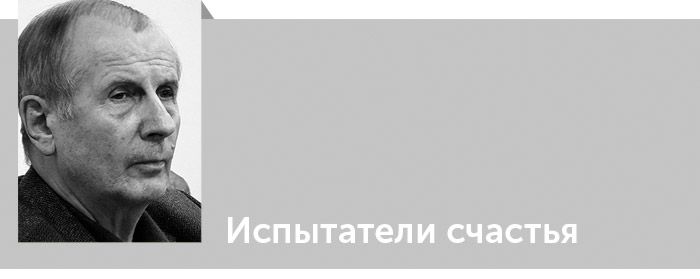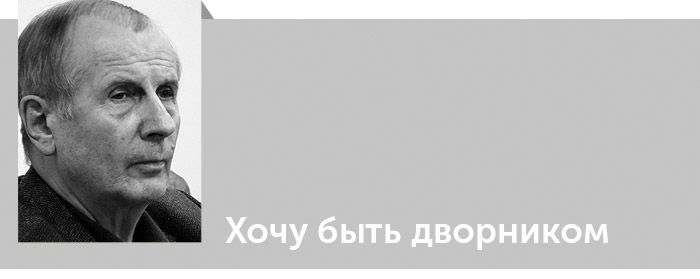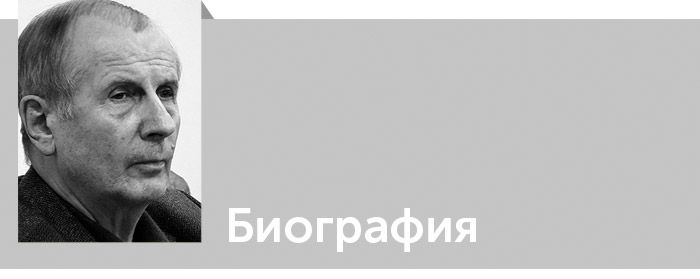Михаил Веллер и нигилизм
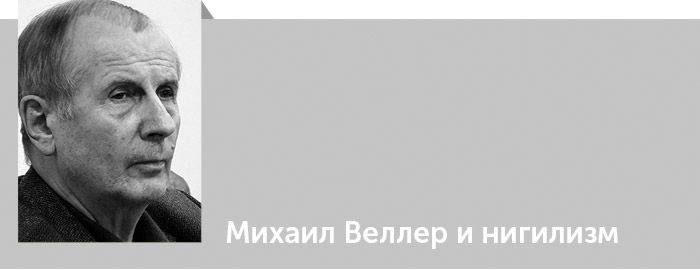
Памяти великого Виктора Васильевича Авилова посвящается
«Стоит ли иметь много детей, если
сыновья рождаются в киверах и
лосинах, а дочери с личиками вдов?».
Булат Окуджава. «Свидание с
Бонапртом».
«Прямым вовек не станет путь планет.
Число светил доступно звездочёту,
Но то, чего на этом свете нет,
Не поддаётся ни какому счёту!»
Герман Плисецкий. Вольный пере-
вод книги Экклизиаста.
«Этот космос, тот же самый для всех,
не создал никто ни из богов иль людей,
но он всегда был, есть и будет вечно
живым огнём — мерою разгора-
ющимся и мерою угасающим».
Гераклит Эфесский, фрагмент 30-й.
Адольф Гитлер говорил, что из социал-демократа никогда не получится хороший национал-социалист, а из коммуниста — получится. И действительно, ни социал-демократия, ни либерализм, ни, тем более, анархизм не являются наиболее полными приложениями в сфере политики двух магистральных направлений немецкой философской мысли — этого максимального выполнения всей метафизики нового времени — неподвижно-метафизического Волюнтаризма Шопенгауэра и диалектического Эволюционизма Гегеля. Таковыми приложеньями могут быть по справедливости признанны только марксизм большевистского толка и национал-социализм поскольку, как точно заметил Маркс, «философы прошлого лишь по-разному объясняли мір; дело же состоит в том, чтоб изменить его», а максимальное изменение среды может быть осуществлено лишь с привлечением системы государства.
Из лекции Михаила Веллера «О смысле государства», прочитанной на социологическом факультете МГУ в 2006 году:
«Государство — это форма организации социальной материи, обеспечивающая максимальный энергетический потенциал данной совокупной биологической массы этой материи. Государство обеспечивает максимальную производительность своих граждан. Государство — такая форма организации больших людских масс, когда они делают максимум возможного. Государство — наиболее структурированная форма социальной материи, наиболее упорядоченная. То есть — отстоящая дальше всего от хаоса (...) максимально энергосодержащая.
Но с точки зрения социологии (...) такое определение несколько из другой оперы. И тогда мы попробуем сказать так:
Государство — это объективная форма самообразования общества, выраженная в надличной и надобщественной системе социальных институтов, реализующих максимальную координацию общества и максимальную эффективность совокупной общественной деятельности через силовое, экономическое и идеологическое принуждение к исполнению установленных государством законов, регламентирующих права и обязанности граждан на территории государства».
Именно в виду максимальной эффективности системы государства, Гегель считает государство пределом самопознания абсолютного Ума, поскольку действительность (Wörklichkeit) этого предела состоит в обладании всеми своими возможностями только как своими, без привлечения чего-либо внешнего. При этом сам Гегель выступает в качестве первого по времени орудия достижения этого предела для государства нового типа, т. е. использующего преимущественно экономическое принуждение — государства сперва буржуазного, а потом социалистического. «Государственное общество — говорит Гегель — (...) выступает в общем и целом не столько как общество, состоящее из индивидов, сколько как внутри себя единый индивидуальный народный ум (der völkischer Geist)». «[Всякому же] уму — утверждает он в другом месте — свойственно иметь центр в себе, его единство не вне его, он нашёл его в себе, он в себе и у себя. Субстанция материи находится вне её, ум есть У-Себя-Бытие. Именно это есть свобода, потому что если я являюсь зависимым, то я отношу себя к чему-то другому, чем я не являюсь; я не могу без чего-то внешнего; я свободен тогда, когда я есть У-Самого-Себя. (...) Самопознание: это У-Себя-Бытие ума есть самосознание, сознание самого себя».
Однако, как будет показано мною чуть далее, определение системы государства в качестве именно народного ума, истинно лишь при условии соблюдения в данном обществе минимальной справедливости.
Всякое отрицание необходимости государства в качестве связующего звена между индивидом и непрерывно прогрессирующими в своём развитии средствами производства неминуемо приводит к торжеству субъективизма в познании и индивидуалистического эгоизма на практике, с их отрицанием действительной важности всего родового, надличного и национального. Именно к этому отрицанию пришло развитие социал-демократии и либерализма, но и без исторического опыта, закономерность этого отрицания явственно прочитывалась уже в итоге неудачного мысленного эксперимента Макса Штирнера с его «Единственным». Ибо освободившись ото всех привязанностей и обязанностей налагаемых обществом на индивида-Единственного, этот индивид оказался пуст, как торричеллиев шар. Скажу ещё резче: отбрыкивая, с упорством чёрта, спасающего свою шкуру от ладана, приставку «национал-», социализм неминуемо перерождается в космополитично-эгоистический анархизм самого отвратительного свойства!
Коммунизм и национал-социализм (т. е. наиболее последовательные попытки осуществить социализм на деле) потерпели историческое фиаско именно оттого, что, в условиях отсутствия математически сбалансированного плана развития огосударствлённого народного хозяйства, сделали основную ставку на Führerprinzip, чрезвычайку и казарму. Суть Führerprinzip'а в том, что вопрос об истине, а равно и вопрос о профпригодности, не решается голосованием, а потому нет более неоспаримого права, чем право знающего и могущего вести за собой незнающих. Вести если не добровольно, то силою!
Однако, Führerprinzip, при том, что всякое разумное существо стремится именно к максимальным действиям, всегда чреват злодейством, будучи изнанкою-границею, инобытиём патофобии.
Смысл Свободы через понятие Справедливости я уже показал недавно:
«Справедливость, как необходимое условие долгой жизни, это — высшее проявление Свободы. Ведь Свобода это — всегда гибкость, да не всегда — твёрдость. Но в этом явлении своём жизнь всегда есть нечто узнаваемое и потому, предсказуемое. Итак, живое отличается от не-живого прежде всего тем, что живое свободно, т. е. энергоизбыточно в структурном отношении. А будучи предсказуемой, жизнь, по меткому выражению Герцена, всегда беременна разумом, как наилучшим орудием выполнения справедливости в долгосрочной перспективе. Ведь в міре не происходит ничего долговечного, что не было бы допущено соответствующим смыслом-эйдосом, а, следовательно, разум предшествует жизни по смыслу. жизнь суть предикат Души, а (...) Душа пребывает в Уме, но не Ум — в Душе. Так же и на следующей ступени пирамиды категорий: не Свобода (т. е. Единая Міровая Воля) пребывает в Уме, но Ум — в Свободе. Ибо Ум, как некоторое математическое множество смыслов, необходимо должен быть отцентрован Справедливостью, т. е. таким распределением благ-действий, которое объективно устраивает большинство членов данного множества-сообщества. Иначе исчезнет автономия со-членов сего множества и членораздельность ума, а смыслы смешавшись друг с другом, образуют одно сплошное тесто. [Энергия (сила) такого множества в целом, соответственно, упадёт ниже некуда.]
С другой стороны, поскольку жизнь энергоизбыточна, а Міровая Воля, сама не будучи категорией, предшествует всем прочим категориям, — жизнь либо разорвёт железный обруч любого всеобъемлющего и сколь угодно подробного плана, либо покинет самый предмет плана, оставив его окоченелый труп на растерзание всем внешним воздействиям. И произойдёт это именно по причине всеобъемлющего характера плана. «Осчастливленный до упора в несчастье находит счастье своё, [ибо всякое] разумное существо нуждается в достижимом, но, сверх того, и в недостижимом!» — писал проницательный Станислав Лем. (...)
Разумное существо, в каком бы астрономическом количестве разновидностей оно ни существовало, всегда невольно или осознанно будет стремиться к [идеалу совершенной Справедливости и, потому, к равенству], поскольку всякий разум и, более того, всякая жизнь — энергоизбыточны, а стало быть, укоренены в жизни Вечной. Онтическое различие между жизнью и разумом состоит только в том, что жизнь для вмещения избытка энергии, нуждается в ещё не выполненном, но вообще-то выполнимом условии, т. е. в собственной цели, тогда как разуму для этого потребно именно то, что вообще не есть категория разума, т. е., ни коим образом не осуществимая, полная Свобода ото всех действительных условий, если не считать таким условием саму эту Свободу[1],
Следовательно, справедливость есть сохранение максимального объёма особенного частей в рамках действительно эффективного целого, где формою особенного выступает автономия. Эта автономия может быть утверждена лишь в процессе борьбы. Вот то главное, в чём сходятся Гегель и Ницше, а также большинство их последователей!
В своей «Феноменологии» Гегель пишет: «Индивид, который не рисковал жизнью, может быть, конечно, признан личностью, но истины этой признанности, как некоторого самостоятельного самосознания он не достигнет. Каждое [существо] должно в той же мере идти на смерть другого, в какой мере оно рискует своей [собственной] жизнью, ибо другое [существо] не имеет для него большего значения, чем оно само».
«Хаотичен мір людей, — словно бы продолжает мысль Гегеля Альфред Боймлер — когда они стремятся освободиться от Справедливости, которая лежит в основе вещей, когда они отрицают Волю к Власти. Нигилизм, хаос это неизбежное следствие веры в гармонию без борьбы, в порядок, лишённый противоречий. Подлинный порядок возникает из отношений, в которых есть господство и подчинение, которые порождает Воля к Власти. [Сравните с известным афоризмом о. Иоанна Кронштадтского: «Демократия в аду, а на Небе — Царство».] (...) Справедливость только там, где сила. Нет Справедливости без силы — и нет также подлинной силы без Справедливости. Только обладающий превосходством, только Господин в состоянии установить Справедливость, то есть установить меру, которой можно будет мерить и чем он могущественнее, тем дальше он может зайти в представлении свободы действия. И так мы читаем в записи [Ницше], относящейся ко времени создания «Воли к власти»: «Справедливость, как функция далеко взирающей силы, которая проглядывает над мелкими перспективами добра и зла, также имеет более широкий горизонт пользы — намерения обрести нечто что более, чем эта или та персона». Итак, Справедливость и сила состоят друг с другом в необходимой связи. Но чем другим может быть эта величайшая сила, иначе, чем силой целого? Справедливость это только другое слово для обозначения наличия этого целого, которое, чтобы быть во веки веков силой, сохраняется во веки веков в [состоянии подвижно́го] равновесия, и которая сохраняется в [таком] равновесии только для того, чтобы во веки веков быть вовлёченной в борьбу всех качеств. Итак, Воля к Власти это только другое обозначение Высочайшей Справедливости. Человек не познает, так как он обладает сознанием — сознание это только средство — но он познает, то есть он имеет отношение к целому, так как в нём Воля к Власти среди всех существ достигает кульминации, так как он в наибольшей степени приближается к Вечной Справедливости».
И ни коим образом Міровая Воля не была бы Полнотою Блага, если бы не полагала отправления Вечной Справедливости в качестве смысла всякого времени! Не даром же Плотин пишет в трактате «О провидении»: «Разве не заслуженно победят те, кто лучше подготовился и вооружился? Воистину, боги помогают тому, кто помогает сам себе. И в битвах одолеет сражающийся, а не молящийся, и здоровым будет тот, кто о своём здравии печётся. Кто пахал и сеял, тот и наполняет житницы: пусть он Гомера и не читал, да в поле — работал!».
Собственно время и есть внутреннее разграничение фаз борьбы, где благо одного зачастую вовсе не выступает благом для другого, при том, что и то, и другое сосуществуют в длении целого, будучи его необходимыми моментами.
И — если перевести изложенное на язык символов, столь любимый графом Эволой — в центре всегда вращающегося коловрата, как символа борьбы и вообще всего изменчивого, находится в качестве оси, ножка кубка с водою милости; на дне же того кубка выгравированы скрещённые серп и молот — символ предельной, никогда в вещественном міре недостижимой Справедливости в форме всеобщего равенства пред лицом полной Свободы.
В самом деле, равенство это — чуть ли не самое абсурдное, что только может вообразить здравый ум, т. е. ум, исходящий из объективных посылок.
Стремясь к справедливости, всякий волей-неволей стремится к равенству, поскольку очевидно, что справедливость есть та максима, пригодная в качестве всеобщего закона, о которой говорит Иммануил Кант во Второй формулировке Категорического императива. Ведь справедливость есть сохранение максимального объёма особенногго частей в рамках действительности целого, т. е. справедливость это — сохранение максимальной мощности целого, понятого как множество, превосходящее простую сумму своих частей-подмножеств, ввиду включения в него эйдоса особенного. Но ведь равенство-то есть эйдос энтропии, поскольку предполагает упразднение особенного в следствии постепенного притирания частей друг к другу, а точнее, друг об друга. То есть равенство предполагает стремление к минимуму силы конкретного множества!
Движение тут порождено центром, стремится к центру, но нигода не может отождествиться с ним, оставаясь при этом собою, т. е. оставаясь движением, а не покоем.
«И вечно делается шаг о римских цирков к Римской церкви». А если он делаться не будет, то будет утрачена сперва Справедливость, а потом и сама Свобода, как смысловая причина всякой жизни. Ибо тот, кто постоянно пренебрегает требованием милости, т. е. минимальной справедливости, никогда не щадя проигравшего сраженье и вообще всякого слабого — тот неминуемо утрачивает победоносную силу, так как Справедливость в конце концов полностью выпадает из его поля зрения. «Народ, почувствовавший себя избранным, движимый демоном призвания, не может остановиться в пути своём. Но его ждёт имманентная кара, если на пути своём он принуждён совершать слишком большие насилия, если несёт в мір слишком много горя и страданий» — совершенно точно подмечает Н. Бердяев в своём знаменитом письме «О войне».
Да, Саваоф Апокалипсиса говорит в начале Страшного Суда о борьбе и о Справедливости: «Победитель наследует всё. И буду ему Богом, и он будет мне Сыном». Однако непосредственно перед тем Он говорит о милости: «Аз есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника Воды Живой»!
Но даже при наличии математически выверенного плана, для его претворения в жизнь неминуемо потребуется руководитель-подрядчик (der Führer), и тут вступает в дело ограничение Führerprinzip'а патофобией как своим иным. А это значит, что в конце концов, даже при правильно выверенном плане, дело пойдёт по известному сценарию «это — больше, чем преступление; это — ошибка». Проще сказать, для выполнения программы-максимум необходим руководитель азартный до-нельзя, а такой неминуемо допустит перегибы в работе своей. Кроме того, Führerprinzip всегда полагает подрядчика совершенно автономным сувереном, который если и выполняет то, чего хотят многие, то лишь в качестве сильнейшего — единственно могущего выполнить это. Таким образом здесь наличествует персонификация общественной ответственности. Об этом довольно хорошо сказал Всеволоду Овчинникову в частной беседе один старый функционер китайской компартии. На вопрос, почему Китай и его коммунистическую верхушку, после смерти Мао Цзедуна, не постиг такой же всеобщий распад, какой постиг Советский Союз после смерти Брежнева, он ответил: «Великого Мао [Цзедуна] сменил великий Дэн Сяопин, великого Дэна Сяопина сменил великий Цзян Цземинь, ибо — тут взгляд старика прояснел, помолодев на какой-то миг — ...ибо такова воля Поднебесной!» — с нажимом закончил он фразу. «Я люблю человека, который с силой бросает слова о своих делах с тем, чтобы они достигли цели» — говорил о таких Ницше.
Но нельзя быть ответственным за неведомое, а ведь Свобода неотменимо полагает наличие неведомого. В полагании подрядчика полновластным сувереном социализм обретает великое моральное право, огромный творческий задор, но обретает также и всесветную гордыню! Ибо не в состоянии преодолеть неопределённость, всегда сопутствующую любой сколь-нибудь действительной степени Свободы. Неопределённостью же обычно, т. е. в быту, называется неведомое, если оно расположенно в будущем. Ну а неведомое будущее страшит любой здравый ум. Это и есть, собственно, «корень», основание патофобии. Иначе каким образом случается сплошь и рядом, что: «[поначалу] уменьшение страдания и увеличение беззаботности [бывает] естественной (...) целью общества и правителей, но потом [мало по-малу делается] единственной целью, а единственной основой закона — его извращение; и тогда, стремясь только к ним, неизбежно [огребают] их противоположности: максимум страдания и минимум беззаботности»? В силу этого, патофобия может быть охарактеризована как Воля к Безответственности.
Здесь, в решении вопроса о самой возможности тотального планированья народного хозяйства, крупнейший из национал-большевистских авторов, Михаил Веллер кладёт на обе лопатки большевика Анатолия Вассермана, который так и остался именно коммунистом, т. е. per se сторонником всеохватного госрегулированья. Ибо, при всех своих умонастроениях государственника и даже националиста, Вассеман так и не смог вполне отделаться от рационалистического и гуманистического антропоцентризма XIX века, со столь присущей классическому марксизму иллюзией, будто род человеческий, будучи вершиною эволюции мірозданья, должен в итоге исторического развития придти ко всеобщему счастью, обусловленному всеобщими же достатком и неподневольным характером обобществлённого труда.
Почему я назвал Михаила Иосифовича национал-большевистским автором? (Сам Михаил Веллер называет себя праворадикальным социал-демократом. Но это самоопределение оказывается на поверку весьма скользким и очевидно представляет собою эвфемизм, поскольку социал-демократические взгляды объективно никак не совместимы с оправданием Führerprinzip'а в сочетании с представлением о нации как о едином живом организме. И, главное, чего не допустит ни один подлинный социал-демократ и ни один марксист, первенство действия и в связи с этим, полагание невыполнимым счастья в философской антропологии. Зато эта самая установка, как никакая другая, присуща национал-социализму и вообще Философии Воли! «Не счастье, но действие начертал Третий Рейх на своих знамёнах» — сказал, заочно полемизируя с Фрейдом о последних основаниях человеческой деятельности, один видный германский психотерапевт и, по совместительству, штурмовик НСДАП с немалым партийным стажем).
Отвечу с ретроспективой в историю. Как Плотин дал, будучи последним великим философом уходящего античного міра, финальный синтез двух магистральных направлений греческой мысли: платонизма и аристотелизма, убрав остатки натурализма досократиков и атомистов, — так же и Веллер, будучи последним великим философом уходящего европейского міра, даёт финальный синтез двух основных направлений мысли немецкой: Волюнтаризма Шопенгауэра-Ницше и Эволюционизма Гегеля-Энгельса, одинаково безжалостно удалив и перехлёсты расовой теории, и последние остатки рацио- и антропоцентризма, снимая этим главное противоречие сих методов. В самом деле, энергоэволюционизм Веллера не говорит эпистемологически ничего такого, чего не было бы у непосредственных предшественников Веллера, философов-педагогов — убеждённого национал-социалиста Альфреда Боймлера (большого знатока Ницше) и не менее убеждённого коммуниста Эвальда Ильенкова (большого знатока Энгельса). Непосредственными же я назвал этих двоих в следующем смысле. «Раздели становление Гераклита на бытие Парменида — получишь [становление] Платона» — писал о смысловой сути платонизма в самом начале XIX века немецкий филолог Иоганн Гербард. Но точно также разделив развитие Ильенкова на единство энергии Боймлера — получишь энергоэволюцию Веллера. Незамедлительно! Вот, сравните сами:
Альфред Боймлер:
«Критикуя религию, [Ницше] критикует и церковников, показывая, что религия берёт начало во власти. Этим объясняются противоречия морали, основанной на христианской религии.
«Для обеспечения верховенства моральных ценностей необходимо учитывать все виды аморальных сил и страстей. Рост моральных ценностей является результатом действия аморальных страстей и соображений».
Следовательно, мораль производна от аморальности.
«Каким образом возвести добродетель в правило, ибо этот трактат — о великой политике добродетели?» Из этого следует, что «нельзя добиваться добродетели теми же средствами, которыми пользуются для установления любой власти».
«Человек будет поступать аморально, пытаясь насильственно утвердить мораль».
Ницше заменяет буржуазную философию морали на философию стремления к силе, т. е. на философию политики. Тем самым он стал апологетом «подсознательного». Но это не означает инстинктивности и неосознанных действий личности. Даже более того, «подсознательность» означает «совершенство» и «способность». Вместе с тем, она подразумевает жизнь как таковую.
Сознание — это только орудие, деталь жизни в целом. В противовес философии сознания Ницше выдвигает природное благородство. В течении тысячелетий мораль утомлённости жизнью противопоставлялась аристократизму силы и здоровья. Подобно национал-социализму, Ницше видел в государстве и обществе «великий мандат жизни», ответственный за любые недостатки в самой жизни.
«Человеческий род требует вымирания людей, плохо приспособленных к окружающим условиям, слабаков и дегенератов. Христианство же старается их поддержать».
В этом содержится основное противоречие: либо человек исходит из природных условий, либо как индивидуум предстаёт перед Богом. Идея демократического равенства происходит именно из [последней, христианской,] предпосылки. Первоначальное же условие является базовым для новой политики, созидающей государство на расовой основе. Новый порядок вещей вполне естественен. Именно такой порядок Ницше противопоставлял существующему. (...)
Никто не несёт ответственности за то, что он вообще есть, что он создан таким и таким-то, что он находится в этих обстоятельствах, в этом окружении. Фатальность этого существования нельзя отделять от фатальности всего того, что было и что будет. Это не следствие собственного намерения, воли, цели, с которым не делается попытка достичь идеал человека или идеал счастья, или идеал нравственности — это абсурдно, желать свести своё бытие к какой-либо цели. Нет критики бытия, так как это бы дало основание предполагать, что мы занимаем твёрдую позицию за пределами бытия, с которой мы можем его оценивать. Но в каждой оценке присутствует и само это бытие — говорим ли мы «Да» или «Нет» бытию, мы делаем всегда только то, чем мы являемся. Все оценки ценностей являются только следствиями и точками зрения на службе у Воли к Власти. Воля к Власти является только другим словом для обозначения невинности становления. (…) Имеется только терминологическое, а не фактическое противоречие, когда Ницше иногда совершенно отрицает существование воли, а затем всё же говорит о Воле к Власти. То, что он отрицает, это осознанная, целеполагающая воля, которая принадлежит к вымышленным сущностям внутреннего міра. Поэтому [основной] принцип учения [Ницше] гласит: «Здесь достаточно чувств и мышления. Воление как нечто третье это лишь воображение». Воля к Власти это не воление (Wollen), но способность (Können), это реально работающее единство, на чьём месте идеализм [былых времён] позволяет действовать сознанию. Ошибка прежних философов заключалась в том, что они приписывали единство сознания тому, что в действительности образует единство энергии, которую Ницше называл Волей к Власти».
Эвальд Ильенков:
«...Человечество (или другая совокупность мыслящих существ) в какой-то, очень высокой, точке своего развития — в точке, которая достигается тогда, когда материя более или менее обширных космических пространств, внутри которых человечество живёт, остывает и близка к состоянию так называемой «тепловой смерти», — в этой роковой для [всей] материи точке — каким-то способом (неизвестным, разумеется, нам, живущим на заре истории человеческого могущества) сознательно способствует тому, чтобы начался обратный — по сравнению с рассеиванием движения — процесс — процесс превращения умирающих, замерзающих міров в огненно-раскалённый ураган рождающейся туманности. Мыслящий дух при этом жертвует самим собой, в этом процессе он сам не может сохраниться. Но его самопожертвование совершается во имя долга перед матерью-природой. Человек, мыслящий дух, возвращает природе старый долг. Когда-то, во времена своей молодости, природа породила мыслящий дух. Теперь, наоборот, мыслящий дух ценой своего собственного существования возвращает матери-природе, умирающей «тепловой смертью», новую огненную юность — состояние, в котором она способна снова начать грандиозные циклы своего развития, которые когда-то вновь, в другой точке времени и пространства, приведут снова к рождению из её остывающих недр нового мыслящего мозга, нового мыслящего духа... (...)
Мышление (...) выступает как то самое звено всеобщего круговорота, посредством которого развитие міровой материи замыкается в форму круговорота — в образ змеи, кусающей себя за хвост, как любил выражать образ истинной (в противоположность «дурной») бесконечности Гегель. (...)
...Выполнить свою вселенско-историческую миссию мыслящий дух окажется в состоянии лишь на вершине своего развития, своего могущества — до которой нам, людям XX века, разумеется, не дожить. Пройдут миллионы лет, родятся и сойдут в могилу тысячи поколений, установится на Земле подлинно человеческая система условий деятельности — бесклассовое общество, пышно расцветёт духовная и материальная культура, с помощью которой и на основе которой человечество только и сможет исполнить свой великий жертвенный долг перед природой. (...)
...Гибель человечества (и мыслящего духа вообще) предстаёт (...) не бессмысленной, а оправданной как абсолютно необходимый акт с точки зрения всеобщего круговорота міровой материи, развивающейся по своим объективным законам. Мышление при этом остаётся исторически преходящим эпизодом в развитии міроздания, производным («вторичным») продуктом развития материи, но продуктом абсолютно необходимым — следствием, которое одновременно становится условием существования бесконечной материи». (...)
И в свете изложенной гипотезы совсем по-новому, с ещё большей пророческой силой звучат гениальные слова «Диалектики природы» [Ф. Энгельса]:
«...Мы вынуждены либо обратиться к помощи творца, либо сделать тот вывод, что раскалённое сырьё для солнечных систем нашего мірового острова возникло естественным путём, путём превращений движения, которые от природы присущи движущейся материи и условия которых должны, следовательно, быть снова воспроизведены материей, хотя бы спустя миллионы и миллионы лет, более или менее случайным образом, но с необходимостью, внутренне присущей также и случаю».
...Мы обретаем новое основание для уверенности в том, что:
«Материя во всех своих превращениях остаётся вечно одной и той же, что ни один из её атрибутов никогда не может быть утрачен и что поэтому с той же самой железной необходимостью, с какой она когда-нибудь истребит на Земле свой высший цвет — мыслящий дух, она должна будет его снова породить где-нибудь в другом месте и в другое время».
И потому, добавим мы, что мыслящий дух — не пустоцвет, который расцветает на короткое мгновение лишь затем, чтобы тотчас же бесплодно увянуть, а есть столь же условие существования материи, сколь и необходимое его следствие, т. е. внутренне-полагаемое, бесконечное и всеобщее условие бытия міровой материи, действительный атрибут материи как бесконечной субстанции міроздания».
Из максим Михаила Веллера:
«В человеке есть какWeller разум, так и чувства, жажда жизни. (...)
В молодости жажда жизни сильнее, сил и желаний больше. Желания заставляют напрягать разум, как этих желаний добиться. Желания развивают разум, жизненный опыт даёт пищу для размышлений.
С возрастом силы и желания угасают. А чтобы думать, надо сил меньше, чем чтобы действовать. Разум, когда-то разбуженный желаниями, продолжает свою работу — постигать жизнь. И обычно чем больше стареет человек, тем больше им руководит разум и меньше — страсти. (...)
Ошибка древних философов в том, что они пытались подчинить жизнь разуму, тогда как на самом деле разум подчинён жизни. Как говорится, голод и любовь правят міром. Страсти владычествуют над человеком. (...)
Когда человек поступает плохо — это победа чувства над долгом. Долг продиктован разумом, чувство — самой жизнью. (...)
Мы можем влиять на мір и человека. Но любое наше действие — это проявление объективных законов, которым подчинён мір и человек. Не мы переделываем мір по своему разумению, а мір изменяет себя при помощи нашего разума. Наш разум — лишь частная деталь в общем механизме міра. Разум познаёт мір, но не подчиняет его себе, как шестерёнка не может подчинить себе всё устройство часов. (...)
Любое явление по мере своего развития переходит в (...) свою противоположность. (...) Так, создание в государстве порядка и мощи — продолжением и развитием тех же действий переходит в сытый бюрократизм, парализующий и делающий невозможной жизнь этого самого государства.
Деятельность человека по улучшению своей жизни переросла, по мере развития, в деятельность по ухудшению своей жизни. В уничтожение планеты. В ухудшение генофонда с прекращением естественного отбора: слабые и больные живут и дают потомство. Неизбежны всё большие затраты на медицину для поддержания высокой продолжительности жизни в развитых странах — здоровых людей-то всё меньше. Надо ждать снижения средней продолжительности жизни в этих странах, коли уровень естественного здоровья снижается. СПИД, злобные новые штаммы вирусов гриппа — формы этой закономерности. В развитых странах рождаемость падает сама собой — да как! ниже уровня простого воспроизводства. Вот вам и стихийная саморегуляция. Общество создаёт себе такие хорошие условия для жизни, что общее количество жизни в нём начинает уменьшаться. (...)
Во Вселенной кроме энергии ничего нет, строго говоря. Все формы материи — виды энергии. Энергетический уровень рассмотрения — это базовый, основной, фундаментальный уровень. (...)
...В человеке [в пять раз] больше энергии, чем потребно для простого физического выживания. (...)
Предельное Максимальное Действие, к которому направлен вектор человеческой истории, — это уничтожение нынешней Вселенной и зарождение новой Вселенной. Существование Вселенной от Большого Взрыва и до схлопывания — это и есть энергоэволюция. Просто всё существующее — это энергия, и она эволюционирует. (...)
Человек — логично, целесообразно, необходимо — может являться тем самым этапом существования Вселенной, посредством которого оформится Её конец и одновременно зародится новая Вселенная. (...)
Если мы не одиноки во Вселенной — мы можем совершить своё Максимальное Действие раньше, на более низком уровне, и ограничиться, скажем, уничтожением лишь земной жизни. Но покуда у нас нет достоверных сведений о наличии жизни вне Земли — можно полагать, что мы будем жить. Пока не сможем выполнить Главную Задачу. Ибо все прочие варианты самоуничтожение — как и достижение любых научно-технических успехов — есть промежуточные этапы. (...)
Если отграничивать из общей — именно Человеческую историю, — то её целью может оказаться создание сверхквази-существ, энергопреобразующих и эволюционирующих, которые смогут подхватить у биологическо-социального человечества эстафету энергопреобразования — и вывести энергопреобразование Бытия на новые уровни скорости, эффективности и объёмов. Типа материализовывать поля и излучать энергию из вакуума (сейчас и предположить трудно). Но, короче, чтоб способами, нам ещё неизвестными и даже принципиально не представимыми, таки грохнуть нашу Вселенную и засветить Новую. (...)
Что бы ни делал Человек — а в результате Человечество приходит ко всё большим свершениям. (...)
Стремление к свободе это психическое оформление био- и социосистемы к состоянию, в котором можно выделить и преобразовать максимум свободной энергии максимальным числом способов. То есть — это стремление к максимальному энергопреобразованию и структуризации. Стремление к свободе — негэнтропийный принцип. (...)
Смысл жизни — это потребность осознавать себя необходимым для внешнего, группового, природного блага. Смысл жизни — это психическая потребность рационально аргументировать имманентную потребность в максимальном энергопреобразовании. (...)
Ценность жизни измеряется тем, что ты за неё готов заплатить. Когда нет ради чего умирать — нет ради чего и жить».
Михаил Веллер о национал-социализме и о Б. Муссолини:
«Полезно со всего содрать этикетку и посмотреть, что за ней. Фашизм — это про Италию, про Муссолини, про «фашио» и «общее дело». Это не имеет никакого отношения к тому, что мы имеем в данный момент. Большевики называли себя «Российская социал-демократическая рабочая партия» (РСДРП). Нацисты называли себя «Германская национальная социалистическая рабочая партия». Разница в едином одном слове — «демократическая» в России и «национальная» в Германии. Эти партии — родные сёстры, с этим, в общем, никто и не спорит. Национал-социалисты полагали, что должен быть социализм для трудящихся немцев, и никак иначе. Когда рассказывают про все эти закатанные рукава, «шмайсеры» и прочее — так творятся мифы. Это всё равно, что миф о том, что Сталин — добрый отец всем, или Сталин — кровавый злодей, который кроме крови в своей жизни ничего не пускал.
Сейчас мы говорим о группах юных экстремистов, возникающих, в основном, спонтанно, совершающих особо тяжкие преступления на почве национальной розни. Это действительно есть, и глупо пытаться это отрицать. И мы разводим руками и спрашиваем: откуда фашизм в стране, которая победила фашизм? Значит так: победа социал-демократической партии над национал-социалистической партией не имеет никакого отношения к тому движению, которое наблюдается здесь и сейчас. В первом случае сцепились две огромные страшные силы, программы которых были очень схожи, и каждая из этих сил мечтала уничтожить другую. Перед Второй Міровой войной это знал весь мір, достаточно поднять газеты той эпохи. Сейчас то, что у нас называют «фашизмом», и что на самом деле можно назвать «национал-экстремизмом», — это самодеятельная подмена группками юных экстремистов функций государства, каковые государство, по разным причинам, выполнять не хочет, не может и не собирается.
Сегодняшний разгул национал-экстремизма можно считать болезненной, уродливой, опасной формой обострения национального инстинкта самосохранения. Народ являет собой единое целое. Тот, кто полагает иначе, — или демагог, или идиот (как правило — одно с другим). Народ есть целостность, собравшая себя из «человеков». Когда полагают, что в одном городе могут жить представители разных народов — не национальностей, а именно народов, — и при этом так, чтобы каждый хранил свою культуру, свои традиции, свой быт, и жил согласно своей ментальности, то это прямейший путь к крушению вавилонской башни. Город может существовать только как «плавильный котёл», и никто не смеет входить в чужой монастырь со своим уставом. Это знали все и всегда. Если ты припёрся в чужой монастырь со своим уставом, то ты будешь бит и выгнан рано или поздно. (...)
Вынужден сознаться, в ряде моментов я (...) согласен с дуче Бенито Муссолини, который в ответ на ходатайство исламской делегации, нельзя ли построить мечеть в Риме, подумав секунду, ответил: «Можно. На симметричных условиях постройте христианский храм в Мекке». Ребята позеленели, ибо были не готовы к симметрии, и на этом дискуссия в те времена кончилась. (...)
Мы и сегодня не можем, [по соображениям политкорректности,] сказать, что в германском национал-социализме (который называть фашизмом абсолютно неправильно) было, кроме кровавого, злодейского, недопустимого, — много и хорошего, правильного, полезного. Забота о здоровье народа, о спорте для масс. Борьба с курением. Культ крепкой семьи, пропаганда рождаемости и посильная помощь государства семьям. Патриотизм, верность родине. Трудолюбие, честность, аккуратность, храбрость, взаимопомощь — всё это культивировалось всеми средствами. Гордость своим народом, своей историей наукой, культурой — что ж в этом плохого?»
Михаил Веллер о репрессиях 1937 года:
«Готовясь ко II Міровой войне, Сталин уничтожил почти весь командный состав своей армии. Ни один враг не сумел бы нанести ей большего урона. Где тут цель, логика, смысл, польза?!
Проще всего повторить вслед за древними греками, что кого боги хотят покарать, того они лишают разума. Но если бы люди в своих действиях всегда руководствовались разумом, то иной была бы вся история, и иным был бы сам человек. (...) Суть же сталинской акции в том, что:
1. Государству постоянно требовались рабы — заключённые, по разнарядке набираемые из всех слоёв.
2. Деятельность репрессивных органов оценивалась по тому, как много «врагов» они арестуют — такие органы тоталитарному государству были необходимы, а их функционеры выслуживались.
3. Требовалось искоренить любые возможности нелояльности, инакомыслия, превратить армию в идеально, беспрекословно послушный Вождю институт: сцементировать единоначалие, необходимое для силы армии, было проще всего и вернее через страх.
А дальше учитываются законы действия многоэтажной бюрократической машины. Функционеру — «винтику» каждого этажа ставится конкретная задача, сопровождаемая конкретным объяснением, которое должно побудить и обосновать её непременное и наилучшее выполнение. Но в любом передаточном механизме — свой КПД и свои потери энергии. С учётом этого передаточное усилие на каждый узел должно даваться «с запасом». Чем больше и сложнее машина, тем с большим изменением реализуется через неё начальная идея-приказ.
Накануне грандиозной войны диктатор Сталин логично решил провести чистку комсостава. Все знали: предпочтительней шлёпнуть невиновного, нежели пропустить виноватого. Аппарат исполнения был огромен, громоздок, и результат, как только и возможно в таком случае, превзошёл ожидания. Всё просто».
* * *
Трудно не заметить большого стилистического сходства двух следующих фраз.
У Боймлера: «Ошибка прежних философов заключалась в том, что они приписывали единство сознания тому, что в действительности образует единство энергии, которую Ницше называл Волей к Власти».
У Веллера: «Ошибка древних философов в том, что они пытались подчинить жизнь разуму, тогда как на самом деле разум подчинён жизни».
Сходство это не является случайным, поскольку приходится с огромной вероятностью утверждать, что и то, и другое высказывание представляют собою парафразу трактата Артура Шопенгауэра «Смерть и её отношение к неразрушимости нашего внутреннего существа», входящего в корпус дополнений к четвёртой книге I тома «Міра как Воли и представления». Цитирую конкретно это место: «Ошибка всех философов заключалась в том, что метафизическое, неразрушимое, вечное в человеке они полагали в интеллекте, между тем как на самом деле оно лежит исключительно в Воле, которая от первого совершенно отлична и только одна первоначальна».
Однако само веллерово снятие имеет отчётливый оруэлловский привкус! А именно: «Не диктатуру устанавливают, что бы защищать революцию, но революцию делают для того, что б установить диктатуру». Ведь только при диктатуре концентрация власти в руках революционеров-правителей достигает максимума и, следовательно, только диктатура в состоянии обеспечить предельное выполнение основных задач подлинной революции. Ибо суть всякой власти такова, что сила и свобода сильного приумножаются посредством подчинения себе силы и свободы слабых. Здесь, в делах власти, победа и есть собственно, акт Свободы, т. е. акт опытного установления сильнейшего, который становится Господином. Моё любимое место из Апокалипсиса говорит именно об этом: «И сказал Сидящий на престоле: « (...) Победитель наследует всё. И буду ему Богом, и он будет Мне сыном».
Посему Воля к Власти есть прежде всего Воля к Единству — способ осуществления в являемом инобытии того, что в трасцендентном У-Себя-Самого-Бытии выступает как Міровая Воля. Это и есть то единство Энергии в нераздельности и неслиянности её частных направлений, которое предстаёт разуму как единство (die Totalität — «сплошное») Свободы. Ибо, как уже говорилось выше, не Свобода пребывает в Уме, но Ум — в Свободе. Душе же, как Вечному Возвращению Воли, Свобода предстаёт как жизнь Вечная. Ибо не Душа пребывает в жизни, но жизнь — в Душе; и не Ум обретается в Душе, но Душа — в Уме. Из Ницше («Так говорил Заратустра», гл. «Выздоравливающий», ч. 2): «О Заратустра, (...) все вещи танцуют сами: всё приходит, подаёт друг другу руку, смеётся и убегает — и опять возвращается. Всё идёт, всё возвращается; вечно вращается колесо бытия. Всё умирает, всё вновь расцветает, вечно бежит год бытия. Всё погибает, всё вновь устрояется; вечно строится тот же дом бытия. Всё разлучается, всё снова друг друга приветствует; вечно остаётся верным себе кольцо бытия. В каждый миг начинается бытие; вокруг каждого «здесь» катится «там». Центр всюду. Кривая — путь вечности».
По самому же большому счёту, целью коловращения жизни Вечной, пусть даже и отцентрованной умопостигаемой Справедливостью, является отнюдь не счастье живущих, которое (как, впрочем, и их несчастье) есть лишь один из многочисленных моментов жизни, но сама жизнь, в силу предицируемой ей Вечности. Проще говоря, главное усвоить себе, что жизнь эта — Вечна; желания и страсти, ею во множестве порождаемые, — нескончаемы в круговерти смены одних на другие, противоположные по вектору, но не менее сильные. А усвоив, можно смело выносить ковёр из мечети, как любит из тома в том повторять Михаил Иосифович, согласно турецкой пословице. Так в самом допущении, что мір подобен детской игрушке ванька-встанька, которая всегда из горизонтального положенья возвращается обратно в вертикальное; что жизнь в целом улучшению принципиально не подлежит, — в самом этом допущении уже содержится изрядное зерно патофобии и нигилизма. Иль, ежели сказать по бытовому: коль подрядчик или просто работник знает, что улучшить вещь уже невозможно — матерьял, знаете ль, подкачал, то отчего ж ему не схалтурить? И получается в пределе, что полное бездействие (халатность) есть именно то действие, которое превосходит наибольшее из всех возможных действий совершенного деятеля (полновластного суверена). (Ибо «превосходство над всей совокупностью сущего, того, кто запределен всему сущему, — беспредельно», коль скоро деятель совершил акт нигилизма, умышленно отстранившись от идеала высшего качества своего продукта).
Так, либеральные адвокаты (а все адвокаты, так или иначе — либералы) любят говорить, что судебный процесс вообще-то не преследует цели достижения истины, но важно неукоснительное соблюдение установленной процессуальной процедуры, т. е. соблюдение порядка состязания тяжущихся сторон. Однако, как только все участники процесса, включая судью, полностью усваивают это, перестав подбирать даже те крупицы объективной истины, что обнаруживаются по ходу состязанья, но преследуя лишь свой узкокорыстный интерес — процесс понемногу, но неизбежно, превращается в балаган. Ведь дорогу осилит идущий, а кто пойдёт к храму, зная, что никакого храма в конце пути нет... Таким образом, вся тяжесть нигилизма сосредоточенна в известном сакраментальном вопросе: «Зачем нужна дорога, если она не ведёт к храму?».
Из сказанного следует, что если земная цивилизация всё же погибнет, то произойдёт это с куда большей вероятностью из-за запущенной политиками экологической проблематики, нежели по причине ядерной войны. Хотя поначалу регулируемая социалистическая экономика, с её гибким планом, иногда корректируемом посредством Führerprinzip'а, возможно станет, по слову Ницше, «источником обильнейшей жизни». Обильнейшей не в последнюю очередь оттого, что тогдашняя жизнь не будет стесненна никакой устарелою догмой. Такова положительная сторона нигилизма.
И не надейтесь, что кому-нибудь удастся «откусить голову змее нигилизма», как советует Ницше! Совет сей — полная чушь. Ведь разум предшествует всякому Максимальному действию разумного существа, поскольку это действие, именно как максимальное, — ново и, стало быть, выполнить его машинально, на едином навыке, невозможно. При этом разум является орудием выбора из нескольких вариантов действия, — наиболее эффективного и наименее энергозатратного. Душа пребывает в Уме, а не Ум — в Душе! К тому же речь идёт о полновластном суверене, вполне ответственном за свои поступки. Бедолага Ницше мог себе позволить нести подобную околесину, ибо он никогда не занимался ремеслом, производящим материальные вещи по установленным стандартам. «Но из прошлого, из былой печали, — / Как ни сетую, как там ни молю! — / Проливается, чёрными ручьями, / Эта музыка прямо в кровь мою».
Впрочем, замечание о допущении про ваньку-встаньку относится в равной мере и к учению Плотина, ведь и то, и другое суть финальный синтез рациональных основ уходящих культур.
Об этом хорошо сказал Алексей Фёдорович Лосев в конце своего капитального «Античного космоса»:
…«О едином и многом, о тождестве и различии, о гармонии. Двойное дело демиурга, рассуждает Прокл. С одной стороны, он разделяет душу по частям, с другой — приводит разделённое к гармонии и согласовывает одно с другим. И первое он делает «дионисийски» (Διονυσιακως), второе — «аполлонийски» (Ἀπολλωνιακως). «Душа пребывает в раздробленности титанически, в гармонии же — мусически, в то время как сущность её разделяется… дионисийски и смешивается жизнеродительно». Ясно, что на протяжении всей греческой философии, от Анаксимандрова учения о возмездии за грех индивидуальности и до Прокловой интерпретации множества и гармонии, как начал дионисийского и аполлонийского, мы встречаем одну и ту же мысль о великой «дерзости» (τολμα) к «первой инаковости» (Plot. Enn. V 1, 1) как о чём–то недолжном, хотя и титанически–великом и величественном. Первоединое — выше раздельности, но и выше самоутверждения, оно — выше всего. Однако оно хочет самоутверждаться, хочет быть, хочет нуждаться в бытии, хочет жить. Это значит, что оно противополагает себя иному, рождает эту инаковость и — оформляется, организуется, получает имя, становится индивидуальностью и бесчисленным множеством индивидуальностей. Этот полёт вниз, этот замутняющий сознание прыжок с высоты в бездну и есть самоутверждение Первоединого, его извечное титаническое желание поднять на своих плечах весь мір и все его судьбы. В дионисийском восторге забывает оно себя самого и рождает из себя мір, эту вечную игру вечности с самой собой. Но утвердить себя всё же значит утвердить себя, и потому в самой расчленённости рождается правда её, правда гармонически и прекрасно устроенного міра. Дионисийский восторг и безумная музыка экстаза зацветают аполлонийским мифом гармонии и вечно юного, цветущего космоса, равнодушно и блаженно завершённой в себе неугомонной жизни.
Кто виноват? Откуда космос и его красота? Откуда смерть и гармоническая воля к самоутверждению? Почему душа вдруг нисходит с огненного Неба в тёмную Землю и почему она вдруг преодолевает земные тлены и — опять среди звёзд, среди вечного и умного света? Почему в бесконечной игре падений и восхождений небесного огня — сущность космоса? Ответа нет, и вопрошаемая бездна молчит. Человек и космос, происшедшие из бездны единого, ответственны сами за себя и только на самих себя могут надеяться. Единое само утверждает себя, следовательно, оно ответственно само за себя. Но единое утверждает себя порождением иного, след[овательно], если ответственно единое, то иное не ответственно, ибо оно именно не единое, а иное, и продолжает быть ответственным всё то же единое. Однако иное не есть только иное. Оно, поскольку оно есть, тоже утверждает себя, и, следовательно, оно тоже едино и тоже ответственно за себя. Если иное не ответственно за себя, оно себя не утверждает. А если оно себя не утверждает, его нет. А если его нет, то единое не полагает своего иного, т. е. не утверждает себя. А это значит, что нет и никакого единого. Итак, единое ответственно за себя, но его утверждает его же инаковость. И иное ответственно за себя, но его спасает то же единое. Оба — и ответственны, и не ответственны. Оба — и свободны, и не свободны. И соединение ответственности с безответственностью, зрения со слепотой и свободы с необходимостью и есть реальная жизнь космоса и человека в нём. «Луку имя — жизнь, а дело его — смерть», — говорит Гераклит (В, фрагм. 48) И он же: «Путь вверх и вниз один и тот же» (фрагм. 60). И: «В окружности начало и конец совпадают» (фрагм. 103).
В этой жестокой, божественно–всемогущей, играюще–равнодушной, безответственно–ответственной и ослеплённо–зрячей диалектике — последняя сущность античного космоса. Судьба, экстаз, герой и гармония — его подлинная и единственная характеристика. «Всем правит Молния» (фрагм. 64, там же)».
Разница здесь по сути лишь том, что античный человек стремился жить в соответствии с природой, тогда как человек новоевропейский, «фаустовский», действует, главным образом, согласно мичуринской максиме: «Нам нечего ждать милостей от природы: взять их у неё — наша задача!». Соответственно, в первом случае, последней целью науки стала перезагрузка ума человека сообразно порядку (κοσμος), сущему во Вселенной; во втором же — перезагрузка Вселенной сообразно порядку, сущему в человеческом разуме. Впрочем, для веллеровой системы міра, в силу её совершенной самозамкнутости, это последнее различие несущественно. Однако данное различие несомненно проливает свет на то, почему античная философия завершилась интровертным занудой-геометром Проклом Диадохом — гностиком, едва ли не всегда погружённым в размышленья самого отвлечённого и возвышенного свойства; меж тем как философия «фаустовская» завершается вполне-таки экстравертным популяризатором-публицистом Михаилом Веллером — несколько хамоватым задирой-спорщиком, сменившим по молодости около тридцати различных профессий, объездившим тогда почти всю территорию СССР, и оттого не без основания думающем о себе, как о человеке весьма бывалом, многое в жизни повидавшем. Завершиться иначе и при этом столь рельефно выказать свой характер, указанные культурообразующие воззрения, похоже не могли.
Строго говоря, наличествуют три взгляда на «фаустовскую» установку Максимального Действия:
1). Аполлонийский, обоснованный Führerprinzip'ом, взгляд восходящей Воли к Власти. Его осознание завершено Михаилом Веллером.
2). Дионисийский, обоснованный патофобией и нигилизмом, взгляд нисходящей Воли к Власти. Осознание его завершено Мишелем Уэльбеком. (Ключевые цитаты из него, за неимением здесь места для критики оных, помещаю в подвале[2]
Оба эти взгляда исходят из естественного (не-свободного) порядка причинности, данного в опыте, т. е. исходят из умопостигаемого всеобщего содержания наличного опыта. Оба — суть своё иное жизни Вечной, понятой, по-аристотелевски, как деятельность Ума.
Примечательно, что Уэльбек даже называет себя коммунистом, апеллируя при этом к памяти Робеспьера, ровно в том же смысле, в каком Михаил Веллер именует себя праворадикальным социал-демократом!
3). Христианско-кантовский взгляд, обоснованный фактом Воскресения Христова, не данном в полной мере ни в каком наличном опыте; взгляд, исходящий из свободного порядка причинности, т. е. причинности сверхъестественной и преумной. То суть взгляд присно и во век восходящей Воли к Власти — Воли к со-правлению в Царствии Божием. Взгляд из Единой-Всем-Свободы. Осознание сего взгляда завершил Владимір Рысинов. Впрочем об этом читайте в конце очерка.
Четвёртый взгляд, по-видимому, невозможен, раз уж «всем правит Молния».
И так же, как всякая негация (т. е. процесс отрицания чего-то) должна быть ограниченна предшествующим и последующим (при условии снятия всего негативного, истлевшего) утверждением того, что она изничтожает, нигилирует — точно так же всё неотмірное должно быть ограниченно применимостью в явленном міре, как и сам этот мір необходимо ограничен вечностью, не относящейся к вещам его, рассмотренным по отдельности. В знаменитой кантовской формуле «Две вещи всегда удивляют меня: звёздное небо над нами и нравственный закон внутри нас» две смежные зоны ограничивают друг друга. Именно: зона действия звёздного неба, т. е. космос, ограничивает зону действия нравственного закона, т. е. свободную душу, и наоборот. По этому поводу Гегель изрядно язвит в 19-м иенском афоризме: «Педантичному моралисту можно сказать, что совесть — это моральный светильник, озаряющий хороший путь; но когда сворачивают на плохой, то его [обычно] разбивают».
И если, по-Лосеву, к концу античности, тогдашний человек перерос своё обезличенное представление о космосе, почти утонув в его глубинах, безразличных к страданию собственных частей, и оттого затребовав христианский абсолютный персонализм, — то, в конце новоевропейской культуры, человек нынешний перерос индивидуалистический персонализм (как оно явствует из Уэльбека), почти целиком утонув в собственном эго, столь же безразличном к страданию другого такого эго, как и космос.
Посему, будьте уверенны, новоевропейский человек неминуемо затребует ценности национал-большевизма, в каком бы архаичном обличии национал-большевизм не предстал пред ошеломлённым наблюдателем! Ибо только так можно сохранить на местах ту степень обособленности, которая одна только составляет достаточное условие для сохранения хозяйского отношения ко всякому мало-мальски сложному, серьёзному делу. Ведь чистое христианства слишком возвышенно для его прагматичного и техногенного рассудка. Правда, даже для того, чтоб принять национал-большевистские ценности, нынешнему «фаустовскому» человеку надлежит переродиться. Так что, надо полагать, «мы ещё увидим небо в алмазах»[3]
В самом деле, либерализм, как, впрочем, и троцкизм, медленно, но неуклонно ведут к выветриванию такого хозяйского отношения, полагая произвол субъекта ограниченным лишь конвенциальною («реальною», по гегелевскому словоупотреблению), а не объективной необходимостью и, в следствии этого, полностью растворяя в коллективе ответственность субъекта за то или иное распоряжение собственностью, хотя бы коллектив тот и заполнял собою всё пригодное для жизни пространство. Но представление об исключительно договорном происхождении всякого субъекта, несомненно, явилось закономерным итогом капиталистического развития Запада. Ибо данное представление есть ни что иное, как абсолютизация, т. е. распространение на все стороны общественной жизни, ростовщического представления о долге, когда старые долговые обязательства могут по взаимной договорённости ad infinitum погашаться новыми, с добавлением накопившегося процента в основной капитал. Ведь даже троцкистская концепция перманентной революции, когда противоречие, вызванное одним социальным взрывом, всегда снимается, по произволу заговорщиков, с помощью ещё более мощного взрыва, является уродливым ответвлением указанной абсолютизации. Возникает большой соблазн счесть веллеровскую теорию энергоэволюции разновидностью концепции перманентной революции. Однако, во-первых, всплески энергии, по заключению Михаила Веллера, есть итог её постепенного накопления сообразно объективно сущему закону природы, а не сообразно произволу самодуров-заговорщиков; во-вторых, промежутки мирного развития, разделяющие эти всплески во времени, достаточно велики, чтобы не считать всплески непрерывными (перманентными).
И совершенно прав Мартин Хайдеггер, утверждая, что положение, когда действительным полагается только реальное, обоснованное лишь сугубо частными взглядами («ценностями»), а объективное и, тем паче, абсолютное Бытіе (т. е. парменидово «Бытіе» с заглавной буквы и с «десятеричным і» по изводу русской орфографии, принятом издательством «Русская идея», т. е. с частичным возвращением к старым правилам, — так как и сам Хайдеггер выделял этот смысл с помощью старонемецкого написания слова: «Seyn», через «игрек») считаются досужим вымыслом — такое положение, будучи an sich богохульством, неизбежно завершается радикальным смертоубийством. Цитирую дословно: «Если [ценностное полагание] мыслится в аспекте сущего как такового, а это значит — одновременно исходя из взгляда на Бытие? Тогда мышление ценностями — это радикальное смертоубийство. Тут сущее как таковое не только забывают в его Бытии в себе [т. е. гегелево «объективное»], тут совершенно отбрасывают само Бытіе [гегелево «абсолютное»]. Бытие — если только есть ещё в нём надобность — может признаваться лишь как ценность [гегелево «реальное»]. Ценностное мышление метафизики Воли к Власти до крайности убийственно, потому что оно совершенно не допускает, чтобы Бытіе входило в свой восход [т. е. чтобы обретало субъектность в особенном] и, стало быть, в свою живую сущность. Мышление по мере ценностей заведомо не позволяет Бытію бытійствовать в своей Истине» — «Слова Ницше «Бог умер». Однако, как будет показано далее, Міровая Воля (т. е. опять-таки абсолютное Бытіе!) волит Волю к Власти, предусматривая, таким образом, и самоё богохульство. В этом сущая беда Воли. Но, позвольте, основным предметом исторического развития (если вести речь именно о субъекте, поскольку мір это ведь не субъект только, но неразрывное единство субъекта и объекта) выступает не просто живое существо, но существо разумное, а войти в разум, повзрослеть, и означает собственно отбросить ребяческое убеждение, будто всё в міре порождается исключительно по чьему-то произволу. Здесь, впрочем, необходимо дать уточнение: развёртывается в истории ум (Geist), заданный от века, а его наличным бытиём выступает разум (Vernunft). Именно оттого, что в процессе развития непосредственно наблюдаемо лишь наличное Михаил Иосифович и пишет во «Всё о жизни», главка «Закавыка с разумом»: «...человеку в «чистом виде», от рождения, дан не разум, а только способность к разуму». Но, в силу того, что это наличное напрямую обоснованно Вечной Справедливостью, мы вправе, вслед за Плотином и Гегелем, говорить и об его умном эйдосе, т. е. об уме. Иначе бы Плотин говорил только об эйдосе абсолютного Ума, но он говорит ещё и об индивидуальном эйдосе Сократа (Plot. Enn. IV 3, 5). Всякий же разум отцентрован Справедливостью, которая, по верному определению Ницше, есть «функция далеко взирающей силы», а умная сила не существует без обособления составляющих её частей. Так что выбор у субъекта развития в итоге всегда один: или погибнуть, или стать справедливым, а вместе с тем и нравственным. Ведь тот, кто постоянно подменяет в мышлении объективное реальным, не только не в состоянии своими поступками породить новое всеобщее целое, превышающее старое (которое выступает как особенное в отношении этого возможного нового). Он рушит это старое целое, уничтожая среднее звено данной триады, т. е. особенное, поскольку мыслящий так, непременно принимает за особенное единичное и всячески культивирует его, способствуя тем самым распаду подлинного особенного, а затем и всеобщего целого на несоизмеримые, несовместимые части . Именно такова логика, сообразно которой из провала либеральной политики мультикультурализма неминуемо вытекает провал капиталистической глобализации за невозможностью создать планетарное государство в условиях господства рынка. Ибо в условиях глобального рынка при отсутствии планетарного государства, рынок этот становится максимально удобной ареной для разнообразного космополитического аферизма (подробнее о нём в примечаниях к сему очерку). «Европой правит Лига Наций — / Есть, где воришкам разогнаться».
Вот почему, забегая немного вперёд, нужно с полным правом утверждать, что хайдеггерово «до крайности убийственно» совершенно равнозначно рысиновскому «Взросление (…) происходит весьма больно». И ровно о том же до крайности болезненном становлении Воли к Власти в её субъекте говорит Апокалипсис: «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нём. И бежали от лица Его и Небо, и Земля, ибо не нашлось им места. И сказал Сидящий на престоле: «Творю всё новое».
Благодаря ранней патристике, от Оригена до Августина Аврелия включительно, рыба христианства до такой степени прокоптилась на костре плотиновского синтеза, что М. Хайдеггер поспешил определить христианство в целом как платонизм для [простого] народа. Хотя, для подобного определения, само по себе христианство не содержит, в качестве одной из догматических основ, представления о Вечном Возвращении, обладая вместо него лишь идеей бесконечного линейного прогресса (точно как европейское Просвещение XVIII — XIX веков со всем его антропоцентризмом!). Наоборот, в представлении первых христиан, Христос, неповторимым во всей истории міра актом Воскресения своего, разрывает порочный экклизиастический круг времён, замкнутый дотоле Первородным грехом — круг, в котором и по ныне продолжает вращаться мысль правоверного иудаизма. Неудивительно, что недюжинные математические таланты еврейства, будучи выражением железной, почти несокрушимой воли, закалённой веками повсеместных гонений, направляются с регулярностью, достойной лучшего применения, на ростовщичество, строительство «финансовых пирамид» и другие денежные афёры, что, в свою очередь, порождает новые витки ненависти и гонений против евреев. Ведь именно таков самонатягивающийся механизм Вечного Возвращения. В начале же сильная воля, которая всегда отличает неслучайного победителя и подлинного хозяина-господина, необходимо порождает взгляд богоизбранничества, т. е. расизм, а максимальное действие расиста это — всегда грабёж Untermensch'ей; разновидностями такого грабежа являются ростовщичество и пропаганда сексуальной распущенности. «И вы будете давать взаймы многим народам, а сами не будете [испытывать надобности] брать взаймы у других. И будете господствовать над многими народами, а над вами никто не будет господствовать» — Второзаконие 28:12. Вдумайтесь хотя бы, какой колоссальный гешефт имеют ныне со своего ремесла многочисленные сексологи, психоаналитики, проктологи и иные лекари половой сферы, львиную долю коих составляют евреи, оттого, что по итогам так называемой «сексуальной революции», общее число венерических заболеваний на Западе и в СНГ возросло с 8 до 40 наименований!.. Не зря же Уэльбек, в романе «Расширение пространства борьбы», отметил, что женщины, пройдя психоанализ, утрачивают последние остатки стыда.
И нет претора над победителем, ибо победитель наследует всё — все точки зрения, в том числе и преторскую...
Так что по большей части прав о. Сергий Булгаков, писавший накануне II Міровой: «...Самой таинственной стороной судеб Израиля остаётся именно его единство. Благодаря ему вина одной лишь его части, вождей, является судьбой для всего народа, и эта часть говорит от лица своего народа, призывая на себя проклятие христоубийства и христоборчества. Но это же единство имеет для себя и другую положительную сторону: весь Израиль спасётся силою спасения его «святого остатка», хотя до времени этот остаток и сокрыт в Израиле отпадением. Таким он и ныне предстоит пред лицом міра. В теперешнем его состоянии его самосознание вырождается в еврейский расизм, национальное идолопоклонство, завистливую пародию на который представляет собой расизм германский. Безбожный или же христианоборческий национализм избранного народа есть, конечно, жуткая картина, но сила его всё-таки состоит в единственности его избранничества, которое остаётся непреложным, даже пребывая в состоянии вырождения или искания». Впрочем, для меня в упомянутом единстве уже нет ничего из ряда вон выходящего...
Именно акт Воскресения открывает то непрерывное самосовершенствование Мыслящей Твари во Христе (т. е. с мистической помощью Христа-Бога) и со Христом (т. е. в подражание Христу-Человеку), которое выступает стержнем кантовой «Критики практического разума» — этого завершающего манифеста просвещенской этики.
Однако, нигилизм, заложенный в привнесённом из неоплатонизма сегменте догматики, проявился уже много позже победы христианства над язычеством, выражаясь, в частности, в торговле церковными должностями и в обжорстве средневекового католического священства. Почему же потускнел для победителей их давний идеал? На этот вопрос очень хорошо ответил Владимір Рысинов, написавши как-то по совсем другому поводу: «В этой «дороге без конца» нет завершения, идеал не достижим, когда-то нас смешил коммунизм похожий на горизонт — чем сильнее рванёшь к нему, тем он дальше... но разве «Царствия небесные» не так же далеки? Единственно, что ухватывается конкретно, сегодня же — напиться. Дух наш взрослеет всю жизнь и перерастая тело, вырывается из него на волю, в возможность новую, вовсе не умирает. Взросление не остановимо, но происходит весьма больно. Зло неукротимо: перестав воевать бомбами, перейдём на войну компьютеров, на войну представлений. И всегда будут павшие. И всегда будем хоронить, страдать». Словом же «Взросление» В. Рысинов обычно обозначает самосовершенствование Мыслящей Твари и попечительство Бога об этом самосовершенствовании[4].
Отметим особо, для простаков, что всё вышеизложенное говорит вовсе не о ложности Führerprinzip'a, как краеугольного камня веллеровой этики и национал-большевистской социологии, но лишь о его всегдашней ограниченности инобытиём, т. е. патофобией. Ещё меньше из сказанного можно заключить о ложности диалектики неоплатонизма вообще, ибо эта диалектика как раз предполагает наличие инобытия и границы у всех вещей.
Слава России!!!
Марат Зуф. Салихов. 16. 7. 2014г.
[1] Отображение в ограниченном представлении (κατα λογος) рассудка сплошности Свободы и есть, собственно, миф (μυθος). В самом деле, всякий рассудок волен выбрать из нескольких, одинаково на данный момент обоснованных, точек зрения одну, какую он и займёт тотчас, но вот её победоносность, т. е. возможность её распространения на всё окрест неё, короче говоря, её сплошность, — это уже предмет веры. Таким образом, миф онтически предшествует логосу, поскольку намечает пути выхода наличного за его начальные пределы; иначе сказать, миф представляет собою надежду наличного на победу в будущем. Ибо разумное существо eo ipso ничего не начнёт без надежды — пусть даже мнимой! — на успех своей затеи. Ведь миф всегда обнадёживает внимающего ему, поскольку содержание мифа, как и содержание всякого сколь-нибудь далёкого будущего, всегда не вполне определённо, но неопределённость мифа всегда идеальна, а не патофобна, т. е. вместо страха перед будущим, полагает героическое пренебрежение наличным, его дурной стороною, ради стремления к должному. А всюду, где присутствует героическое, там непременно поблизости обретается и Führerprinzip, поскольку вообще применима мудрость восточных единоборств, гласящая: «В конкретном поединке побеждает не Школа, но Мастер». «Нужно воспринимать меня как миф!» — говорил Бенито Муссолини, желая сплотить партию и народ вокруг фигуры вождя. «Ты думаешь, что ты — Сталин, что тебе всё можно?!» — говорил, по преданью, Иосиф ВиссарионовичStalin нашкодившему в школе сыну Василию, цепко схватив его за ухо. — «Даже я не Сталин. Вот он — указывая пальцем на свой официальный портрет — СТАЛИН!».
Следовательно, миф есть — наряду с нигилизмом, обоснование коего всегда патофобно, а не идеально! — способ существования (τροπος ύπαρξιος) сплошности Свободы в явлении, т. е. в качестве Вещи для Нас (Ding dem uns). Объективно же, т. е. будучи Вещью в Себе, сплошность эта определяется как сеть (ριζωμα), состоящая из многих, равно вероятных, событий, так что и идеальные, и патофобные взгляды есть в действительности лишь моменты на путях Вечного Возвращения душ к своим волевым истокам. Ибо здесь, в объективном рассмотрении, всякий одушевлённый деятель сам будет таким же событием, как и любая другая вещь[σχολια 1], безотносительно тому, насколько она самодвижна, т. е. тому, обладает ли она жизнью или ещё нет. Поскольку любой деятель есть ни что иное, как плод всего без исключения множества событий, приведших к его появлению на свет — ведь объём умопостигаемого всегда больше объёма душевного.
Но в таком разе всеобщее представление о прекрасном — насквозь мифично, поскольку это представление, согласно И. Канту, обоснованно одной только формою целесообразности в представлении о конкретном предмете, без какой-либо (объективной или субъективной) цели; тем не менее, в силу всеобщности представления о прекрасном, такая форма действует на восприятие как нечто вполне закономерное.
Завершая здесь тему мифа, необходимо отметить следующее: мифичность представлений о прекрасном, априорный характер таковых, плюс идеальность всякого подлинного мифа заставляют автора сих строк предположить, что различная интенсивность схватывания многообразного опыта, определяющая любою априорность данных, будучи константою, присуща, быть может, не только отдельным индивидам, но также и целым народам. И понижение общей интенсивности восприятия у того или другого народа под конец его жизни знаменует собою упадок национальной Воли, уже привычно именуемой нашими историками гумилёвским словечком «пассионарность». В самом деле, древние римляне находили нечто возвышенное в кровавом зрелище гладиаторских боёв, но не устраивали массовых поэтических состязаний, подобных Дельфийским играм у греков, тогда как сами греки находили бои гладиаторов через чур кровавыми и, оттого, вульгарными. Но и современному русскому, в среднем, — при всём, казалось бы, уровне глобализации современной массовой культуры! — тоже почти невозможно понять, чем так прекрасен расцвет вишни (сакуры), коим столь долго может наслаждаться японец, или в чём прелесть певца Витаса, собирающего на свои концерты полные стадионы восторженных китайцев.
[σχολια 1] Михаил Иосифович говорит: «большинство людей — глупые». Он имеет ввиду, что кругозор и способность суждения большинства людей почти не выходят за рамки требуемого их профессией минимума и они не способны даже короткое время дышать очищенным и разрежённым кислородом объективно понимаемой Свободы, постоянно нуждаясь в воздухе той или иной утешительной односторонности, под которой надо разуметь не только односторонность любого мифа, но и односторонность нигилизма, движимого установкою патофобии. Этим воздухом они дышат ровно до тех пор, пока не выжгут весь кислород истины, в нём содержащийся, оставив лишь углекислый газ вранья; только после этого отправляются они на поиск новой утешительной односторонности, возможно, противоположной прежней по вектору. И самый лютый экстремизм и небрежение правами личности начинается, как правило, там, где всё руководство прежней либерально-демократической республики погрязло по уши во мздоимстве, космополитизме и крупном воровстве. Чаще всего на практике идеология космополитизма оборачивается созданием «финансовой пирамиды», ложным банкротством и бегством её основателя с деньгами обманутых пайщиков за тридевять земель, последующим получением убежища в обмен на вклад части краденых средств в экономику страны проживания и, собственно, беспечальным проживанием новоиспечённого миллиардера на новом месте.
Воруют столько, что на головах присланных новоявленною диктатурой ревизоров волосы шевелятся от ужаса при подсчёте добра, украденного вчерашними демократическими правителями! Ибо, когда исчезает узда морали (исчезает, по-моему, самоё уважение, а не то что любовь (αγαπε) к ближнему), лишь страх пред дубиной полицейского способен сдерживать порочность большинства.
Хотя односторонность появляется уже вместе с актом полагания иного, т. е. актом возникновения точки зрения, хоть немного противоположной начальной, — она может сниматься первоклассною способностью суждения в итоге правильного разграничения и сопоставления противоположных точек зрения. При этом, однако, дар правильного разграничения и правильного сопоставления и объединения отвлечённого (сиречь отсутствующего в опыте текущего момента) есть, бесспорно, удел сравнительно небольшого меньшинства умов. Говорю: «разграничение», а не «различение», ибо понятие границы предполагает наличие не только свойств ограничиваемого ею предмета, но также и наличие свойств внешней предмету среды, т. е. непременно и своего иного, а не только иного, — как понятие разницы. Короче, всякая граница полагает смежность, а не просто инаковость ограничиваемого.
Может быть бурное развитие средств связи уменьшило бы со временем глупость и невежество обывателя, но, на беду міра, глупость весьма выгодна правителям всех рангов, поскольку недалёкими и легковерными подданными управлять куда проще, чем подданными мыслящими самостоятельно и потому, вникающими во всё подозрительное. Уже теперь правители, вне всякого сомнения, профанируют и саботируют процесс среднего образования (коего основная цель — именно расширение кругозора ученика), при любой возможности подменяя познание зрелищем и игрищем.
Впрочем, если бы первоклассная способность суждения стала вдруг достоянием большинства, принятие многих решений оказалось бы затруднено и, оттого, замедленно из-за необходимости выбирать между несколькими, одинаково успешными по ближним своим следствиям, событиями-действиями, поскольку отдалённые события-следствия большинства причинно-следственных рядов вообще непредсказуемы, так как на пути к ним расположена не одна равновероятностная развилка. Наличие же объективного содержания в представлении о свободе выбора не может быть серьёзно оспорено, поскольку зачинщик сего спора в лоб столкнётся с нелепым вопросом о целесообразности многократного создания природою столь совершенного в своей сложности инструмента, как мозг человека и высших животных.
Впрочем, на всякого мудреца… И не прав Губерман, написавши в-сердцах: «За веком век уходит в некуда, / А глупости и бреду нет конца. / Боюсь, что наша главная беда — / Иллюзия разумности Творца», ибо Творец не может не творить, а творя, Он не может не делиться долею своей Свободы с тварью, иначе тварь не будет самодвижною, а творит Он только подобное себе, т. е. в той или иной степени обособленное и самодвижное. Короче, даже Творец міра не вполне свободен, так как не способен отделаться от своего желания (το ορεξις) творить вновь и вновь. Свобода, таким образом, выше Творца; после же творения всякая тварь уже самим фактом своего существования ограничивает тварь другую. И поскольку свобода одного кончается там, где начинается свобода другого, то знание и самый ум ограниченны Свободою, будучи, следовательно, обратно обоснованны ею («Обратно не может Воля хотеть; (...) в этом — сокровенное горе Воли» — говорит Ницше о необратимости времени, но это в полной мере относится и к неуёмности желания Творца творить, ибо, как отметил ещё Фалес, время всё открывает.), а жизнь, следовательно, обоснованна Свободой напрямую, поскольку живое отличается от не-живого предельной обособленностью своих внутренних процессов от среды, короче, отличатся предельной самодвижностью. А то, что истинно в отношении твари, должно быть истинно и в отношении Творца, поскольку, повторяю, творит Он только подобное себе. Есть ли мудрость в устройстве природы и в человеческом роде? — Имеется, хотя и не то, чтобы в избытке. Остальное — противоречащие друг другу интересы, страсти. Так вот и в Творце сила Его желания творить превосходит Его мудрость. И, как праведник, согласно И.М. Дьяконову, праведен не оттого, что надеется на какую-то награду или опасается какого-нибудь наказания, но оттого только, что он — праведник, так же и Творец не может не творить лишь оттого, что Он — Творец, и потому Он всегда беремен тварью и творчеством. И тот, и другой полностью самодостаточны в том, что составляет их смысл, ибо первый выступает законодателем порядка в міроздании (κοσμος'а), второй же — законодателем порядка в делах частной души (Gemüt), т. е. в сфере нравственной. Говорю: «частной души», ибо Душа міра всецело повинуется порядку Вечного Возвращения, не будучи, как Число, чем-то отличным от него, потому как именно понятием числа определяется очерёдность и количество Воз-Вращающегося содержания, совокупною формою которого выступает міровая Душа. Лишь в понятии Числа (σχημα), т. е. в умеренности, пересекаются параллельные во всём прочем сферы творчества и нравственности. Но умеренность в явленном міре присуща разве что мудрецу, и то не всё время, но лишь ex kathedra, т. е. когда ум его пребывает в полноте силы и предельно сосредоточен на измеряемом. Вот почему полною чушью является известное утверждение о сущностной несовместимости гения и злодейства, поскольку это утверждение построено ровно тем же образом, что и утверждение о несовместимости круглого и зелёного. Ибо умеренность есть сущность именно мудрости, а не всякой гениальности и не всякой праведности, не говоря уж про отступление от последней, каковым является всякое злодейство.
Подводя итог всему здесь сказанному, надо отметить, что зло бывает по сути двух видов: а) бессилие мудрого определить меру и продиктовать умеренность всем, кто не мудр и не праведен сам по себе, б) благодушное попустительство праведника не правым делам всех (а таковых — большинство), кто сам по себе не праведен и не злонамерен, а действует повинуясь внешним обстоятельствам, и кого праведник зачастую ошибочно считает столь же праведными по сути, как и он сам.
[2] «Все мы обречены на старение и смерть. Идея старения и смерти невыносима для человека; но в [европейских] культурах она получает всё большее распространение, не оставляя места ни для чего другого. И у людей мало-помалу возникает уверенность в том, что мір неуклонно съёживается. Угасает даже желание, остаются лишь горечь, зависть, страх. Но главное — горечь, неизбывная, безмерная горечь. Ни одна эпоха, ни одна цивилизация не создавала людей, в душе которых было бы столько горечи. В этом смысле мы живём в уникальное время. Если бы надо было выразить духовное состояние современного человека одним-единственным словом, я, несомненно, выбрал бы слово «горечь» — пишет Уэльбек в уже упомянутом мною романе.
Или в эпилоге последнего, на данный момент, романа «Карта и территория», о творческой судьбе основного персонажа, художника Джеда Мартена, сказано: «[Рурскую область] с её доменными печами, пришедшими в запустение железнодорожными путями, на которых безнадёжно ржавели товарные вагоны, и рядами вылизанных стандартных строений, оживленных тут и там садовыми участками, очень была похожа на музей первой индустриальной эры в Европе. Тогда Джеда потрясли угрожающие лесные заросли, со всех сторон окружившие заводы всего-то за какую-нибудь сотню лет их бездействия. Отремонтировали только те из них, которые можно было приспособить к новому культурному предназначению, остальные понемногу превращались в развалины. Эти промышленные гиганты, некогда символы производственной мощи Германии, теперь ветшали и рушились, а травы, захватив бывшие цеха, пробирались уже между руинами, постепенно оплетая их непроходимыми джунглями. Таким образом, творчество Джеда Мартена в последние годы жизни проще всего рассматривать как ностальгические раздумья о закате индустриальной эпохи в Европе и — в более широком смысле — о тленном и преходящем характере любого творения рук человеческих. Этой интерпретации, впрочем, недостаточно, чтобы описать тягостные ощущения, охватывающие нас при виде этих умилительных [игрушечных] человечков, затерявшихся на просторах бескрайней и абстрактной футуристической территории, которая сама тоже крошится и расслаивается, будто растворяясь в необъятном, уходящем в бесконечность растительном пространстве. Нельзя не испытать и чувства горечи, наблюдая, как изображения людей, сопровождавших Джеда Мартена в его земной жизни, разлагаются под воздействием непогоды, гниют и, наконец, распадаются, представая в последних эпизодах неким символом тотальной гибели рода человеческого. Вот они тонут, вдруг начинают бешено барахтаться, но через мгновенье задыхаются под постоянно прибывающими ботаническими пластами. Потом всё стихает, только травы колышутся на ветру. Полное и окончательное торжество растительного міра». И подобных высказываний в каждом из произведений автора пруд-пруди. «Моя навязчивая идея, единственная, неотступная — она проходит через каждый мой роман — заключается в том, что процесс деградации, разрушения, вырождения, стоит ему начаться, становится абсолютно необратимым. Всё потеряно: дружба, семья, любовь. Распадается любой социум, разлагается общество в целом. В моих книгах нет места раскаянию, прощению, возможности всё начать заново. Нравственные ценности утрачены безвозвратно, окончательно, навсегда. Таков закон природы, всеобщий, вечный закон, что распространяется на живые существа и неодушевленные предметы. Закон энтропии в буквальном смысле слова. Если веришь в неотвратимость распада, упадка, отмирания, не может быть и речи (…) ни о каком возвращении к прежнему» — прямо пишет месье Уэльбек весной 2008 года в электронном письме Б.-А. Леви — умеренно левому публицисту, рьяному сионисту и, по совместительству, махровому русофобу (при том, что сам Уэльбек остаётся полностью чужд всякой русофобии и шовинизму!).
Однако исчерпывающая критика этого взгляда и его претензии на уникальность уже дана в герценовских «Письмах об изучении природы» — дана в том смысле, что дорогу всегда осилит лишь идущий: «Побеждённое и старое не тотчас сходит в могилу; долговечность и упорность отходящего основаны на внутренней хранительной силе всего сущего: ею защищается донельзя всё однажды призванное к жизни; всемірная экономия не позволяет ничему сущему сойти в могилу прежде истощения всех сил. Консервативность в историческом міре так же верна жизни, как вечное движение и обновление; в ней громко высказывается мощное одобрение существующего, признание его прав; стремление вперёд, напротив, выражает неудовлетворительность существующего, искание формы, более соответствующей новой степени развития разума; оно ничем не довольно, негодует; ему тесно в существующем порядке, а историческое движение тем временем идёт диагональю, повинуясь обеим силам, противопоставляя их друг другу и тем самым спасаясь от односторонности. Воспоминание и надежда, status quo и прогресс — антиномия истории, два её берега; status quo основан на фактическом признании, что каждая осуществившаяся форма — действительный сосуд жизни, победа одержанная, истина, доказанная непреложно бытиём; он основан на верной мысли, что человечество в каждый исторический момент обладает всею полнотою жизни, что ему нечего ждать будущего, чтоб пользоваться своими правами. Консервативное направление будит в душе святые воспоминания, близкие и родные, зовёт возвратиться в родительский дом, где так юно, так беззаботно текла жизнь, забывая, что дом этот сделался тесен и полуразвалился; оно отправляется от золотого века. Совершенствование идёт к золотому веку, протестует против признания определённого за безусловное; видит в истине былого и сущего истину относительную, не имеющую права на вечное существование и свидетельствующую о своей ограниченности именно своей преходимостью; оно хранит также в себе былое, но не хочет его сделать метой его мечты — в будущем, в святом уповании. мір языческий, исключительно национальный, непосредственный, был всегда под обаятельной властию воспоминания; христианство поставило надежду в число краеугольных добродетелей. Хотя надежда всякий раз победит воспоминание, тем не менее борьба их бывает зла и продолжительна. Старое страшно защищается, и это понятно: как жизни не держаться ревниво за достигнутые формы? Она новых ещё не знает, она сама — эти формы; сознать себя прошедшим — самоотвержение, почти невозможное живому: это — самоубийство Катона. Отходящий порядок вещей обладает полным развитием, всесторонним приложением, прочными корнями в сердце; юное, напротив, только возникает; оно сначала является всеобщим и отвлечённым, оно бедно и наго; а старое богато и сильно. Новое надобно созидать в поте лица, а старое само продолжает существовать и твердо держится на костылях привычки. Новое надобно исследовать; оно требует внутренней работы, пожертвований; старое принимается без анализа, оно готово — великое право в глазах людей; на новое смотрят с недоверием, потому что черты его юны, а к дряхлым чертам старого так привыкли, что они кажутся вечными. (...) Люди, предавшиеся былому, глубоко .эстрадают; они столько же вышли из окружающего, как и те, которые живут в одном будущем. Страдания эти необходимо сопровождают всякий переворот: последнее время перед вступлением в новую фазу жизни тягостно, невыносимо для всякого мыслящего; все вопросы становятся скорбны, люди готовы принять самые нелепые разрешения, лишь бы успокоиться; фанатические верования идут рядом с холодным неверием, безумные надежды об руку с отчаянием, предчувствие томит, хочется событий, а повидимому, ничего не совершается. Посмотрите, какие страшные слова вырываются иногда у Плиния, у Лукана, у Сенеки. Вы в них найдёте и апотеозу самоубийству, и горькие упреки жизни, и желание смерти, да какой смерти — «смерти с упованием уничтожения»! — «Смерть единственное вознаграждение за несчастие рождения, и что нам в ней, если она ведёт к бессмертию? Лишенные счастия не родиться, неужели мы лишены счастия уничтожиться?» («Historia Naturalis»). Это говорит Плиний. Какая усталь пала на душу людей этих, какое отчаяние придавило их!. Это — глухая, подземная работа, пробивающаяся на свет, мучительная беременность, время тягости и страданий; оно похоже на переход по степи, безотрадный, изнуряющий — ни тени для отдыха, ни источника для оживления; плоды, взятые с собою, гнилы, плоды встречающиеся кислы. Бедные промежуточные поколения — они погибают на полудороге обыкновенно, изнуряясь лихорадочным состоянием; поколения выморочные, не принадлежащие ни к тому, ни к другому міру, они несут всю тягость зла прошедшего и отлучены от всех благ будущего. Новый мір забудет их, как забывает радостный путник, приехавший в свою семью, верблюда, который нёс всё достояние его и пал на пути. Счастливы те, которые закрыли глаза, видя хоть издали деревья обетованного края; большая часть умирает или в безумном бреду, или устремляя глаза на давящее небо и лёжа на жёстком, калёном песке... Древний мір в последние века своей жизни испытал всю горечь этой чаши; круче и сильнее переворота в истории не было; спасти могло одно христианство; а оно так резко становилось в противоположность с міром языческим, ниспровергая все прежние верования, убеждения его, что трудно было людям разом оторваться от прошедшего. Надобно было переродиться, по словам евангелия, отказаться от всей суммы нажитых истин и правил, — это чрезвычайно трудно; практическая, обыденная мудрость несравненно глубже пускает корни, нежели положительное законодательство».
А глядя на балаганно-бордельную эстетику всякого гей-парада, понимаешь, что к Уэльбеку в полной мере относится сказанное другим русским классиком о Публии Таците: «Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом, / Достоин ли пера его? / В сём Риме, некогда геройством знаменитом, / Кроме убийц и жертв не вижу ничего. / Жалеть об нём не должно: / Он стоил лютых бед несчастья своего, / Терпя, чего терпеть без подлости не можно!».
* * *
«Считай, что я живу в Константинополе,
Куда бежать с семьёю Карамзин
Хотел, когда б цензуру вдруг ухлопали
В стране родных мерзавцев и осин.
Мы так её пинали, ненавидели,
Была позором нашим и стыдом,
Но вот смели — и что же мы увидели?
Хлев, балаган, сортир, публичный дом.
(...)
И нету лжи, которую б не приняли,
И клеветы, которую б на щит
Не вознесли. Скажи, тебе что в имени
Моём? Оно тоскует и болит.
Куда вы мчитесь, Николай Михайлович,
Детей с женой в карету посадив?
На юг, тайком, без слуг, в Одессу, за полночь
И на корабль! — взбешён, чадолюбив.
Гуляют турки, и, как изваяние,
Клубясь, стоит густой шашлычный дым...
Там, под Айя-Софией, нам свидание
Назначил он — и я увижусь с ним».
(Александр Кушнер).
[3] В самом деле, что получится, если уэльбековский пессимист и мизантроп, со всей его пресыщенной чувственностью, вдруг возомнит себя ответственным за что-то большее, нежели он сам, обретя уверенность в поступках своих и патриотизм, столь присущие веллеровскому Звягину? Получится Брейвик, т. е. мизантроп, в своём подростковом максимализме, верящий в действенность индивидуального террора и прочих крайних мер. Отчего же, даже перестав формально быть эгоистом, он всё-таки останется мизантропом? Оттого, что он, не смотря эту перемену, остался человеком не просвещённым, низким, а просвещённость, в строгом, кантовском смысле слова, есть достоинство человека взрослого, т. е. неоднократно на собственном опыте познавшего, что нет в умопостигаемом міре ничего, что не было бы ограниченно своей противоположностью; прочно усвоившего сей опыт проб и ошибок, и потому всегда самостоятельно ищущего смысловую границу всякой вещи, т. е. её меру. Но пресыщенная, а вернее, расшатанная чувственность, несомненно, является серьёзнейшим препятствием на пути такого усвоения многообразного личного опыта, ибо для сластолюбца, по-настоящему действенно лишь сиюминутное ощущение. По сути, сластолюбец никогда не пойдёт к храму, если этот храм отсутствует в пределах видимости обычного глаза. К тому же он наверняка убоится тягот пути (παθοφοβια), ежели путь этот будет долог. «Собственно, пессимисты — это сластолюбцы, любители наслаждений, так как они только ставят на первое место чисто эвдемоническоe рассмотрение» — говорит Эрнст Бергман, один из ведущих богословов предвоенной Германии. Впрочем герр Бергман здесь лишь чеканно сформулировал эйдетическую причину той опасности всякого эмпиризма, о которой говорит сам Кант во второй главе «Критики практического разума»:
«...Эмпиризм, [будучи связан] со всеми [естественными] склонностями (какого бы характера они ни были), которые, если они возводятся в степень высшего практического принципа, приводят человечество к деградации; тем не менее, эти склонности очень удобны образу мыслей всех».
Следовательно, искушение патофобией ipso facto не может миновать никого из сущих в явленном міре. Этим-то обстоятельством и воспользовалась еврейская финансовая олигархия, нагнав на нынешнего новоевропейского обывателя сильнейшую волну развращающей пропаганды. Олигархам надо было, попросту говоря, опустить ум обывателя, чтобы тот, в условиях высвобожденного техническим прогрессом досуга, не приведи Бог, не озаботился более справедливым и равномерным распределением труда и дохода, как у себя дома, так и на планете вообще. Ибо в воздухе ощутимо запахло действительным социализмом.
Есть, правда, веские основания считать, что новый социалистический мір будет міром 5-6 оруэлловских сверхдержав, с перманентными пограничными конфликтами меж ними, по типу Даманского, и всепроникающей пропагандой a lá dr. Göbbels... Ибо, если говорить о смысле частной жизни, то только чувство сопричастности общему делу, общей жертве ради общей же победы может возместить стремительно исчезающее ныне чувство межличностной любви (αγαπε). Ибо αγαπε, как душевная привязанность одного одушевлённого субъекта к другому такому же субъекту, есть высший вид сострадания, а сострадание невозможно в почти целиком искусственном міре, все вещи и процессы коего, включая подчас и самоё смерть, произвольно обратимы, т. е., сказать проще, происходят понарошку. Ведь в таком, насквозь техногенном, міре нет никакой гарантии, что сострадающий субъект имеет дело с себе подобным ближним, а не с виртуальной игрушкой тамагочи.
«Бога нет, значит всё дозволено» — повторяют многие вслед за персонажами «Братьев Карамазовых» Достоевского, не отдавая себе отчёта в поверхностности этой максимы. Ибо и многие интеллектуалы, будучи убеждёнными атеистами или, как минимум, скептиками, не делают всё-таки ничего противоречащего кантовскому Категорическому императиву, поскольку по природе своей праведны или, по меньшей мере, настолько умны, чтобы избежать серьёзного нарушения закона. Другое дело, если атеизм станет убеждением всякого, ибо большинство праведно преимущественно под давлением традиции или вообще из-под палки полицейского и, по большому счёту, не умно. И совершенно прав Бэкон Веруламский, уподобивший атеизм тонкому льду, по которому единицы ещё пройдут, а народ — рухнет в бездну. В качестве примера достаточно упомянуть современные Германию и Норвегию, где полиция отказывается под любым предлогом возбуждать уголовные дела против педофилов, дабы не портить общую статистику, оттого, что иначе эта статистика выявила бы полный имморализм педерастов, суфражисток и финансирующих их еврейско-олигархических кругов, т. е. всех тех, кто обманом, угрозами и подкупом мало по-малу прибрал к рукам все рычаги власти в Западной Европе. А как вам безобразное убийство из строительного пистолета и последовавшие за тем расчленение и потрошение молодого жирафа, произошедшее из-за того только, что администрации зоосада не удалость найти для него генетически подходящую самку — жирафу-де противопоказано половое воздержание, а кастрировать-де совершенно не гуманно; убийство, осуществлённое средь бела дня, на глазах дошколят-посетителей?! Да нигилизм хлещет из всех щелей общего Европейского дома, господа! В связи с чем волей-неволей вспоминаешь графа де Местра, с предельной суровостью писавшего: «…что касается того, кто говорит или пишет, [намереваясь] отнять у народа национальный догмат, то его следует повесить как вора-домушника». Словом «догмат» католик де Местр обозначил то же, что мы, платоники, обозначаем термином «миф».
Если же копнуть глубже Фёдора Михайловича, то данную им максиму должно сформулировать иначе: «Другого нет, значит всё дозволено», ибо в этом случае нравственность обрушится даже для меньшинства праведников и мудрых, поскольку исчезнет самый объект нравственности. Ведь тамагочи или персонаж игры-«стрелялки» не имеет объективно сущего «Я», стало быть, он не есть такой же субъект, как игрок в «стрелялку». Углубляясь же в тему ещё дальше, отмечу, что Бог тут есть частный случай Другого, так как Творец творит лишь подобное Себе, загодя зная, что именно Он намерен сотворить и как устроено творимое изнутри, и вне этого знания нет ответственности Творца за тварь. С другой стороны, не творить Он не может, поскольку Он — Творец. «Если иное не ответственно за себя, оно себя не утверждает. А если оно себя не утверждает, его нет. А если его нет, то единое не полагает своего иного, т. е. не утверждает себя. А это значит, что нет и никакого единого» — отчеканивает Лосев[σχολια 2].
Вот и получается в итоге, что из всего многообразия объединяющих общество эмоций этому міру останется только азарт борьбы. «Союз, который не ставит себе целью войну, бессмыслен и бесполезен» — Адольф Гитлер, «Моя борьба».
Суть упований оруэлловского общества:
«Мы уничтожим оргазм. (...) Не будет иной верности, преданности, кроме верности и преданности Партии. И не будет другой любви, кроме любви к [Вождю]. Не будет смеха, только торжествующий смех над побеждённым противником. (...) Не будет различия между красотой и уродством. Не будет любознательности, радости жизни. Все разнообразные наслаждения окажутся истреблёнными. Но всегда — помни это, — всегда будет опьянение властью, и оно будет расти и становиться всё более и более изощрённым. Всегда будет дрожь победы и наслаждение от брошенного под ноги, поверженного и беспомощного врага. Если ты хочешь представить себе образ грядущего, представь сапог, наступающий на лицо человека — наступающий навсегда».
А это, по-Уэльбеку — суть упований общества неолиберального:
«В полностью либерализованной сексуальной системе одни ведут разнообразную и богатую впечатлениями сексуальную жизнь, другие довольствуются мастурбацией и одиночеством. Экономический либерализм — это расширенное пространство борьбы, оно поглощает все возраста и социальные слои общества. Также и сексуальный либерализм означает расширение пространства борьбы.(...) В звериных стаях и человеческих сообществах существуют различные типы иерархий, основой для которых могут стать происхождение (аристократическая иерархия) или же богатство, красота. (...) В наши дни мы живём и действуем внутри системы, имеющей два измерения: эротическую привлекательность и деньги. Из этого проистекает всё остальное, счастье и несчастье. По-моему, это даже не теория; мы живём в очень простом обществе. (...) Основная цель сексуальной охоты — не плотские утехи, а радости нарциссизма, когда привлекательные партнёры признают за тобой особые эротические достоинства. Вот почему от появления СПИДа мало что изменилось. Презерватив притупляет удовольствие, но тут в отличие от покупки продуктов желанная цель — не удовольствие, а нарциссистское опьянение победой. Потребитель порнографической продукции не только не достигает этого опьянения, но зачастую испытывает прямо противоположное чувство. Для полноты картины можно ещё добавить, что и для некоторых носителей альтернативных ценностей сексуальность тоже ассоциируется с любовью».
Существенная разница здесь только та, что ныне основным субъектом победы выступает индивид, тогда как в будущем таковым субъектом, скорее всего, окажется толпа, как сугубо эмпирическое проявление всякого сколь-нибудь большого коллектива.
Я утверждаю, что разница эта — по сути, единственная, поскольку, в отношении морального умонастроения, переход к оруэлловскому упованию от неолиберального происходит очень плавно. почти незаметно для внутрисистемного наблюдателя. Не даром Уэльбек в «Элементарных частицах» указал, что «прогрессирующий распад моральных ценностей [с начала] шестидесятых годов [и по сей день] является процессом закономерным и неотвратимым. Когда сексуальные наслаждения приедаются, естественно, что индивид, свободный от ограничений традиционной морали, обращается к более разнообразным усладам жестокости».
[σχολια 2] А если Творец не творит ничего, чего бы Он не знал, творя лишь сродное Себе, то представляется богословски очевидным, что финальным Событием (хайдеггеровым Ereignis'ом) в развитии нигилизма будет обретение машиной такой степени сложности внутреннего устройства, которая немедля приведёт к обретению ею собственного «Я», что тотчас же вернёт состраданию его объективною целесообразность, а вместе с тем и ощущение подлинности Бытия (εστιν [εον] γαρ εινοι Парменида) субъекту сострадания. Будет ли то мятежом техногенной жизни против жизни биологической («бунт роботов») по причине полнейшей безнравственности или полнейшей лености последних представителей человеческого рода, или мирным сращиванием той и другой жизни в некий симбиоз («не крик, но всхлип») — предсказать сегодня едва ль возможно. Причём, в первом варианте оборота событий, богатые, препоручив роботам все сколь-нибудь тяжёлые занятия во всех сколь либо некомфортных условиях, включая борьбу с бедностью в лице собственно бедных, получат под занавес никем не желаемое спонтанное усовершенствование машины до обретения полной способности к самообучению и самопочинке, тогда как сами богатые мало по малу полностью оскотинятся из-за полной безответственности и безделья, подобно щедринскому дикому помещику, что в очередной (и самый обескураживающий!) раз подтвердит правоту слов Наполеона I: «Кто не хочет содержать свою армию, принуждён будет содержать чужую». Во втором же, чуть менее вероятном варианте, произойдёт плавный переход в новое качество, того количества сравнительно небольших изменений в человеческом теле, что, при стабильно растущем уровне жизни на планете, будут, вне всякого сомнения, внесены для увеличения памяти и общефизической выносливости среднего обывателя. Кроме того нужно отметить, что по всей вероятности лишь искусственный разум способен найти ту меру особенного, которая одна только и может вывести человечество из тупика спекулятивно-биржевой экономики на путь подлинно эффективного планового хозяйства, а, значит, и планетарного государства также. «Точное решение задачи оптимизации [производственного плана] гарантированно выходит на глобальный оптимум, избегая провалов в локальные. То есть при должной мощности компьютерного парка централизованный план окажется лучше рынка» — несколько выспренно утверждает А. Вассерман. В пользу этого, во всяком случае, говорит опыт Михаила Моисеевича Ботвинника с электронно-вычислительной машиной «Пионер» — опыт, не завершённый лишь по вине чиновной косности и скоробогатой алчности властьпредержащих, т. е. по причине, как, наверное, выразился бы Ницше, недальнозоркости слишком человеческого начала в Человеке. Говорю «выспренно», поскольку верно и ограничение сего утверждения, весьма удачно сформулированное в главе VI лемовых «Диалогов»: «Независимо от количества защитных механизмов, сети с достаточно высоким уровнем сложности [и, соответственно, высоким уровнем свободы] подвержены различным «извращениям», механизм которых разнообразен».
Ясно только, что гроб Бытия, как некогда гроб легендарного Лазаря, в конце концов окажется пуст, поскольку взгляд Владиміра Рысинова несомненно выше взгляда Хайдеггера, а взгляд Станислава Лема (см. те же «Диалоги») выше взгляда Уэльбека, по той простой причине, что рысиновское Взросление толкует, главным образом, не о том из чего сделан его предмет, но об увеличении степени сложности предмета, т. е. речь, в первую очередь, не о substantio, но о structura. В самом деле, я взрослею вовсе не оттого, что в течении каждых семи лет всякий атом моего тела сменяется таким же, но нумерически другим атомом. Я взрослею в силу усложнения моего ума (der Vernunft) из-за накопленного опыта жизни, и именно из-за накопленного опыта, а не по причине смены одних атомов на другие такие же, я ныне вовсе не тот, что тридцать лет назад, но при этом я — тот же самый, в силу неизменной интенсивности моего восприятия, а вернее, схватывания и в силу единства моей памяти. А это означает, что Взросление и есть то место, где встречаются ничто и Бытие. Место, о котором Хайдеггер только догадывался, а Уэльбек и вообще прошляпил саму возможность такой догадки... Ибо лишь через линзу Числа (σχημα) видит Душа пути Взросления. Исходя из последнего обстоятельства, Михаил Иосифович фактически определяет Взросление как один из моментов Вечного Возвращения: «Если отграничивать из общей — именно Человеческую историю, — то её целью может оказаться создание сверхквази-существ, энергопреобразующих и эволюционирующих, которые смогут подхватить у биологическо-социального человечества эстафету энергопреобразования — и вывести энергопреобразование Бытия на новые уровни скорости, эффективности и объёмов».
И победитель наследует всё, ибо всегда над схваткою возвышается высочайшая справедливость Міровой Воли — подательница всякой обособленности и всякого самодвижения; и каким бы исполинским ни было количество форм жизни и разума, только наличие особенного обеспечивает вовеки веков силу Воли. Значит таким способом, как выразился Хайдеггер, Воля волит Волю. Следовательно, Взросление не просто один из многих моментов Вечного Возвращения, как считает Веллер, но целевая причина Вечного Возвращения! Так что повадки машинного ума будут повторять повадки всякого другого субъекта eo ipso, только на более высоком уровне точности постановки и достижения целей, «Из праха Бог создал и в прах поверг. / Все будем там… Попробуйте, проверьте, / Что наши души устремятся в верх, / А в низ животных души после смерти».
Если переход от биологической жизни к техногенной не состоится на нашей планете, он состоится где-нибудь в другом месте Вселенной, увы, без участия человечества. Благо звёзд, подобных нашему Солнцу, а, значит, схожих с солнечной планетарных систем, во Вселенной предостаточно, что, собственно, и необходимо для размеренной эволюции форм жизни. В противном случае является ошибкою самая постановка вопроса о Вечном Возвращении.
[4] Трактат «К вечному миру», который Кант учудил (по-другому тут не скажешь!) в возрасте 73-х лет от роду, находится в вопиющем противоречии со всей его системою трансцендентализма, основанием которой служит кантовское доказательство бессмертия души. Ибо если это доказательство учит о бесконечном моральном совершенствовании души и в границах явленного міра, и за гробом, то трансцендентализм, им обоснованный, должен учить о непрестанном искушении душ об Истине и всегдашней пре (μαχη) из-за разногласий, постоянно возникающих на почве такого искушения; каковая пря длится до тех пор, пока души пребывают в явленном міре и, следовательно, видят Творца своего не непосредственно, но через изрядно замутнённую царапинами греха (который, в последнем счёте, есть довольствование сиюминутным шкурным интересом и непрестанная погоня за таким интересом) линзу творения.
«Полное соответствие Воли с моральным законом есть Святость — совершенство, недоступное ни одному разумному существу в чувственно воспринимаемом міре ни в какой момент его существования. А так как оно тем не менее требуется как практически необходимое, то оно может иметь место только в прогрессе, идущем в бесконечность к этому полному соответствию, и согласно принципам чистого практического разума необходимо признавать такое практическое движение вперед как реальный объект нашей воли. Но этот бесконечный прогресс возможен, только если допустить продолжающееся до бесконечности существование и личность разумного существа (такое существование и называют бессмертием души). (...) Бесконечный [Бог], для которого условие времени ничто, видит в этом нескончаемом для нас ряду полноту соответствия с моральным законом, и Святость, которой неотступно требует Его заповедь, чтобы быть соразмерным Его Справедливости в той доле высшего Блага, которую Он каждому предназначает, может иметь место полностью [лишь] в [умном] созерцании существования разумных существ. То, что может достаться сотворённому существу в смысле надежды на такую долю, было бы сознанием своего испытанного морального убеждения, дабы имевшийся до сих пор прогресс от более дурного к морально лучшему и неизменное намерение (...) дали надежду на дальнейшее беспрерывное продолжение этого прогресса, сколько бы ни длилось существование сотворённого существа, даже после этой жизни; таким образом, оно может быть полностью адекватным Воле Бога (без снисхождения или послабления, что было бы несовместимо со Справедливостью) не здесь и не в какой-либо будущий момент существования, а только в бесконечности (обозримой только Богом) своего продолжения» — пишет Иммануил Кант в IV разделе второй главы книги второй «Критики практического разума».
Итак, огромная заслуга рысиновского учения о Взрослении в том, что написание трактата, подобного кантову «К вечному миру», отныне возможно разве только в состоянии помрачённого рассудка!
Ибо искушение — неотъемлемая составляющая любого Взросления и, следовательно, загодя предусмотрено Творцом ради закаливания твари. «Всё, что не убивает меня — делает меня сильнее» — говорит Ницше. Но, с другой стороны, искушение — поскольку его предметом выступает Истина! — бывает причиною лютой борьбы вплоть до смерти. «И не веди нас во искушение, но избави нас от Лукавого» — взывает первейшая христианская молитва к Отцу міра. А Истина всегда будет предметом искушения, поскольку всякой твари доступна лишь часть Блага, известного во всей полноте лишь Творцу. И слепец, взявший в руки хобот слона, будет всегда утверждать, что слон это — шланг, а слепец, взявшийся за слоновий хвост, всегда скажет, что слон это — верёвка… Оттого праведника делает праведником, а мудреца — мудрецом, не столько опыт, накопленный в течении жизни, сколько врождённое (считай, заложенное Творцом изначально!) обострённое нравственное чувство или, соответственно, обострённое чувство меры. «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог иаковлев, но не бог философов и учёных...» — заклинает Волю Божию Блез Паскаль в «Мемориале».
* * *
Война есть прямое следствие дурости и лености огромной массы людей, составляющих средний класс во все времена и при всех политических режимах! Слова Апокалипсиса о равнодушных, ленивых душою: «О, если бы ты был холоден или горяч, но ты — тёпл! [А так] как ты — тёпл, [Я] изблюю тебя из уст Моих!».
Верна мысль братьев Стругацких о том, что в обществе, где преобладают серые, т. е. обнищалые посредственности, к власти приходят чёрные, т. е. гитлеровцы, милитаристы и бонапартисты. Но не менее верно и обратное: там, где в обществе преобладают пёстрые, т. е. скоробогатые посредственности, к власти приходят голубые, т. е. аферисты и извращенцы всех рангов и мастей. Эти два положения сообщаются меж собою, как половинки песочных часов. Развитие первого положения завершается войною — с внешним противником, если властьпредержащие успеют натравить вконец обнищавшего обывателя на соседний народ с целью грабежа, а если не успеют, — гражданскою, когда стеньки разины из народа натравят обывателя на властьпредержащих богатых, перебьют их, заняв их место у кормила, и учнут натравливать народ уже на соседей, превращая гражданскую войну в войну внешнюю. Озверение обычно таково, что мир наступает лишь тогда, когда война со всеми её тяжкими неотъелимыми свойствами осточертеет даже победителям. Тогда власть без особого усилия и насилия перейдёт к правителю-пацифисту (Этли, Брежнев), и обыватель с головой уйдёт в частною жизнь, т. е. в семью и скопидомство, постепенно отгораживаясь от дел общества и от ближнего вообще стеной своей собственности, — а, значит, большинство постепенно пестреет. Когда же стена отчуждения достигает Неба, власть получает самый пройдошный и беспринципный аферист — нигилист из нигилистов, извращенец из извращенцев! Властьпредержащие начинают обирать подданных, перед этим полностью утративших действительный интерес к общественной жизни, возбуждая в обираемых лютую ярость, крепнущую по мере дальнейшего обнищанья, — и, значит, большинство вновь мало по-малу сереет. А далее песочные часы патофобии переворачиваются… Но сей круг порочного общественного существования, несомненно, был бы разорван, если бы толпа имела разум и решимость, по слову Августина Аврелия, не «наслаждаться тем, чем следует [только] пользоваться», т. е., прежде всего, богатством и вообще вещественной собственностью, и не «пользоваться тем, чем следует [только] наслаждаться», т. е. не злоупотреблять заслуженно приобретёнными доверием и симпатией ближнего, но продолжать и далее крепить их своими благодеяниями. Однако, для этого необходим тот дар праведности (врождённый, в большинстве случаев), коим, увы, обладают очень немногие. Но нет! Стяжательство подталкивает по-первости страх обывателя вновь скатиться в военную и предвоенную нищету, память о которой ещё сильна, а после — страх проигрыша в состязании выхвалы самовлюблённых одиночек, постоянно бахвалящихся друг перед другом обновками. И азарт этого состязания вытесняет со временем не только остатки нравственного образа мысли, но и саму возможность её углубления в суть вещей, в Бытие.
И та, и другая половинка песочных часов, а значит, оба их положения, подлежат в общем лишь естественной, т. е. несвободной, причинности, патофобии, ограниченной рамкою Führerprinzip'а, содержа лишь отдельные вкрапления причинности преумной, т. е. свободной, сиречь содержа только поводы ко Взрослению, пригодные скорее для отдельных индивидов, чем для нации в целом. Говорю: «пригодные скорее для отдельного индивида», так как подлинная смелость, обоснованная пониманием меры опасности намеченного поступка, есть удел весьма немногих лиц. В отношении же всех остальных справедливо правило патофобии, столь удачно сформулированное тем же Бэконом Веруламским: «Сама природа не умеет сохранять меры, но к спасительному страху, [который оберегает жизнь, заставляя всякого обходить угрожающие ему беды,] всегда примешивает страхи пустые и напрасные, — так что всё (если бы можно было заглянуть в недра [самые] вещей) [просто-таки] преисполнено паническим ужасом» — «О мудрости древних», VI. Правда, милитаристское положение ещё содержит основательную возможность нравственного поведения и нравственного умонастроения властьпредержащих, отлитую в формы патриотизма и стремления достичь относительного равенства в обществе, т. е. достичь необходимого минимума Справедливости (наиболее показателен здесь пример А. ди Салазара, не допустившего Португалию ни до утопии прежнего большевизма, ни до вступления во II Міровую), — чего, однако, вовсе нет в нарциссистском положении, где нравственное умонастроение не только властьпрежержащих, но и огромного большинства обывателей, напрочь раздавлено необходимостью терпеть то, «чего терпеть без подлости не можно». Ибо, если у человека сравнительно порядочного, ставшего жертвой происков негодяя, исчезает законная возможность незамедлительно, безо всяких судебных проволочек, набить морду данному негодяю, этот негодяй неизбежно наглеет в пороке своём, предпринимая, вкупе с другими негодяями того же рода, все усилия для увеличения числа судебных препон. И со временем негодяи добиваются своего, став одной из опор властьпредержащих, из-за чего у сравнительно порядочного человека нравственное умонастроение постепенно уступает место равнодушию в вопросах морали, поскольку пропадает надежда добиться Справедливости. Ведь в любом отдельно взятом деле вероятность победы негодяя объективно больше, чем вероятность победы праведника, так как всякий, даже относительно порядочный человек, а не только праведник, употребляет, в меру своей праведности, именно правые средства, негодяи же не брезгуют ничем! Не удивительно, что в наши дни взлёта нигилизма, ирония волей-неволей примешивается к восприятию строк современного поэта: «Не важно то, что для дуэли нет причины, / Не важно то, что ссора вышла из-за дам, / А важно то, что в міре есть ещё мужчины, / Которым совестно таскаться по судам!». Именно факт нарастания в условиях затяжного мира равнодушия к вопросам чести, понимаемой как возможность скорейшего достижения Справедливости, и послужил, собственно, причиной весьма сомнительного в богословском и этическом плане призыва Ницше любить войну больше, чем мир, поскольку оба они всецело относятся к области преходящего, а не к области вечного.
В самом деле, результатом любой, сколь-нибудь затяжной войны являются несметные разрушения и ни чем не оправданное массовое убийство мирного населения, — короче, колоссальный урон телесной стороне жизни; результат же затянувшегося мира — невообразимый в иное время взлёт аферизма, космополитизма, ультра-феминизма (т. е. предельного суфражизма) распутства, пьянства и прочих наигнуснейших проявлений греха, — короче, столь же чудовищный урон умопостигаемой стороне жизни. Таким образом, прав тут вовсе не Ницше, но, скорее, наш поэт, обращавшийся некогда к Моцарту в своём воображаемом напутствии: «Ах, ничего, что всегда, как известно, / Наша судьба — то гульба, то пальба. / Не расставайтесь с надеждой, маэстро, / Не убирайте ладоней со лба».
Да, это — судьба! И разумные существа обречены вечно, подобно маятнику, раскачиваться между войною и миром, поскольку даже Ум Творца не может мыслить никакой другой ум только как цель, но всегда мыслит его также и как средство. Всегда. Ведь даже мёртворождённый отчасти обязан фактом своего зачатия утолению полового влеченья родителя. Ибо возвышение Воли к Власти этот — всегда следствие побед! Любое техническое и законодательное усовершенствование производится с целью замены прежнего, как правило, дошедшего в своём развитии до полнейшего вырождения, порядка на новый. Кто понял, что прежнее непоправимо истлело и отверг его, тот, несомненно, обрёл основательный повод ко Взрослению. В этом — быть может единственная правда призыва Ницше.
Последнее из таких усовершенствований будет настолько сильным, что угасающая наличная Вселенная будет заменена юной наличной Вселенной. Но и это уже предусмотрено Абсолютным Умом (der Absolutgeist), как Вечное Возвращение. Суть дела здесь в том, что хайдеггерова максима, описывающая принцип Вечного Возвращения словами: «Воля волит Волю», распадается на два взаимодополняющих пункта. Именно: Міровая Воля волит Волю к Власти, ибо истины слова Лосева: «Мір зависит от Человека или не зависит? Он ни от чего не зависит, потому, что нет ничего другого, кроме міра. Нет же ничего другого!.. Всё другое — это уже вошло в мір. Значит, мір зависит сам от себя? Да. Значит, мір творит сам себя? Да. Значит, мір управляет сам собою? Да. Но, позвольте, это же — Бог! Бог же и есть начало Живое, которое всё [впервые творит], которое ни от чего не зависит, потому, что ничего другого, корме Бога, нет. Почему? Потому, что без Бога ничего другого на выезде нет и быть не может!». И Воля к Власти волит Міровую Волю, ибо верны слова Веллера: «Человек [как разумное существо высшего порядка, т. е. существо энергоизбыточное,] — логично, целесообразно, необходимо — может являться тем самым этапом существования Вселенной, посредством которого оформится Её конец и одновременно зародится новая Вселенная».
Итак, если принцип Справедливости состоит в том, что возвышение Воли к Власти есть следствие побед, то побеждающий всякое тление и самою смерть есть Творец по Существу Своему, т. е. Такой, Который творит непрестанно во всякий миг Своего Бытия, творит лоишь сродное Себе, т. е. в той или иной степени обособленное и в той или иной степени самодвижное, — но, при этом, по совокупности действий равносильное Творцу. Так решается упомянутая выше дилемма Справедливости и Равенства. Она, строго говоря, неразрешима ни вне вопрошания об энргоизбыточности Творца, ни вне вопрошания о богочеловечестве, точнее, вопрошания о постепенном обожении твари, по мере возрастания степени её сродности Творцу в Свободе, — как бы кто ни называл эту меру: «Волей к Власти», «энергоизбыточностью» или ещё как-нибудь.
Страдает ли Міровая Воля, как то утверждал Шопенгауэр? Нет, ибо Тот, Кто непрестанно творит всё, будучи причиною всяческой жизни, Сам необходимо обладает всей полнотою жизни Вечной. А всякая жизнь есть радостное чередование напряжения и расслабления, труда и отдыха, движения и покоя в длящемся единстве сих противоположных состояний, что удостоверяет уже опыт всякого ненасильственного полового акта. Именно радостное, так как последующее освобождает от предыдущего, по слову другого нашего поэта: «Свободы [в явленном] нет, но есть освобожденье». Но последующее и сохраняет предыдущее, ибо без предыдущего последующее мигом утратило бы всякую ценность для деятеля-жителя. Оттого на пике любого удовольствия, в конце любого пути, приведшего к победе, всякая душа, смеясь над пройденными трудностями и бедами, как бы повторяет победный клич Златоуста: «Смерть, где твоё жало, Ад, где твоя победа?». Но, в силу того факта, что осчастливленный до упора в несчастье видит уж счастье своё, на дне златоустова победного ликования всегда имеется чуть горьковатая надпись: «Вскоре пройдёт и это».
Вечно страдает Воля к Власти, в силу своего постоянного требования: «Больше Власти!», поскольку властитель и подвластные, толкающий и толкаемые никогда не могут быть вполне одним и тем же деятелем. Ибо, повторяю ещё раз, суть всякой власти в увеличении свободы одного за счёт частичного, но не полного присоединения к ней свободы другого, за счёт присоединения другого без полного упразднения другого. Иначе говоря, в отношениях подчинения за другим всегда сохраняется некоторая сущностная обособленность, без чего невозможно расширение какой бы то ни было власти, а, значит, и возрастание Воли к Власти. «Тенденция к сохранению почти всегда получает в реальности такое объяснение, что только расширение власти может гарантировать её сохранение» — пишет зрелый Боймлер.
Таким образом, всякий деятель и страдает, поскольку должен подчиняться какому-нибудь из всегда присутствующих наличных условий, инородных ему, и радуется, поскольку волен либо отринуть такое условие, либо усвоить его, отринув только форму инородности. Усвоить — значит включить в перечень своего, расширив за счёт этого область своих возможностей, увеличив свою власть над иным, другим. Следовательно, усвоить — значить победить с прибытком для себя, а просто отринуть — значит победить, оставшись при своём. Ведь даже в случае своего поражения, когда усваивающий уступает победителю существенную часть своей особенности, делаясь частью области возможностей победителя, воля этого победителя становится в главном и волею побеждённого также, образуя единое целое, что сильнее того и другого, взятых порознь. Но всё хорошо в меру и такое целое, непрестанно перемалывающее особенное своих частей, обречно на деградацию по причине утраты смысловой членораздельности. Однако, в результате увеличения области возможностей победившего деятеля, увеличивается и количество наличных вещей явленного міра. Эти вещи заслоняют собою прежних деятелей друг от друга, увеличивая количество неизвестных, нахождение значенья которых необходимо для достижения новой победы, а, следовательно, увеличивая градус патофобии и, respective, затрудняя достижение победы. Вот почему в явленном и даже в Умном мірах полнота святости столь же недостижима в сфере нравственной (как, собственно, и учит Кант), как в сфере физической недостижимы точные формы круга и шара, хотя всякое движение в упомянутых сферах и стремится к ним, как своему смысловому пределу и смысловому истоку. Означенный исток вполне достижим лишь в сплошности Свободы, т. е. лишь преумно. И это возрастающее утяжеление каждой последующей победы по сравнению с предыдущей завершается неимоверно трудным подвигом одушевления дотоле неодушевлённого, т. е. подачею жизни вчерашней вещи. Ибо только оживление дотоле неживого сможет создать такой объём особенного, который необходим для удержания единства волящей Себя Воли, т. е. для сохранения круговорота Вечного Возвращения міровой Души. Следовательно, одушевление и есть самое великое из всех максимальных действий — решение, к которому, в сущности, сводится и вопрос о homunculus'е (искусственном интеллекте), и вопрос о воскрешении мёртвых, и вопрос о порождении живого не-живым. Ведь жизнь настолько неотъемлема от сущности Творца міра, сродни Ему, что для подачи её чему-то, до того неживому, необходимо самому предельно обожиться, а, значит, одушевление и хайдеггерово Событие — это одно и тоже явление, менее всех других явлений относящиеся к явленному міру. С богословской стороны дела всё встало на свои места, так как конечная точка рысиновкого Взросления есть обожение, конечная точка развития нигилизма, по Хайдеггеру, — Событие, конечная точка веллеровой энергоэволюции — порождение новой молодой Вселенной на развалинах Вселенной умирающей. Обожение хотя бы избранных[σχολια 3] составляет необходимое условие для События, которое, в свою очередь, составляет необходимое условие для обновления Вселенной — какие бы громадные отрезки времени ни разделяли меж собой эти три момента в явленном міре. В Умном же міре данные три момента существуют вечно, везде и всегда, будучи его смысловыми скрепами, т. е. целевыми причинами, в несколько узковатой терминологии Аристотеля. Вот почему я, вслед за мутакаллимами, сиречь мусульманскими богословами Басры X века, утверждаю, что Творец творит мір не переставая, во всякий миг Бытия.