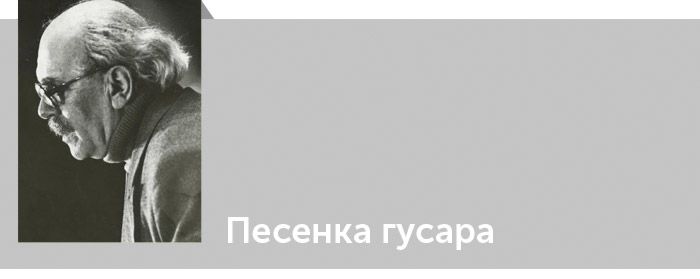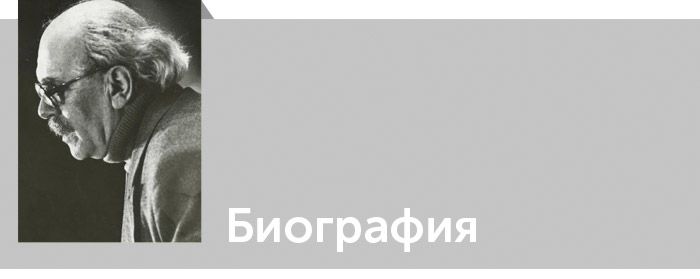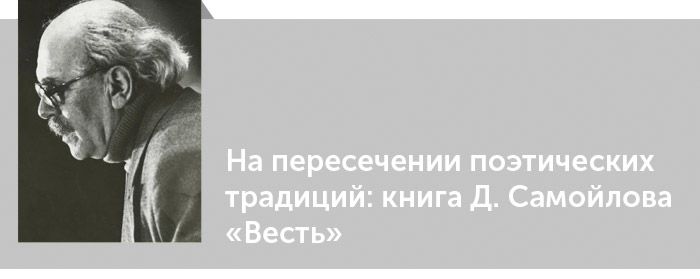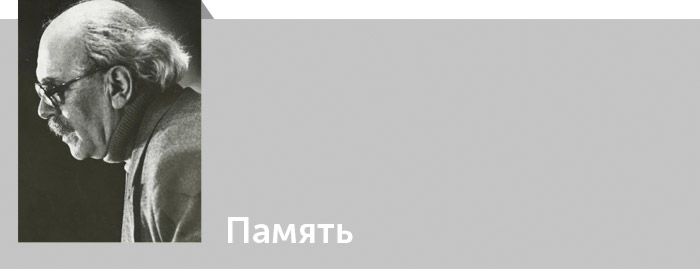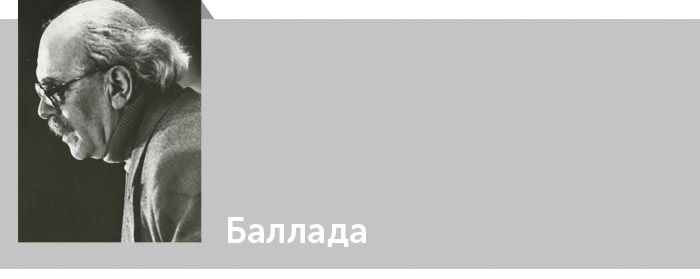Особенности включения пушкинского «слова» в книге Д. Самойлова «Дни»

УДК 821.161.1
Н.К. Солошенко-Заднепровская
В статье рассматривается одна из «пушкинских» поэтичних книг Д. Самойлова «Дни» и устанавливаются особенности привлечения пушкинского интертекста. Д. Самойлов актуализирует важнейшие для современности темы, рассуждает об истории России, народе, русской культуре и литературе, используя такие формы интертекста, как реминисценции и аллюзии, которые вызывают низкую ассоциацию текстов.
Ключевые слова: интертекст, реминисценция, аллюзия, поэтический диалог.
У статті розглядається одна з «пушкінських» поетичних книг Д. Самойлова «Дни» та встановлюються особливості залучення пушкінського інтертексту. Д. Самойлов актуалізує найважливіші для сучасності теми, розмірковує про історію Росії, народу, російську культуру та літературу, використовуючи такі форми інтертексту, як ремінісценції та алюзії, які викликають низку асоціацію текстів.
Ключові слова: інтертекст, ремінісценція, алюзія, поетичний діалог.
The article considers one of the “Pushkin” poetic book of D. Samoilov “Dni” and settles peculiarities of engaging of Pushkin’s intertext. D. Samoilov makes actual the most important topics for modern times, discusses upon Russian history, people, Russian culture and literature, using such forms of intertext as reminiscence and allusions, which cause the low association of the text.
Кey words: intertext, reminiscence, allusion, poetic dialogue.
В интервью «Литературной газете», которое брала у Д. Самойлова И. Ришина, поэт признавался, что новый для него период начался книгой «Дни». Как отмечал В. Баевский, здесь произошел «поворот к преобладанию медитативной лирики, к психологической изощренности, к обобщениям философского характера. Будем помнить, что Самойлову несвойственны резкие сломы творческой манеры, для его поэтического пути характерна постепенная эволюция, неспешное перетекание одного качества в другое» [17, с. 127]. В 1972 г. в свет вышел сборник «Равноденствие», включавший стихотворения из прежних сборников, а в 1974 – «Волна и камень», один из лучших и «пушкинских» сборников стихов поэта. Но уже в «Днях» пушкинская тема и формы ее воплощения существенно изменились по сравнению с ранней поэзией. Цель данной статьи состоит в том, чтобы определить особенности включения пушкинского «слова» в этой книге стихов поэта. К сожалению, до сегодняшнего дня эта тема оставалась, в сущности, вне поля зрения исследователей.
Эта книга стихотворений поэта вызвала восторженные отклики его друзей, которые в своих письмах называли произведения, понравившиеся им больше всего. Среди них – немало стихотворений «пушкинских». Так, например, Б. Чичибабин писал, что для него и его жены произведения поэта являются «большим праздником», а в прочитанной книге «Дни» «…есть стихи, читая которые, хочется кричать и смеяться от восторга и счастья, как “Пестель, поэт и Анна”, “Смерть поэта”, “Красота”, “О март-апрель”, “Голоса”, “Выезд”, “Гончар”, “Фотограф-любитель”, “Советчики”, “Вода моя”, “Конец Пугачева” и еще добрый десяток других, есть, которые нам нравятся меньше, вроде стихов, навеянных “Солярисом”, “Гамлета” или “Эстрады”, но в ней нет ни одного плохого стихотворения» [1, с. 47]. Как видим, Б. Чичибабин выделил стихотворения «Фотограф-любитель», «Пестель, поэт и Анна», «Конец Пугачева», которые занимают свое место в пушкиниане Д. Самойлова.
Сюжет стихотворения «Фотограф-любитель» прост: фотограф снимает себя на различном фоне и таким образом «пишет, бедный человек, / Свою историю простую, / Без замысла, почти впустую / Он запечатлевает век» [18, с. 121]. Одним из объектов фотографирования является и памятник Пушкину: он снимает «На фоне Пушкина – себя» [18, с. 121]. Несмотря на простоту поэтической ситуации, завершается стихотворение философским обобщением о бренности человеческой жизни и стремлении человека познать ее смысл:
Кто научил его томиться,
К бессмертью громкому стремиться,
В бессмертье скромное входя? [18, с. 121].
Современник Д. Самойлова Б. Окуджава пишет свое широко известное стихотворение, используя не только подобный сюжет, но даже часть цитаты: «На фоне Пушкина снимается семейство». Это стихотворение, немыслимое без музыки, что свойственно вообще авторской песне, близко к самойловскому по характеру осмысления жизни. Хотя оно посвящено другу Б. Окуджавы, вернувшемуся из заключения, в нем выражен особый тип отношения к бытию целого поколения: «Все счеты кончены, и кончены все споры»:
…Как обаятельны (для тех, кто понимает)
Все наши глупости, и мелкие злодейства,
На фоне Пушкина! И птичка вылетает [7, с. 259].
У Д. Самойлова ответ на вопрос остается открытым, у Б. Окуджавы, напротив, слышится утверждение – «Мы будем счастливы (благодаренье снимку!). / Пусть жизнь короткая проносится и тает. / На веки вечные мы все теперь в обнимку / На фоне Пушкина! И птичка вылетает...» [7, с. 259]. Фотография навсегда зафиксирует тот счастливый момент, когда люди были вместе, они останутся на снимке радостными и счастливыми. В отличие от стихотворения Д. Самойлова, у Б. Окуджавы акцентируется, что преходящее и вечное протекает «на фоне Пушкина», он как бы отсчет и мерило для всего, что происходит.
Еще одно стихотворение сборника «Дни», написанное на «пушкинскую» тему, – «Конец Пугачева». Д. Самойлов посвящает его тому моменту в жизни Пугачева, который в «Капитанской дочке» Пушкина не описан: его поимке. Однако этот эпизод есть в пушкинской «Истории Пугачева», и, думается, стихотворение написано под влиянием этого текста. Так, Пушкин пишет: «Пугачев сидел один в задумчивости. Услышав вошедших казаков, он поднял голову и спросил, чего им надобно? Они стали говорить о своем отчаянном положении и между тем, тихо подвигаясь, старались загородить от висевшего его оружия. Пугачев начал опять их уговаривать идти к Гурьеву городку. Казаки отвечали, что они долго ездили за ним и что уже ему пора ехать за ними. ”Что же? – сказал Пугачев, – вы хотите изменить своему государю?” – ”Что делать!” – отвечали казаки и вдруг на него кинулись. Пугачев успел от них отбиться. Они отступили на несколько шагов. <…> И, подозвав своего любимца, илецкого казака Творогова, протянул ему свои руки и сказал: ”вяжи!”» [14, с. 85]. Именно этот момент «Истории Пугачева» поэтически осмыслен у Д. Самойлова. Им создан образ мятежного, но понимающего свою участь Пугачева: «Ты зови меня Емелькой, Не зови меня Петром.
Был, мужик, я птахой мелкой,
Возмечтал парить орлом…» [18, с. 139].
Вместе с тем выскажем предположение, что «Конец Пугачева» ритмически, интонационно и тематически близок «Бесам» Пушкина. Во всяком случае, стихотворение написано не только хореем, как пушкинские «Бесы», но в нем использовано словосочетание из этого произведения. Напомним первую пушкинскую строку: «Мчатся тучи, вьются тучи...» [13, с. 328]. «Конец Пугачева» начинается так: «Вьются тучи, как знамена, / Небо – цвета кумача» [9, с. 138]. Д. Самойлов, как и Пушкин, использует возможности прямой речи, что помогает передать напряженный диалог. У Пушкина:
«Эй, пошел, ямщик!» –
«Нет мочи: Коням, барин, тяжело,
Вьюга мне слипает очи,
Все дороги занесло;.. [103, с. 329].
У Самойлова: «Говорит: ”У всех достану / Требушину из пупа…”» [9, с. 138], «Поп ему: ”Послушай, сыне!..”» [9, с. 138], «Как поднялся царь Емеля: ”Гей вы, бражники-друзья!..”» [9, с. 138] и пр. В отличие от пушкинского стихотворения, Д. Самойлов не использует повторы, усиливающие в «Бесах» ощущение кружения, плутания, но в интерпретации образа Пугачева он к Пушкину, безусловно, близок. Пугачев у Д. Самойлова – «стархолюдина-бандит», «бородатый, пьяный в стельку» мужик с огромной физической силой: «Как ударил кулаком, / Конь встряхнул у коновязи / Под ковровым чепраком» [9, с. 138]. Когда появляются его «князи и графья», он понимает, что предан:
Как его бояре встали
От тесового стола.
«Ну, вяжи его, – сказали, –
Снова наша не взяла» [9, с. 139].
Напомним, что ощущение будущего предательства есть у Пугачева в «Капитанской дочке», а в «Истории Пугачева» оно прямо выражено: «”Я давно видел вашу измену”, – сказал Пугачев» [14, с. 85]. Обратим внимание и на слово «вяжи», которое есть и в стихотворении, и в «Истории Пугачева». Д. Самойлов, по нашему мнению, находился под влиянием пушкинской концепции образа Пугачева, выраженной и в «Капитанской дочке», и в «Истории Пугачева», но поэтический строй его стихотворения близок пушкинским «Бесам». Интересно, что, по словам самого Д. Самойлова, стихотворение о Пугачеве под первоначальным названием «Емелька» он написал после неприятного для него телефонного разговора с Б. Слуцким. По этому поводу В. Баевский пишет: «… мы не могли бы подумать, что побудительным толчком послужил телефонный разговор, после которого захотелось показать, насколько художественный анализ истории может быть эффективнее злободневных откликов» [2, с. 109]. В качестве еще одного примера взаимодействия «литературного» и «бытового» исследователь приводит поэтическую перекличку между Д. Самойловым и Е. Евтушенко по поводу стихотворения «Матадор». В. Баевский предполагает, что оно повлияло на замысел поэмы Е. Евтушенко «Коррида». Диалог двух поэтов хорошо описан в монографии исследователя [2, с. 108], мы же обратим внимание на одну строфу поэмы Е. Евтушенко.
…блещут ложи,
платочками белыми плещут.
Сколько лет
продолжается этот спектакль-самосуд!
И полозья российских саней
по севильской арене скрежещут:
тело Пушкина
тайно с всемирной корриды везут [4, с. 77].
Это поэтическое обобщение оказывается символическим осмыслением судеб всей культуры, символом которой является Пушкин. Оно, думается, прокладывает путь и к сходному образу у Д. Самойлова в его «Святогорском монастыре» – об этом мы будем говорить ниже.
Еще одно стихотворение сборника Д. Самойлова «Дни» относится, наверное, к наиболее известным произведениям, написанным им на «пушкинскую» тему. Речь идет о стихотворении «Пестель, поэт и Анна». В. Куллэ, откликнувшийся на выход в свет стихотворений Д. Самойлова в серии «Новая Библиотека поэта», писал: «Я сознательно не обращаюсь к стихам Самойлова, ставшим хрестоматийными: “Сороковые”, “Из детства” (“Я – маленький, горло в ангине…”), “Память”, “Пестель, поэт и Анна” или “Конец Пугачева” – без них нашу поэзию второй половины истекшего столетия представить попросту невозможно» [6]. Эта высокая оценка – не дань памяти большого поэта, а констатация того, что закрепилось и в научной литературе, и в сознании читателей. Близкие Д. Самойлову люди писали ему о том впечатлении, которое оно производило еще тогда, при ранней публикации. «Поразительное стихотворение, – писал Д. Самойлову Л. Лазарев, – широкое, умное, человечное. В последнее время в нашей поэзии ничего равного твоему стихотворению не попадалось. Оно помогает подняться над той жизненной и литературной суетой, на которую мы обречены, а это бывает не так часто» [1, с. 60]. Л. Копелев, вместе с женой отправившийся в поездку из Москвы во Владивосток, с дороги посылал поэту свои впечатления: «Читаем то врозь, то вместе друг другу, снова и снова повторяем давно знакомые и всегда новые любимые стихи. Если стану перечислять, все письмо на это уйдет <…> И что про Варшаву полнее, чем в первом издании, что напечатан Лейпциг и сквозь память и “Пестель, поэт и Анна”, словом, радостей много…» [1, с. 59]. В критических отзывах предпринимались попытки его интерпретации, дана она В. Холкиным и А. Немзером в комментарии к «Собачьему вальсу». При анализе мы постараемся учесть высказанные соображения, однако представить и свой взгляд на его глубинный смысл.
Стихотворение напоминает «свернутую» поэму. В нем три содержательных плана – заданы они самим его названием. План Анны организует кольцевую композицию произведения. Оно начинается так:
Там Анна пела с самого утра
И что-то шила или вышивала.
И песня, долетая со двора,
Ему невольно сердце волновала [9, с. 140].
После ухода Пестеля поэт видит, как «на воздухе упругом / Качались ветки, полные листвой. Стоял апрель. И жизнь была желанна. / Он вновь услышал – распевает Анна. / И Задохнулся: / ”Анна! Боже мой!”» [9, с. 142]. Таким образом, два других плана – Пестеля и Самойлов – окружены строками, посвященными Анне. Лишь один раз поэт перебивает диалог Пестеля и поэта, что позволяет оттенить некоторую отвлеченность Пушкина от предмета разговора:
Не умолкая распевала Анна.
И пахнул двор соседа-молдавана
Бараньей шкурой, хлевом и вином.
День наполнялся нежной синевой,
Как ведра из бездонного колодца.
И голос был высок: вот-вот сорвется.
А Пушкин думал: «Анна! Боже мой!» [9, с. 141].
Исследователями уже предпринимались попытки расшифровать это имя: его искали среди кишиневских знакомых Пушкина, а также среди близких Д. Самойлову женщин. В. Баевский передает рассказ Д. Самойлова о его поездке в Молдавию: «… Там случайно разговорился по телефону с телефонисткой большой гостиницы, в которой жил. С изумлением он вспоминал в разговоре со мной, как, вернувшись в Москву, в течение двух дней, 25 и 26 марта 1965 года (прошел еще год!) написал ”Пестель, Поэт и Анна”. <…> Чтобы Пушкин оказался полным жизни, открытым всем впечатлениям бытия, была нужна, около русского гения и русского Брута, дочь молдаванина Анна (так звали, кстати, кишиневскую знакомую Самойлова)» [2, с. 112]. У нас нет оснований строить собственные предположения, отметим лишь, что для его поэзии это наиболее частотно используемое женское имя, которое исследователи отождествляют с символом Вечной Женственности у поэтов рубежа веков.
Беседа Пестеля с поэтом, вероятно, представляет собой поэтическое развертывание дневниковой записи Пушкина от 9 апреля 1821 г.: «Утро провел я с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова. Mon coeur est materialiste, говорит он: mais ma raison s’y refuse (Сердцем я материалист, говорит он, но мой разум этому противится – фр.). Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которые я знаю...» [15, с. 303]. Подробности этого разговора неизвестны, потому поэт получает свободу художественного вымысла или, как выразился В. Баевский, «художественного анализа истории» [2, с. 109], обобщая все то, что известно ему о Пестеле и Пушкине, об отношении поэта к декабристскому движению и пр. Об этом свидетельствует немало слов-сигналов, отсылающих к самым разным контекстам, которые помогают истолковать замысел Д. Самойлова.
Как известно, в дневниках Пушкина сохранилось несколько записей, в которых упоминается имя Пестеля: от 9 апреля 1821 г., от 26 апреля 1821 г. и от 24 ноября 1833 г. Они касаются кишиневской встречи поэта с Пестелем.
Сохранился также отклик Пушкина о Пестеле в пересказе Липранди о том, что ему Пестель «не нравится»: «Несмотря на его ум, который он искал высказывать философическими сентенциями, никогда бы с ним не мог сблизиться» [16, с. 219]. В дневниковой записи Пушкина от 24 ноября 1833г. говорится: «… Странная встреча: ко мне подошел мужчина лет 45, в усах и с проседью. Я узнал по лицу грека и принял его за одного из моих старых кишиневских приятелей. Это был Суццо, бывший молдавский господарь. Он теперь посланником в Париже; не знаю еще, зачем здесь. Он напомнил мне, что в 1821 году был я у него в Кишиневе вместе с Пестелем. Я рассказал ему, каким образом Пестель обманул его и предал этерию, представя ее императору Александру отраслию карбонаризма. Суццо не мог скрыть ни своего удивления, ни досады. Тонкость фанариота была побеждена хитростию русского офицера! Это оскорбляло его самолюбие» [18, с. 213]. Комментаторы отмечают, что эта запись является результатом «какого-то недоразумения. В своем донесении о греческих событиях 1821 года Пестель как раз отрицал сходство греческой этерии с итальянским карбонаризмом и сопоставлял дело греков с борьбой русских князей, свергнувших татарское иго. Александр I действительно считал этеристов карбонариями, но не на основании донесений Пестеля» [18, с. 316]. Тем не менее, кишиневская встреча хорошо запомнилась Пушкину, и он возвращается к ней через 12 лет. Как известно, образ Пестеля неоднократно возникал в памяти Пушкина: об этом свидетельствуют рисунки на полях «Кавказского пленника», четвертой главы «Евгения Онегина» и на клочке бумаги вместе с портретами К.Ф. Рылеева, С.П. Трубецкого и др. В последний раз изображение Пестеля появилось в рисунках виселицы с пятью повешенными декабристами. А. Эфрос полагал, что «связь Пестеля с тайным обществом и его роль в движении стали Пушкину, видимо, ясны очень рано. Вообще с каждым новым документом, появляющимся на свет, взаимоотношения Пушкина с декабристами делаются все определеннее. Недоговоренности и умолчания, чувствующиеся в свидетельствах всех тех декабристов, начиная с Пущина, которые были Пушкину друзьями, становятся явственнее» [14]. Все эти факты Д. Самойлов, много читавший о Пушкине, вероятно, знал или мог знать. Но в его стихотворении беседа с Пестелем важна не сама по себе. Д. Самойлов представляет свое понимание всей противоречивости отношения Пушкина к декабристскому движению, к проблемам свободы и власти, политики и творчества.
Образ Пушкина в стихотворении Д. Самойлова ироничен, несерьезен в отличие от совершенно серьезного Пестеля. Он не разделяет взглядов собеседника, во всяком случае, не до конца разделяет, и бытие для него разнообразнее и глубже, чем его представляет себе Пестель. План Пестеля и план Пушкина не пересекаются: поэт передает их внутреннюю речь друг о друге:
А Пестель думал: «Ах, как он рассеян!
Как на иголках! Мог бы хоть присесть!
Но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть.
И молод. И не станет фарисеем».
Он думал: «И конечно, расцветет
Его талант, при должном направленье,
Когда себе Россия обретет
Свободу и достойное правленье» [18, с. 140].
Эти мысли Пестеля прерываются обычной для знакомства двух людей незначащей фразой «… я закурю» [18, с. 140]. Пока собеседник прикуривает («Пожалуйте огня»), Пушкин думает о собеседнике, что «он весьма умен / И крепок духом. Видно, метит в Бруты. / Но времена для брутов слишком круты. / И не из брутов ли Наполеон?» [18, с. 140]. Здесь пояснения, вероятно, требуют имена Брута и Наполеона. Оба они входят в словарь Пушкина, однако обращаться, видимо, следует, прежде всего, к стихотворению «Кинжал», написанному в 1821 г.: «Но Брут восстал вольнолюбивый: / Ты Кесаря сразил – и, мертв, объемлет он / Помпея мрамор горделивый» [18, с. 145], а также ко всей декабристской поэзии. Ведь в ней имя Брута приобрело символический, отчетливо «декабристский» или, по словам И. Сурат, «цареубийственный» смысл [19]. В общественном сознании той поры это имя было своего рода атрибутом тираноборческой темы русской поэзии. Соединение его с именем Наполеона, думается, отсылает к внешней схожести Пестеля с внешностью императора, неоднократно отмечаемой в воспоминаниях современников, а также к литературному бытованию этого образа. Д. Самойлов соединяет мысль о цареубийстве, замышляемом собеседником Пушкина, с мифом о Наполеоне, сложившимся в русской литературе, что делает содержание внутренней речи Пушкина выпуклым и объемным. В следующих строфах он разворачивает дневниковую запись Пушкина о том, что с Пестелем они «имели разговор метафизический, политический, нравственный». Первая тема – политическая: «Шел разговор о равенстве сословий» [18, с. 140].
– Как всех равнять? Народы так бедны, –
Заметил Пушкин, – что и в наши дни
Для равенства достойных нет условий.
И посему дворянства назначенье –
Хранить народа честь и просвещенье.
Пестель отвечает поэту: «О да, <…> если трон / Находится в стране в руках деспота, / Тогда дворянства первая забота / Сменить основы власти и закон» [18, с. 140]. Думается, в этих словах Пестеля обобщены представления Д. Самойлова о его взглядах, выраженных в «Русской правде», о слиянии племен в один народ и уничтожении сословий. Ответные слова Пушкина – «… тех основ / Не пожалеет разве Пугачев… - Мужицкий бунт бессмыслен…» [18, с. 140 – 141] вызывают ассоциации с «Концом Пугачева» и контекстом, который он предполагает, а также со словами из 12 главы «Капитанской дочки»: «Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка» [12, с. 393]. В словах Пушкина, таким образом, включена цитата, которая, по нашему мнению, влечет за собой весь смысл, содержащийся в пушкинской исторической концепции.
Еще один фрагмент стихотворения отсылает к другому контексту:
… «Что за резвый ум, –
Подумал Пестель, – столько наблюдений
И мало основательных идей».
– Но тупость рабства сокрушает гений!
– В политике кто гений – тот злодей, –
Ответил Пушкин [18, с. 141].
На поверхности лежит пушкинская реминисценция из второй сцены «Моцарта и Сальери»: «Моцарт. А гений и злодейство – / Две вещи несовместные. Не правда ль?» [18, с. 369]. Если в искусстве они «несовместные», то в политике, полагает самойловский Пушкин, они совпадают. Интересно, что в журнальной редакции ответ Пушкина звучал несколько иначе: «На гения отыщется злодей». Этот вариант, действительно, дает возможность соотносить образы Пестеля и Сальери, как это делает в своей статье В. Холкин [20]. В окончательной же редакции нам слышится аллюзия на споры советской интеллигенции в период «оттепели», когда проблема власти, ее «злодейства» и «гениальности» стояла особенно остро.
Беседа Пестеля и поэта касалась и других тем:
… Говорили о Ликурге,
И о Солоне, и о Петербурге,
И что Россия рвется на простор.
Об Азии, Кавказе, и о Данте,
И о движенье князя Ипсиланти [18, с. 141].
Каждое из названных имен вызывает у читателя второй половины ХХ в. лишь общие ассоциации. Так, о Ликурге закрепилось представление как о преобразователе государственного устройства Спарты, в которой его предписания распространялись на общественную и частную жизнь. Важнейшими из них были совет, народное собрание, избрание должностных лиц. Солон вошел в историю как афинский законодатель, разработавший программу социально-экономических и политических преобразований, направленных на восстановление единства афинского общества. Дант – одно из важнейших имен в творческом сознании Пушкина. Во всяком случае, в начале 1820-х гг., когда поэт пребывал в Кишиневе, а затем в Каменке, он использовал реминисценции из творчества Данте для выражения мыслей, которые нельзя было доверить бумаге, но которые были понятны его близким собеседникам. Один из примеров этого содержится в его письмепослании В.Л. Давыдову: «И за здоровье тех и той / До дна, до капли выпивали!» [18, с. 148]. Здесь Пушкин использовал цитату из второй песни «Ада» Данте: «А тот и та, когда пришла пора, / Святой престол воздвигли в мире этом / Преемнику верховного Петра» [3, с. 219]. В пушкинском послании, как известно, «те» – его единомышленники, а «та» – свобода. В дальнейшем творчестве поэта обращения к творчеству Данте являются довольно частыми, потому в разговоре с Пестелем в стихотворении Д. Самойлова это имя является естественным. Упомянутое собеседниками «движенье князя Ипсиланти» поясняется дневниковой записью Пушкина 1833 г.
Еще одна тема беседы Пестеля с поэтом – тема нравственная, как записал Пушкин в своем дневнике. Вот как Д. Самойлов видит ее:
Заговорили о любви.
– Она, –
Заметил Пушкин, – с вашей точки зренья
Полезна лишь для граждан умноженья
И, значит, тоже в рамки введена. –
Тут Пестель улыбнулся.
– Я душой
Матерьялист, но протестует разум [18, с. 141].
Это единственный момент беседы, где Пестель улыбается, и поэт обнаруживает в нем человеческое начало: «С улыбкой он казался светлоглазым. / И Пушкин вдруг подумал: ”В этом соль!”» [18, с. 141].
Д. Самойлов вмонтирует цитату из дневниковой записи Пушкина, однако дает ей своеобразное поэтическое окружение: она соотносится с идеями Пестеля о супружестве из «Русской правды» («Брак есть сочетание двух лиц разных полов, с целью народонаселение умножить и детей породить» [8, с. 196]). Таким образом, умствования Пестеля, его серьезность Пушкин оценил меньше, чем его живую реакцию на шутку, касающуюся «нравственной» темы.
Два плана стихотворения – Пестеля и Пушкина – окончательно разводятся в строфе: «Они простились. Пестель уходил…» [18, с. 141].
Д. Самойлов использует афористическое наименованиее для Пестеля – «русский Брут» - и для Пушкина – «российский гений» [18, с. 141]. Путь Пестеля – «по улице разъезженной и грязной». Д. Самойлов наделяет Пушкина знанием, которое присуще ему уже после казни декабристов: он «глядел вослед ему» «с грустью без причины». Его Пушкин как бы предугадывает будущее Пестеля и «эту фразу записал в дневник – / О разуме и сердце. Лоб наморщив, / Сказал себе: ”Он тоже заговорщик. / И некуда податься, кроме них”» [18, с. 142]. Самойловский поэт воспринимает Пестеля или как обреченного на неудачу тираноборца, или как будущего тирана. И то, и другое вызывает у него грусть.
Стихотворение Д. Самойлова дает возможность и для иного толкования. Автором представлено два мировоззрения, два взгляда на мир: политика и поэта. Его поэт способен говорить на политические темы, но он не уверен в единственно возможном решении проблемы. Его Пестель твердо убежден в своей правоте и думает о Пушкине несколько покровительственно: «что-то есть в нем», но «мало основательных идей». Воплощенные в Пушкине мудрость, радость жизни, легкая ирония открывают беспомощность и ошибочность радикализма Пестеля. Не случайно стихотворение завершается картиной оживающей природы: «Стоял апрель. И жизнь была желанна» [18, с. 142]. В «Пестеле, поэте и Анне» Д. Самойлов впервые в своем творчестве так масштабно осмыслил одну из сложнейших тем, которая получит развитие в его последующих произведениях.
В книге Д. Самойлова «Дни» проявились новые формы поэтического диалога с Пушкиным. Поэт погружается в его наследие, актуализируя важнейшие для современности темы, думает об истории России и народе, русской культуре и литературе. Его поэзия взаимодействует с пушкинским словом тоньше, Д. Самойлов едва намекает на точку отсчета, вводя часть цитаты, реминисценцию или эпиграф, которые открывают целый ряд ассоциаций и смыслов, привлекаемых для понимания его стихотворений.
Литература
1. Амбросимова В.Н. «Куда же я уйду от русского глагола…» (Переписка Р.Д. Орловой и Л.З. Копелева с Д. Самойловым) / В.Н. Амбросимова // Известия АН. Серия литературы и языка. – 1998.– Том 57. – №6. – С. 45- 62.
2. Баевский В. Давид Самойлов. Поэт и его поколение: Монография [Текст] / Вадим Баевский. – М.: Советский писатель, 1986. – 256 с.
3. Данте Алигьери. Божественная комедия [Текст] / Данте Алигьери. [Перевод М. Лозинского]. – М.: Правда, 1982. – 691 с.
4. Евтушенко Евгений. Избранные произведения: В 2-х томах // Евгений Евтушенко. – М.: Художественная литература, 1980. –Т. I. – 510 с.
5. Т. II. – 398 с.
6. Куллэ В. Апофеоз неактуальности [Текст] / В. Куллэ // Новый мир. – 2007. – № 5. [Электронный ресурс].
7. Окуджава Б.Ш. Избранное: Стихотворения. – М.: Московский рабочий, 1989. – 336 с.
8. Пестель П.И. Русская правда. Наказ Временному Верховному правлению [Текст] / Павел Иванович Пестель. – СПб.: Культура, 1996. – 245 с.
9. Пушкин А.С. Собр. соч.: в 6-ти тт. / Александр Сергеевич Пушкин. – М.: Правда, 1969. Т. I. – 527 с.
10. Т. II. – 495 с.
11. Т. III. – 531 с.
12. Т. IV. – 478 с.
13. Т. V. – 559 с.
14. Т. VI. – 511 с.
15. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. 1837–1937:В 16 т.[Ред. комитет: М.Горький, Д.Д.Благой, С.М.Бонди, В.Д.Бонч-Бруевич, Г.О.Винокур, А.М.Деборин, П.И.Лебедев-Полянский, Б.В.Томашевский, М.А. Цявловский, Д.П.Якубович]. – М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1937 – 1959. Т. XII. – 496 с.
16. Т. XIII. – 519 с.
17. Ришина И. Давид Самойлов: «И это все в меня запало…» / И. Ришина // Литературная газета. – 1982. – №33. – С. 6.
18. Самойлов Д. Избранное: в 2-х тт. / Давид Самойлов. – М.: Художественная литература, 1989. – Т. I. – 559 с.
19. Сурат И. «Кто из богов мне возвратил...»/Ирина Сурат. [Электронный ресурс].
20. Холкин В. Литература и время / В. Холкин // Континент. – 2004. – № 119. [Электронный ресурс].