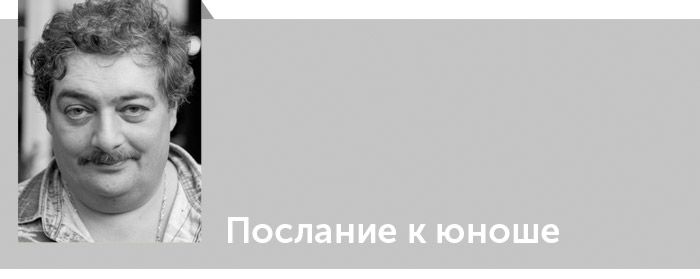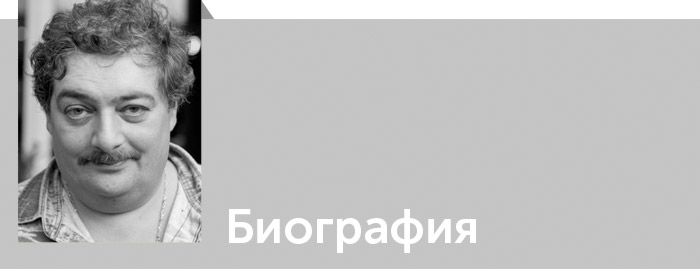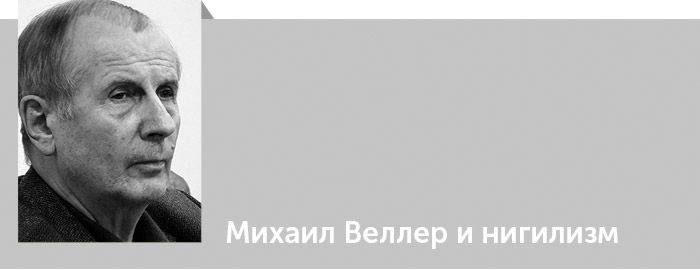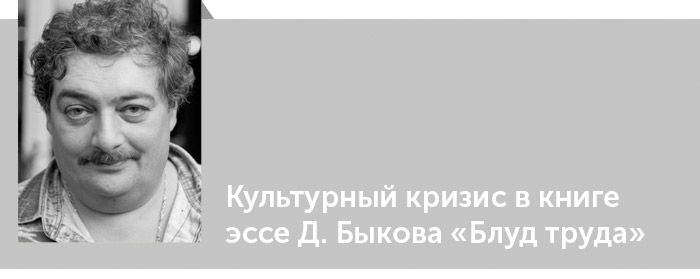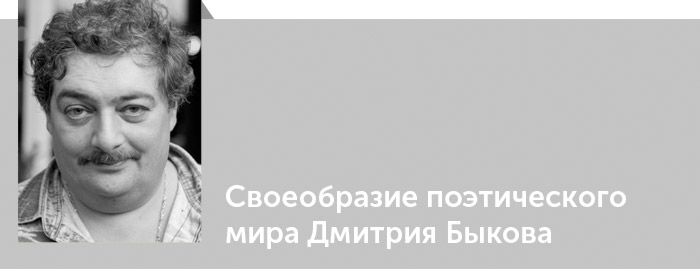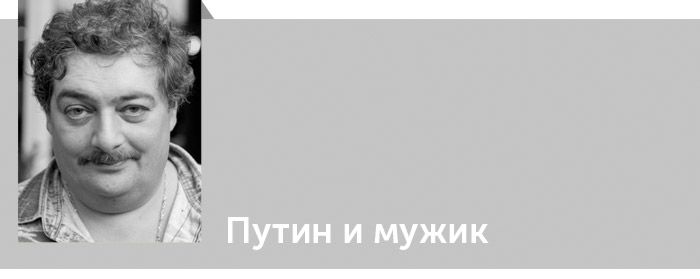Стратегии прозаизации и повествовательный дискурс в поэзии Дмитрия Быкова

УДК 821.161.1-1:06 Быков
И. С. Заярная
(Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко)
В статье исследованы современные тенденции сближения поэзии и прозы, векторы прозаизации поэтических текстов Д. Быкова. Выявлены художественная семантика и функции прозаической записи стихов в стихопрозе, балладах, поэмах писателя в контексте развертывания социальной проблематики и сюжетов, в ситуациях создания метафизического текста, или же углубления лирической субъективности, суггестии, в плоскости метатекстуальности и интертекстуальной игры. Раскрыта специфика повествовательных моделей, типов нарратива, динамики сюжетов, использования моделей притчи и философского диспута в перечисленных произведениях.
Ключевые слова: поэма, стихопроза, нарративный дискурс, лирический субъект, интертекст, сюжет, событийность, строфика, метр, метафизическая проблематика.
Заярна І. С. Стратегії прозаїзації та оповідний дискурс в поезії Дмитра Бикова.
У статті досліджено сучасні тенденції до зближення поезії і прози, вектори прозаїзації поетичних творів Д.Бикова. З'ясовано художню семантику й функції відтворення віршів прозою у віршопрозі, баладах, поемах письменника в контексті розгортання соціальної проблематики і сюжетів, у ситуаціях створення метафізичного тексту, або ж поглиблення ліричної суб'єктивності, сугестії, у площині метатекстуальності та інтертектуальної гри. Виявлено специфіку оповідних моделей, типів наративу, динаміки сюжетів, використання моделей притчі та філософського диспуту в названих творах.
Ключові слова: поема, віршопроза, наративний дискурс, ліричний суб’єкт, інтертекст, сюжет, подієвість, строфіка, метр, метафізична проблематика.
Zayarnaya I. S. Strategies of prose and narrative discourse in the poetry by Dmitry Bykov.
In the article the modern tendencies of poetry and prose converging, the directions of approaching to prose of D.Bykov's poetry are investigated. There were studied both artistic semantics and method of prosaic presentation of verses in verse-prose, ballads, poems of the writer in the context of range of social problems, plots, in the situations of explication of metaphysical text, immersing of lyric subjectivity, suggestion, in the area of meta-textuality and intertextual games. There were demonstrated the peculiarities of such items as narrative models, kinds of narrative, development of plot, application of models of parable and philosophical dispute in the studied writings.
Keywords: poem, verse-prose, narrative discourse, lyric subject, intertext, plot, happening, strophe system, meter, metaphysical problems.
Одной из знаменательных тенденций развития русской поэзии на современном этапе стала ее прозаизация. Тенденция эта зафиксирована практически всеми критиками, литературоведами и поэтами, пишущими о поэзии. Совмещение прозаических и поэтических форм, их диффузия и взаимоперетекание – в целом, не новые для литературы процессы, которые всегда были связаны со стремлением к ее обновлению. На современном этапе жанрово-стилевой и межродовой синтез происходит самыми различными способами. Появляются тексты, написанные на грани стиха и прозы, обозначить жанровую природу которых оказывается весьма проблематично. Например, «Рукопись, найденная в метро» А. Алехина маркируется самим автором как «роман в стихах» или в «стихотворениях в прозе», редакция журнала «Знамя», опубликовавшая текст, обозначает его как «роман в прозе». По-разному аттестует произведение Алехина и критика. Так, А. Марченко называет «Рукопись» «стихопрозой» и говорит о «межвидовых смещениях» и о «концентрате романа» в нем [Марченко 2012]. И. Шайтанов отмечает синтез и смешение видовых и жанровых форм: «стихи или проза? Не только то, не только это. А что-то представляющее собой поэтический non-fiction» [Шайтанов 2011].
Схожую неоднозначность критической оценки обнаружил роман в стихах М. Рыбаковой «Гнедич», получивший премию «Антология», как произведение поэтическое. Казус смешения поэзии и прозы иногда демонстративно подчеркивается самими авторами. Так, М. Степанова называет свою поэму, изданную отдельной книгой, «Проза Ивана Сидорова».
В современной поэзии обретают новое дыхание традиционные лироэпические жанры, изначально ориентированные на использование повествовательного элемента – поэма, стихотворная повесть. В качестве яркой иллюстрации назовем забавную повесть в стихах М. Амелина «Веселая наука», снабженную прозаическим авторским комментарием на полях. В поэзии вновь становится актуальной и востребованной сюжетность, которую воплощает, в частности, и жанр баллады, конечно, весьма трансформированный в новой историко-культурной ситуации.
На фоне общей тенденции «возвращения нарратива в поэзию» [Кулаков 2010], которую литературоведы квалифицируют в целом как явление общелитературное, выделяется целый ряд авторов, стремящихся намеренно культивировать «новый эпос» в поэзии. К таковым причисляют Ф. Сваровского, А. Ровинского, Л. Шваба, С. Круглова, Б. Херсонского, М. Степанову [Кулаков, 2010].
Помимо усиления сюжетности, событийности и повествовательности, не менее интересны процессы, происходящие непосредственно внутри лирики, которые ведут к эффекту прозаизации.
Анализируя «тяготение к прозе самих стихов – их ориентацию не на прозаическое звучание, то есть прямо по Тынянову – на семантику вопреки звуку, и, с другой стороны, ориентацию прозы на поэзию не только в плане звуковой организации материала – внесения ритма или даже рифмы в текст, а также стремление достичь той словесной плотности, которой добивается поэзия», В. Губайловский справедливо говорит, что в литературе сегодняшнего дня наблюдается довольно интересное явление, которое он характеризует как пример «сетевого мышления – разрушение безусловной иерархии видов словесного творчества» [Губайловский 2002].
Векторы этого явления рассматриваются критиком не только в соотношении, к примеру, прозаизации поэзии и верлибра, и не только в непосредственном соединении стиха и прозы, как в поэме Г. Шульпякова, где стих перемежается с прозаическими вставками. Кстати, подобное и вполне распространенное явление сочетания в рамках текста стихов и прозы литературовед Ю. Б. Орлицкий предложил именовать «прозиметрумом» [Орлицкий 2002: 32].
В. Губайловский анализирует несколько текстов, в которых синтетическая природа взаимосвязи и даже взаимозаменяемости поэзия/проза проявляется весьма наглядно. Речь идет о поэме И. Кабыш «Гуляй-поле», объемном, свободном стихе с яркой сюжетностью, а с другой стороны – о повести А. Гаврилова «Берлинская флейта», которая содержит все признаки поэзии – от бессюжетности до повторов, ритмического рисунка и ярко обозначенного лирического субъекта.
В продолжение мыслей исследователя Е. Абдулаев выявляет несколько факторов прозаизации поэзии. Здесь, прежде всего, внешне-игровой, состоящий в демонстративной записи стиха без изменения его природы – в строку, своеобразная имитация прозы. К таким приемам прибегают Л. Лосев, Д. Быков, М. Галина, А. Аркатова. Схожие игровые тенденции можно наблюдать и в прозе, в стремлении записать ее «в столбик», декоративно оформить. С другой стороны, на более глубинном уровне взаимодействия поэзии и прозы критик отмечает прием «осовременивания» и снижения архетипических литературных сюжетов, как в «Колыбельной для Одиссея» И.Ермаковой, и в целом – движение в сторону стиховрассказов [Абдулаев 2006]. Заметим, что такой прием, в общем, не нов для литературы, он присутствовал в русской поэзии на всем протяжении ее развития, особо актуализируясь в переходные периоды смены основных литературно-художественных парадигм.
Одним из наиболее любопытных случаев «прозы в поэзии» Е. Абдулаев называет стихи Б. Херсонского. Критик видит пути прозаизации поэзии в его творчестве в устранении авторского присутствия в тексте (его «закадровый голос»), в повышенном внимании к чужой судьбе, в элементах мемуарности, в лаконичности фразы и точности детали, депсихологизации и своеобразном освобождении от диктата чувств. Прозаизация поэзии неизбежно влечет за собой изменения структуры лирического субъекта, выражающиеся в редукции эмоционального самораскрытия и упомянутой депсихологизации. Она может происходить различными способами, к примеру, у М. Амелина в «Веселой науке» – через «успешное развитие доромантической поэтики с ее риторической убедительностью» [Абдулаев 2006]. Лирический субъект часто трансформируется в стороннего наблюдателя, который констатирует события и рассказывает о чужих судьбах: «Говорение от первого лица, кажется, сменяется историями, рассказанными разными людьми и на разные голоса» [Львовский 2007]. Или же выполняет роль переводчика, толмача-транслятора, фигура которого оказалась в фокусе не только поэзии, но и современной прозы [Кукулин 2010]. Представляется совершенно справедливым замечание И. Кукулина о том, что поэтическое «Я» 2000-х – «внутренне разнородное, собирающее себя из нарочито конфликтных элементов, из смысловых жестов, наделенных разной памятью [...]. Но именно раздробленность придает ему удивительную живучесть: в столкновениях жестов и голосов образуются новые смыслы» [там же].
Развиваясь в русле общих тенденций современной литературы, поэзия Д. Быкова, несомненно, обнаруживает движение к прозаизации. Очевидно, здесь сказывается и параллельное занятие писателя прозой и журналистикой, создание им художественных биографий поэтов, накопление филологического опыта изучения русской лирики. При этом в поэзии Д. Быкова незыблемой остается доминанта лирической субъективности и в целом качество лиричности, которое присуще и тем его текстам, которые тяготеют к эпизации и прозаизации.
Обратимся к стихотворениям Д. Быкова, записанным прозой, а таких в его поэзии немало. В критике их расценивают скорее как формальный эксперимент, имитацию прозы. Условно обозначим эти тексты термином стихопроза, в которой четко соблюдены основные стиховые параметры – рифма, метр, ритм, но нарушена строфическая запись.
Именно строфика в разные периоды развития русской поэзии чаще всего подвергалась деформациям, становилась полем для экспериментов не только формальных, но и семантических. Вспомним поэтическую «сдвигологию» кубофутуристов, наиболее ярко отразившуюся в стиховой «лесенке» В. Маяковского. Или пульсирующую, разорванную своеобразным поэтическим синтаксисом строфику М. Цветаевой, или же усложненную интонацией и анжамбманами строфу И. Бродского. Во всех трех случаях природа нарушения классической строфической записи различна и обусловлена общей системой художественных воззрений и новаторскими поисками этих авторов. Заметим, что Д. Быков также уходит от строфического канона не только в целях формального эксперимента. Попытаемся определить задачи и функции подобного приема как одну из стратегий прозаизации.
Стихопроза Д. Быкова в целом отражает основные черты мирообраза и поэтики, характерные для его поэтического творчества в целом [см.: Заярная, 2010]. Смысловой диапазон стихопрозы достаточно широк – от бытовых зарисовок и криминальных сюжетов до метатекстов, содержащих анализ собственного поэтического стиля, развивающих традиционные для мировой поэзии мотивы поэтических памятников, посмертной судьбы поэта.
Один из ранних примеров использования прозаической записи в стихе – «Пригородная электричка» (1986). Зарисовка случайно оказавшихся вместе попутчиков и вытекающего из этой сюжетной ситуации изображения неприглядного нищего быта российской глубинки уже сама по себе предполагает прозаическую форму записи. Писатель подробно фиксирует не внушающие оптимизма приметы этого быта – вид самой электрички, «грязной, мерзлой, нежилой», в которую вполне вписываются ничем не примечательные, серые и вялые лица попутчиков. Настроение тоски и уныния усиливает неприглядный пейзаж за окном: «Одинокий призрак стога, почерневшие дома – и железная дорога безысходна и пряма» [Быков 2007: 29; далее указываем только номера страниц]. Образ железной дороги, в целом знаковый для творчества Быкова, соотносится с некрасовской традицией социальности, переходящей в разряд философских экзистенциальных мотивов. Перечень бытовых деталей усиливает образ убогого захламленного существования, а главное передает ощущение тоски и скуки жизни как всеобщего состояния, в которое, кажется, погружены все участники монотонной езды в электричке. Мотив социальной неустроенности перерастает в образ вселенской тоски: «Над кустарником и даже над полоскою лесной – дух безлесья, неуюта, холод, пустота, печаль» [29]. Вместе с тем, в финальных строках, которые намеренно отделены автором от всего предыдущего текста, в характерной для поэта иронической манере прослеживается оригинальное переосмысление чеховского мотива преодоления, изживания рабской психологии самим человеком. Это своеобразный призыв, иронически и вместе с тем символически звучащее обращение: «Уберите ваши ноги! Дайте голову поднять!».
Социальная проблематика, реалии современной поэту российской действительности и размышления о судьбе поэта на их фоне широко развернуты в стихопрозе «Инструкция» (2003), «Отчет» (2005).
Стихотворение «Отсрочка» (1998), также оформленное в виде прозаического фрагмента, представляет модель автобиографического повествования. Напряженная жизненная ситуация лирического героя – призывника, ожидающего отсрочки службы в армии, запечатлена психологически достоверно. Вместе с тем в обрисовке ее прослеживается метафизический оттенок. Решение комиссии военкомата сравнивается с приговором Страшного суда: «Из прежней жизни уворован без оправданий, без причин, занумерован, замурован, от остальных неотличим, часами шорохам внимаю, часами скрипа двери жду – и все яснее понимаю: все то же будет и в аду. Ладони потны, ноги ватны, за дверью ходят и стучат… Все буду ждать: куда мне – в ад ли? И не пойму, что вот он ад» [40]. Бытовой уровень, сотканный из множества деталей и материально-телесных подробностей, трансформируется в бытийный и благодаря торжественной риторике, частью которой является стихотворный метр. Четырехстопный ямб в данном случае маркирует высокую одическую традицию и актуализирует в читательском восприятии аллюзию пушкинского стиля онегинского романного повествования в стихах. Движение от обыденного к возвышенному подчеркнуто контрастом ритмики начала и конца стихотворения. В начале использован трехстопный ямб с небольшими нарушениями ритма, включены жаргонизмы, что в комбинации создает иллюзию разговорной речи. В конце текста поэтическое высказывание достигает максимума торжественности и пафосного звучания благодаря метру и возвышенной лексике: «Но в первый миг, когда, бывало, отпустят на день или два – как все цвело и оживало, и как кружилась голова, когда, благодаря за милость, взмывая к небу по прямой, душа смеялась и молилась, и ликовала, Боже мой» [41].
Думается, что важным компонентом, обусловившим прозаическую запись стихотворения «Отсрочка», является установка на психологическую достоверность обрисовки состояния юноши, мучительно ожидающего решения своей судьбы у двери военкомата. Чувство страха, максимального напряжения душевных сил передано буквально на физическом уровне, с освещением таких непоэтических подробностей, как «ладони потны», «ноги ватны», «в поту, в смятенье, на пределе». С другой стороны, очевидно основополагающее лирическое содержание стихотворения, в котором саморефлексия лирического героя достигает максимума, передано чувство врученности своей судьбы высшим силам и переживание благодарности Богу за положительный вариант ее решения. Здесь же заявлен основополагающий принцип философии и мироощущения лирического героя – поэтизация мгновения, паузы: «в отсрочке, в паузе живу».
Оригинальную интерпретацию социальной тематики представляет собой более поздний вариант стихопрозы «Газета жизнь» (2011). Здесь поэт обращается к криминальному сюжету бытового ограбления и убийства, его расследования правоохранительными органами и освещения в средствах массовой информации. Текст совмещает в себе элементы баллады и стилизации под «жестокий романс», а с другой стороны имитирует черты газетного репортажа. Фактором, обусловившим прозаическую запись стиха, в данном случае можно считать ярко выраженную нарративность. В повествовании использована форма второго лица, содержится обилие обращений к воображаемому слушателю, демонстрируются признаки сказа. При этом создан речевой портрет рассказчика, принадлежащего к социальному типу приблатненного водителя, употребляющего просторечия и блатной жаргон: «прикинь, братан», «фигак», «трындел», «выделывался люто» и др. Уголовный сюжет – изображение жутких натуралистических подробностей убийства и расследования преступления, общий разговорный стиль, безусловно, контрастируют с основным метром – четырехстопным ямбом, оформляющим текст. Подобный контраст, несомненно, заключает в себе ироническое начало и рассчитан на создание игрового эффекта. На фоне криминального сюжета проступают другие социальные неурядицы: нищета и заброшенность русской деревни («свернешь с дороги на проселок, а там четырнадцатый век: ни огонька, забор, канава…», «соседей нет, деревня мрет»), неумение и нежелание следствия докопаться до истины, продажность прессы и др. Стихотворение «Газета жизнь» помещено в подборке «Пять песен», опубликованной в «Новом мире» [Быков 2011], за ним следует тематически близкое стихотворение «Русский шансон», что формирует необходимый контекстуальный фон для характеристики определенного социального среза российской действительности.
Ряд текстов Д. Быкова, презентующих стихопрозу, объединены внутренним сюжетом саморефлексии лирического героя, его самоидентификации в современном жизненном и литературном пространстве. Здесь в полной мере реализуется один из важных принципов поэтики Д. Быкова, не раз отмечавшийся критиками – «тождество биографического Быкова и [...] литературного героя» [Бак 2010]. В стихотворении «Я не могу укрыться ни под какою крышей…» (2003) самоанализ лирического героя, достигшего «тридцати семи», по меркам русской поэзии – возраста поэтической зрелости – плавно переходит в метатекстуальную характеристику особенностей собственного творчества: «знание жизни, палитра жанровая, выделка класса люкс, плодовитость – плюс» [269]. Самоидентификация лирического героя складывается из социальных, национальных, культурных параметров, соотношение которых приводит героя к убеждению в своей уникальности и самости: «Я не принадлежу ни к нации явно пришлой, ни к самопровозглашенной нации коренной. [...] Не сливочный элитарий, не отпрыск быдла, я вижу все правды и чувствую все вранье» [268]. Вместе с тем, поэт соотносит свою судьбу с характерными российскими судьбами поэтов в исторической ретроспективе: «кроме плетенья словес, ничего не умея толком (поскольку другие занятья, в общем, херня) – по отчим просторам я рыскаю серым волком до сей поры, и ноги кормят меня. То там отмечусь, то тут чернилами брызну. Сумма устала от перемены мест. Я видел больше, чем надо, чтобы любить Отчизну, но все не дождусь, когда она мне совсем надоест. Вдобавок я слишком выдержан, чтобы спиться и слишком упрям, чтобы прибиться к вере отцов. Все это делает из меня идеального летописца, которого Родина выгонит к черту в конце концов» [268]. Неизменная ироническая интонация, сопутствующая самоанализу лирического героя, органически сочетается с интертекстуальным обыгрыванием русской поэтической традиции, начиная от Пушкина и заканчивая Бродским.
Другая попытка саморефлексии лирического героя осуществлена в стихотворении «Жил не свою. Теперь кукую…» (2004). Прозаическая запись здесь адекватно отражает сбивчивый характер внутренней речи, поток сознания лирического героя. Имитация прозы в данном случае порождает также эффект максимально откровенной дневниковой исповеди, которая не должна быть скована строгой строфической формой, стихотворной «решеткой». Комплекс мучительных сомнений лирического героя в правильности выбора пути, в том, насколько полноценно прожита им единственная и неповторимая жизнь, одолевает лирического героя, выплескиваясь периодически в возгласы: «Я не Быков, я другой!», «И вот мечусь, перемежая стыд и страх, и слезы лью. Меня не так гнетет чужая, как мысль, что кто-то взял мою» [279]. Прозаизация лирики соединена здесь с органичной включенностью в стихию русской поэтической классики, пушкинской и лермонтовской традиции.
Часть стихопрозы, содержащей активный элемент саморефлексии лирического героя, трансформируется в метатексты, другая же граничит с метафизической лирикой. К числу первых отнесем известный «Пэон четвертый», который не обойден вниманием критиками, писавшими о Д. Быкове. Возникает вопрос, почему именно в этом стихотворении, наиболее ярко воплотившем образы мировой поэзии и традиционный мотив посмертного бытия поэта, автор применил запись прозой? Думается, это обусловлено рядом причин. Во-первых, стремление визуально передать эпический размах, грандиозность фантастической картины мироздания, которой «тесно» в привычных рамках графики стиха. По меткому замечанию И. Сурат, «необычайное паренье» державинского Лебедя обращается у Быкова мощным и остросовременным по своей стилистике посмертным полетом «дочеловеческого» диковинного чудища, в котором поэт с удивлением узнает себя самого. На первый взгляд кажется, что этот фантастический полет с делом поэзии никак не связан, а связан скорее с кинематографом поколения 3Д» [Сурат 2012].
Во-вторых, здесь сказалось, очевидно, стремление полемически заострить гротескную необычность, нетипичное для русской поэзии перевоплощение лирического субъекта, подчеркнуть грандиозность и монументальность образа. Это – некое чудище с перепончатыми крыльями, драконьим хвостом, гибкостью змея и глазом орла. Имя ему автор подобрать затрудняется, смешивая мифологические, литературные и естественнонаучные наименования – Плезиозавр, Егудиил, Нафанаил, Левиафан, Гиперборей, Каталабют. Литературный термин, вынесенный в заглавие, – «пэон» («пэан») – означает не только определенный стихотворный размер, но и «в античном мире песнь в честь бога солнца Феба, а затем – благодарственная песнь богам за спасение и, наконец, просто победная песнь» [Квятковский 1966: 229]. Семантика прозаической записи стиха в перенесении акцента, внимания читателя с поэтического метра на изначальный смысл, значение пэона. Тем более, что одним из смыслообразующих мотивов стихотворения Д. Быкова как раз и становится мотив победы над смертью, творческого преображения лирического героя.
Тема поэтической рефлексии организует и стихотворение «Избыточность» (2003), обладающее всеми признаками метатекстуальности. Фактически, Д. Быков осуществляет аналитический разбор собственного творческого метода, вступает в полемику с критиками-оппонентами, обвиняющими его в многословии и «всеядности». Безусловно, для подобного критического метатекста – разбора собственного творчества, аналогичного мини-статье, вполне применима прозаическая запись, которая в данном случае выполняет роль маркира пограничной жанровой ситуации. Рассуждая о чувстве меры, присущем поэзии, Д. Быков не отвергает своего дара избыточности, многословия, которое характерно, скорее, для прозы, и даже по-своему этим даром гордится: «Спросил бы кто: хочу ли я постичь великое, святое чувство меры? И с вызовом отвечу: не хочу. Как тот верблюд, которому судьба таскать тюки с восточной пестротою, – так я свой дар таскаю на горбу, и ничего» [267]. Отстаивая специфичность своего таланта, в том числе и в полемике с общепринятой поэтической традицией, Д. Быков прибегает к метафорической образности онтологического порядка: «В конце концов и весь Господень мир – один ошеломляющий избыток, который лишь избыточным вместить». Поэтический метод Д. Быкова не случайно обретает диаметрально противоположные оценки в критике. С одной стороны, А. Саломатин полагает, что «в картине мира Быкова отсутствует не только непостижимое и возвышенное, но и какая бы то ни было иерархия вообще» [Саломатин 2010]. С другой стороны, справедливо пишет Д. Бак: «Дмитрий Быков при всей своей откровенно демонстрируемой всеохватности и любвеобильности никогда (или почти никогда) не скатывается ни до одной из плоских и банальных крайностей. Он не становится ни сентиментально всеядным, ни циничным и желчным, сохраняет в неприкосновенности живую сердцевину поэтического протеизма, многим не нравящейся способности говорить противоположное, несводимое к единому знаменателю» [Бак 2010].
Осознание Д. Быковым божественной природы своего дарования, которое, одновременно, и «тяжкий крест», приводит его к стоической позиции: «Я вытерплю усмешки свысока, и собственную темную тревогу, и всех моих прощаний пустыри» [267].
Саморефлексия лирического героя – поэта, осмысление всех составляющих комплекса судьбы поэта и специфики его биографии в России зачастую сополагаются в стихопрозе Д. Быкова с метафизической проблематикой. В стихотворении «Вся жизнь моя обводит…» поэт настойчиво утверждает философскую идею быстротечности времени, бренности всего земного: «Вся жизнь моя обводит, как обводной канал, ту мысль, что все проходит, то есть нам никто не врал»; «Ни божественное слово, ни верещащий соловей не значат ничего другого, кроме бренности своей» [280]. Изложение темы разворачивается как своенравное, неупорядоченно-ассоциативное течение мысли, причем ассоциации подобраны весьма произвольно. Вместе с тем, в тексте явно прослеживаются и элементы непринужденной беседы, стилизованной под дружеский треп «на вечные темы», где обязательны обращения к читателю-слушателю: «А ты сидишь и уминаешь шоколадное драже. Оно проходит, ты понимаешь? Не понимаешь? А я уже» [281]. В таком контексте общего иронического снижения философской проблематики прозаическая запись стиха, безусловно, выполняет немаловажную роль, работая уже на визуальном, графическом уровне.
Два других метафизических текста «Хорошо тому, кто считает, что Бога нет…» (2004) и «Озирая котел, в котором…» (2004) представляют, по сути, два философских диспута, в центре которых извечная проблема соотношения веры и скепсиса. В первом стихотворении развернута своеобразная историческая парадигма русской поэзии в ее отношениях с Абсолютом: от «вольтерьянца-отрока в садах Лицея», через «сомневающегося», но «слышащего музыку сфер» поэта, и до современного автора в лице самого лирического героя. Несмотря на явственность аллюзивных отсылок, вырисовывается три типа взаимоотношений человека с Богом – вольтерьянский скептицизм, релятивизм, стремление заглянуть за черту и философия безусловной врученности поэта Богу. Функция прозаической записи стиха в сочетании со стилевой игрой здесь также заключена в заметном снижении сакрального предмета полемики: «Вот такая музыка сфер, маловерный друг, вот такие крутятся там машинки. Иногда оттуда доносится райский звук, но его сейчас же глушат глушилки» [288]. Завершает текст своеобразное раскрытие области взаимоотношений с Богом лирического героя. Причем поэт максимально приближает к человеку, буквально «одомашнивает» сакральное: «А с меня он, можно сказать, не спускает глаз, проницает насквозь мою кровь и лимфу, посылает мне пару строчек в неделю раз – иногда без рифмы, но чаще в рифму» [289].
В стихотворении «Озирая котел, в котором…» (2004) развернут философский диспут между верующим и агностиком. Здесь контрастно сопоставлены две системы мировидения, одна из которых основана на философском скептицизме, а другая зиждется на вероисповедании: «не тверди мне, агностик, что ты во всем сомневаешься. Или нет, тверди – добавляя: «во всем твоем». Ибо есть твое – вопреки убежденью строгому, что любая вера тобою остранена. Есть твое, и мне даже страшно глянуть в ту сторону – до того скупа и безводна та сторона» [294]. В стихотворении отражен достаточно широкий спектр проблем духовной жизни человека, связанных с вероисповеданием, ролью религии в истории и современной жизни. Этот текст соотносится с традицией философских диалогов и может рассматриваться как мини-трактат. Очевидно, роль прозаической записи в данном случае сводится к тому, чтобы придать стихотворению именно такие ассоциации, подчеркнуть и усилить свободное течение мысли. Не случайно Д. Быков использует здесь и элемент иносказания, притчевости, сопоставляя философию человека с жизнью плюща: «Как я знаю всю твою зыбкость, перетекание, разрушение границ – соблазн его так влекущ! Есть твоя вертикаль, и она еще вертикальнее, но скрывает ее туман, оплетает плющ. Я боюсь плюща – хоть растенье, в общем, красивейшее. Так узорчат лист, так слаба курчавая плеть – но за слабостью этой темнеет такая силища, что и дубу и грабу опасно туда смотреть» [294]. В ряду полемически заостренных аспектов в стихотворении – истинная вера и безверие, проблемы толерантности и терпимости, стремления к познанию и «спасительное незнание» верующего: «Я не все говорю, не всему раздаю названия, не стремлюсь заглядывать за края – ибо есть зазор спасительного незнания, что тебе и мне оставляет вера моя» [295].
Среди стихотворений Д. Быкова, записанных в строку, встречаем такие, в которых подобная форма не обусловлена наличием повествовательных элементов, притчевых структур или философских диалогов. Это тексты суггестивного характера, которые представляют собой, скорее, философско-лирические медитации. Любопытен в этом смысле поэтический цикл «Начало зимы». Первая часть, посвященная смене времен года (осени – зимой) и спровоцированным приходом зимы ощущениям лирического героя, написана классическим четырехстопным ямбом и имеет четкую строфическую организацию. Такая запись призвана подчеркнуть связь с русской поэтической классикой и традициями поэтизации начала зимы. Вторая часть цикла передает гамму ощущений лирического героя, связанных с исходом зимы и предощущением весны: «Я люблю, чтобы был закат цвета ранней хурмы, и снег оскольчат и ноздреват – то есть распад зимы: время, когда ее псы смирны, волки почти кротки и растлевающий дух весны душит ее полки» [272]. Во время такого предвесеннего состояния кажется, что время застыло и остановилось. В контексте творчества Быкова категория паузы, промежутка обладает особым философским смыслом, она оказывается единственно и парадоксально приемлемой для жизни и творчества: «Я начал помнить себя как раз в паузе меж времен – время от нас отводило глаз, и этим я был пленен» [272].
Использование прозаической записи во второй части цикла, очевидно, продиктовано контекстом смысла двух его частей. Поэтизация начала зимы выстроена в традиционном ключе для русской поэтической классики с присущей ей легкостью и изяществом стиля и образности. Тогда как изображение «распада зимы», «позднего февраля» выполнено уже в иной стилистике, другими поэтическими средствами. Здесь скорее можно проследить отсылки к авангардной поэтике: «даже мнилось, что поделом белая ярость зим: глотки, может быть, подерем, но сердцем не возразим. Ну и где триумфальный треск, льдистый хрустальный лоск? Солнце над ним вооружает крест, плавит его, как воск». Отказ от четкой строфической организации стиха в данном случае на графическом уровне подчеркивает эту отличность, инакость образа поздней зимы и самоощущения лирического героя на ее фоне. Прозаическая запись вполне совместима с логаэдическим стихом, составленным из разнометрических стоп. Причудливое соединение анапеста и дактиля, хорея и ямба также рождает ощущение свободного разговорного потока речи и мысли.
Схожим образом структурирована философская миниатюра-этюд «В левом углу двора…» (2012), записанная прозой, также представляющая логаэдический стих – сочетание дактиля, хорея, ямба и анапеста. Основной мотив быстротекущего времени запечатлен в миниатюре в аллегорических и эмблематических образах. Например, извечного противостояния старости и молодости: «Старость, угрюма будь, непреклонна будь, нелюдима, брызгай слюной, прикидывайся тупой, грози клюкой молодым, проходящим мимо, глумись надо мной, чтоб не плакать мне над тобой» [Быков 2012]. Поэт по-своему обыгрывает мифологический архетип, выстраивая эмблематическую образную параллель осени-старости: «Осень, слезлива будь, монотонна будь, опасайся цвета, не помни лета, медленно каменей. Не для того ли я сделал и с жизнью моей все это, чтобы, когда позовут, не жалеть о ней?» [там же]. Эмблематический образ переходит в индивидуально-лирический мотив, заостренное эмоциональное переживание быстротечности бытия.
Другая плоскость семантики образа осени в этом стихотворении порождает пронзительно-лирическую интонацию смирения: «День-то еще какой – синева и золото, все прощайте, жгут листья, слезу вышибает любой пустяк, все как бы молит с дрожащей улыбкою о пощаде, а впрочем, если нельзя, то пускай уж так». Миниатюру завершает образ-иносказание, афористическая фраза-загадка: «стать таким, чтоб не жалко было прощаться, может лишь то, что не кончится никогда». Таким образом, это стихотворение – философский этюд соотносится с традицией древнего эпического повествования не только благодаря своеобразной стилизации мерного течения дактило-хореического и логаэдического стиха, но и в связи с использованием эмблематических образов, афористичных высказываний. Не последнюю роль здесь играет и запись прозой.
Характерно, что текст «В левом углу двора…» помещен Быковым в цикл «Новые баллады». Сама по себе жанровая номинация уже призвана вызвать устойчивую ассоциацию с повествованием. Не случайно и в более раннем цикле баллад Д. Быкова, где, несомненно, этот жанр подвергается разнообразным трансформациям, была использована прозаическая запись по крайней мере в двух текстах. Это – «Десятая баллада» (2003), с заостренной историко-социальной тематикой, и «Двенадцатая баллада» (2004), представляющая полемику лирического героя со своими оппонентами-критиками.
Прозаическая запись стиха привносит особую смысловую и стилистическую окраску и в лирический эпос Д. Быкова – поэмы «Ночные электрички», «Сон о круге», «Сон о Гоморре», включенные автором в цикл поэм. В каждом из этих случаев подобная запись сообщает тексту дополнительный эффект прозаизации.
Лиро-эпическая поэма «Ночные электрички» (1989) обладает несомненными признаками стихотворной повести. Ее нарративный дискурс организуется сюжетным гомодиегетическим повествованием, наличием героя-рассказчика в двух ипостасях – участника действия и поэта, осмысливающего происходящее с определенной временной дистанции. Лирический сюжет – несостоявшаяся любовь героя – развернут на фоне внешней событийной канвы, представляющей незапланированное путешествие со спутницей в московский пригород. Лирическая тема постепенно трансформируется в эпический план изображения России. Здесь Д. Быков продолжает и переосмысливает русскую классическую традицию путешествий (от «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, «Железной дороги» Н. А. Некрасова до «МосквыПетушков» Вен. Ерофеева) и отображения на их фоне самых разнообразных социальных, этических проблем и противоречий российской жизни. Нити традиции тянутся также к фабульной поэзии середины ХІХ века.
В стихотворной повести несколько сюжетных линий. В экспозиции представлена судьба героини – ее детство и непростая последующая жизнь матери-одиночки. Показательна ремарка героя-повествователя: «Опыт был весьма суровый. Хоть повесть сочинять. Хоть фильм снимать» [380]. Другие судьбы детально не развернуты, представление о них дается осколочно, фрагментарно – в том числе, о судьбе самого повествователя, о жизни родственников Маши.
В широком интертекстуальном пространстве «Ночных электричек» наиболее значимы некрасовский и блоковский претексты, – и не только в связи с особенностями воплощения комплекса железнодорожной тематики. Интересно, что даже в обрисовке отдельных черт психологического облика героини задействованы некрасовские аллюзии: «есть женщины: угрюмы и тверды. На чем стоят – уж в том не прекословь им» [390].
Д. Быков показывает широкий спектр социальной проблематики, которая затрагивает не только мир вокзала и вагона электрички, но перерастает в кричащий образ тотальной неустроенности и нищеты, бездуховности жизни российской глубинки, переходит на уровень философских обобщений лирического героя об абсурдности бытия в целом. Цепь эпизодов – кража денег и документов героини в вагоне, тщетная попытка восстановить их в ближайшем отделении милиции, нонсенс бюрократической системы, пьянство родственников героини, теснота вагона электрички – лишь частные проявления абсурда, разлитого повсеместно. Справедливым представляется наблюдение критика Вл. Новикова о том, что «для быковского лироэпоса тоже имеется термин из тыняновского арсенала – «симультанность». То есть одновременность, одномоментность. Это родовой признак прозы, но он применим и к поэзии, когда книга с внутренним сюжетом в читательском восприятии преодолевает временную протяженность, сливается в единый миг» [Новиков 2011].
Исчезновение денег и документов героини в вагоне – кульминационный эпизод, определивший характер последующих взаимоотношений персонажей и их дальнейшие судьбы. Из рядового бытового эпизода он разрастается до масштабов вселенской катастрофы: «Не знаю, где и как, – по крайней мере, в России этого не превозмочь: любовь не возникает при потере всех документов, паспорта и проч.» [Быков 2007 : 392]. Частный драматический случай переходит в горькое размышление о судьбе страны в целом и ее драматической истории: «Да, в первый раз! Уставясь синим взглядом куда-то в зелень мутного окна, ты ехала в тот миг со мною рядом, моя кровоточащая страна, и вырисовывалась, вырастая из темноты, из трав, из тополей, истомная, истошная, пустая истерика истории твоей» [396]. Знаковым в этом контексте становится блоковский образ России, который жестко трансформируется Быковым применительно к новым историческим реалиям: «Отечество воинственного быдла, в самой свободе – злобная рабыня, не Блокова, а Лотова жена! О Русь моя! Вдова моя! До боли…» [398]. Филиппики лирического героя вызваны болью, пониманием тех социальных и исторических предпосылок, которые повлекли за собой нынешнее состояние родины, осознанием своего места не сына, а пасынка родного отечества: «Страна, где мой удел – боязнь всего! О, равенства прокрустова лежанка! Казарма! Паспорт! Стройные ряды! Тебе меня не жалко!» [397].
Многосмысленность стихотворной повести раскрывается в движении психологического конфликта, представляющего духовную эволюцию лирического героя-повествователя. Его любовно-романтические порывы разбиваются не только в связи с неблагоприятным стечением обстоятельств, но и по причине глубоких этических и ценностных расхождений позиций героев. Это убедительно подтверждается и последующей судьбой Маши, которая актрисой так и не стала, но зато иными путями добилась успеха и положения в обществе: «приобрела подобье глянца и перешла в иной видеоряд».
Расставание с возлюбленной и со своей мечтой, вместе с тем, означает для лирического героя возвращение в свою среду. Мотив циклического движения, образ своего круга и чужого, не родственного, а потому непонятного и враждебного пространства концептуально значим для Быкова и формирует своеобразную оппозицию: «нас держит круг – незримо и упруго. Всегда в своем кругу, в своем дому. И каждый выход за пределы круга грозит бедой и нам, и тем, к кому» [402].
В «Ночных электричках» четко выстраивается сюжетное повествование и событийная канва. Заостряя социальное звучание, Д. Быков, тем не менее, выходит на уровень философских обобщений: «Где тот предел, – о нем и знать не знаешь, – где тот рубеж заказанный, тот миг, когда своей чудовищной изнанкой к нам обернется наш прекрасный мир…» [402]. Глубина общечеловеческого и психологического раскрытия темы позволяет автору сохранить лирическую природу текста, подчеркнуть его двойственный мир – происходящее событие и рассказ о нем. Немаловажное значение в создании лирического повествования играют метатекстуальные элементы, формирующие сюжет «Послесловия» – рассуждения о судьбе рукописи и ее издания, о конфликте поэмы, о ее герое.
Сюжет путешествия лежит в основе еще одной поэмы Д. Быкова – «Сон о круге» (2000), стихотворный текст которой также представлен в прозаической записи. Но в данном случае путешествие скорее вымышленное, разворачивающееся в форме сна, ночного кошмара. Уже в «Прологе» в локализации пространства жилья героя поэмы, расположенного в зоне железной дороги, задано настроение экзистенциальной тоски, неуюта. Тип повествования в поэме можно охарактеризовать как смешанный – гетеродиегетический, переходящий постепенно в гомодиегетический. Смены повествовательных ракурсов, переходы от персонажа к я-повествователю совершаются на протяжении поэмы постоянно.
Движение сюжета в «Сне о круге» выстраивается как поток сознания лирического героя, и его спонтанность, сбивчивость как раз и призвана отразить прозаическая запись. Свобода движения зарифмованной мысли, выплескивания эмоций не сковывается графикой строфы. В данном случае справедливым кажется допущение В. Губайловского о стремлении Д. Быкова «поглубже упрятать» ритм, «дополнительно надломить» его и взять «напрокат» у прозы повествовательную интонацию [Губайловский 2002].
Как и большинство текстов Д. Быкова, поэма многосмысленна. Внешняя фабула выстраивается как погоня героя за случайно встреченной и понравившейся женщиной, о которой он практически ничего не знает, тщетная попытка найти, догнать героиню, следуя по случайно оставленным ею адресам. Вместе с тем, символический смысл поэмы прочитывается как вечный поиск человеком призрачного идеала, превращающийся в бессмысленную погоню, блуждание по кругу: «А проще всего, вероятно, – пустившись в погоню свою, он просто искал варианта, обманывал круг, колею» [466]. Героя «беспрестанно тревожит тоска по какой-то иной, непрожитой жизни», втягивая его в своеобразную азартную и роковую игру, из которой нет выхода. Впечатление сюрреальности происходящего усиливается игровым приемом раздвоения героя на спящего, который, по-видимому, «знает» развязку истории, и снящегося, который финала не знает и продолжает движение по злополучному замкнутому кругу. Мотивы рокового блуждания усиливаются образами экзистенциального хаоса, который воплощен, прежде всего, в инфернальной, роковой женщине, сеющей повсюду распад и разрушение, в образах брошенного дома, наталкивающего лирического героя на ассоциацию с пробитым «Титаником», запыленной квартиры, которую не узнает жилец.
Д. Быков создает свою версию циклического мифа о круговом движении, о вечном возвращении в современном сюрреалистическом изводе. Такой ход вполне органичен для поэта и прозаика с развитой фантазией, склонного сочинять всевозможные версии, например российской истории («Версия»), или библейской притчи («Сон о Гоморре»). Заметим, что «Сон о Гоморре» – также стихотворный текст, записанный прозой и ее имитирующий, представляет собой мистериальную поэму, в которой любопытно трансформирован библейский сюжет (подробнее об этой трансформации см.: [Заярная 2012]).
Ближе к финалу поэмы «Сон о круге» происходит полное переключение регистра повествования на лирическое «я» самого рассказчика, усиливаются элементы психологизации, лирической суггестивности и анализа собственных внутренних противоречий: «За чем эта гонка? За тем ли небесным, воздушным вьюном, который на новые земли сулит и поет об ином? Горячечным шепотом ухо лаская и зыбью дрожа, всю жизнь меня борют два духа, два демона, два миража» [472]. Раздвоение лирического героя-повествователя, его мысли по поводу желаемого и возможного, участия и бездействия, соблазнов и противостояния им, приоритетов привычной повседневности или манящей, праздничной, но призрачной жизни формируют поле метафизической проблематики поэмы: «Покуда я спящий. Покуда за мной ни грехов, ни заслуг. Покуда поет из-под спуда душа моя – замкнутый круг» [474]. Поэма вполне прочитывается и как философский текст о вечно ускользающем бытии, «о границе, которая отделяет человека от него самого и которую он не может перейти и никогда не перейдет» [Губайловский 2002], о вечном кружении в лабиринте.
Раскрытию лирической субъективности способствуют и метатекстуальные отрывки поэмы. В них проступает облик самого автора, неизменно маркирующего свой собственный стиль: «О перечень, перечень, бич мой! Все те же реестры, ряды, синонимы – знак безграничной, привычной тягучей среды» [471]. Одновременно метатекст выстраивается благодаря общелитературным подходам – обращение автора к читателю и рассуждения о ходе сюжета и элементах «темной» притчи в нем, о вариантах судьбы героя, о лирических отступлениях. В них расширяется литературное поле поэмы, за счет обыгрывания интертекста формируется культурное многоголосие.
Таким образом, к числу путей обновления поэтической речи на современном этапе принадлежат и различные способы ее прозаизации, к которым в принципе поэзия неоднократно прибегала в ходе своего исторического развития. Поэтическое творчество Д. Быкова сполна подтверждает эту тенденцию. Повествовательный дискурс его поэзии ярко проявляется благодаря использованию сюжетности, выстраиванию разных типов нарратива, возвращению к жанровым формам баллады, стихотворной повести, лиро-эпической поэмы, притчи. Немаловажную роль выполняет и прозаическая запись стиха, которая в большинстве случаев не механически имитирует прозу, но сообщает текстам дополнительную семантику, органично сочетаясь с другими элементами прозаизации, способствует формированию новой версии поэтического высказывания – стихопрозы.
Литература
1. Абдулаев Е. Проза в поэзии: в поисках единства? // Вопросы литературы. – 2006. – № 5.
2. Быков Д. Новые баллады // Новый мир. – 2012. – № 7.
3. Бак Д. Сто поэтов начала столетия. О поэзии Дмитрия Быкова и Марии Степановой // Октябрь. – 2010. – № 3.
4. Губайловский В. Волна и камень. Поэзия и проза. Инна Кабыш. Анатолий Гаврилов. Сергей Гандлевский // Дружба народов. – 2002. – № 7.
5. Заярная И. С. Своеобразие поэтического мира Дмитрия Быкова (Книга «Последнее время. Стихи. Поэмы. Баллады») // Русская литература. Исследования. Сб. науч. тр. – Вып. 14. – К., 2010. – С.184-199.
6. Заярная И. С. Элементы мистерии в поэмах конца 90-х – начала 2000-х годов // Студії з україністики. Вип. Х. Література. Соціум. Епоха. – Київ – Дрогобич, 2012. – С. 334-347.
7. Квятковский А. Поэтический словарь. – М., 1966.
8. Кукулин И. «Создать человека, пока ты не человек…». Заметки о русской поэзии 2000-х // Новый мир. – 2010. – № 1.
9. Кулаков Вл. Нулевой вариант. Новейшая поэзия: тенденции, концепции и манифесты // Новый мир. – 2010. – № 10.
10. Львовский С. Федору Сваровскому // Воздух. – 2007. – № 2.
11. Марченко А. Свет мой, зеркальце, скажи… Субъективные заметки о поэзии и критике // Дружба народов. – 2012. – № 8.
12. Новиков Вл. Будетлянка и архаист. Две поэзии двадцать первого века // Новый мир. – 2011. – № 11.
13. Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе. – М., 2002.
14. Саломатин А. Эффект присутствия, или Политика вместо поэтики // Арион. – 2010. – № 4.
15. Сурат И. А если что и остается… // Новый мир. – 2012. – № 4.
16. Шайтанов И. И все-таки двадцать первый… Поэзия в ситуации после-постмодерна // Вопросы литературы, 2011. – № 4.
Статья поступила в редакцию 1.09.2013.