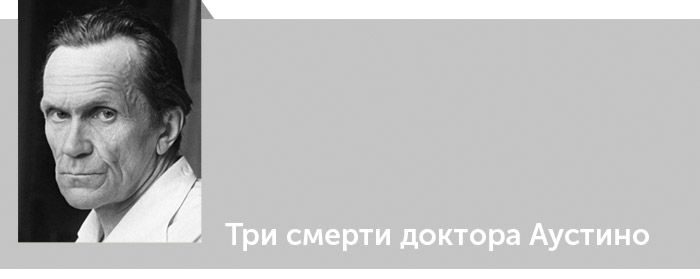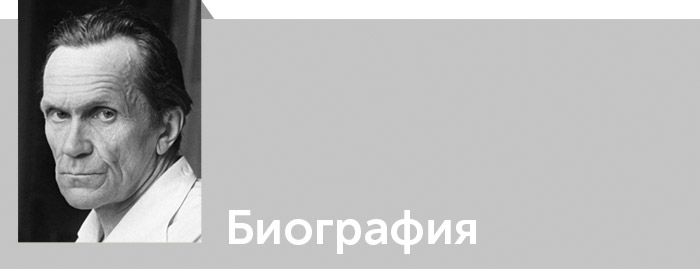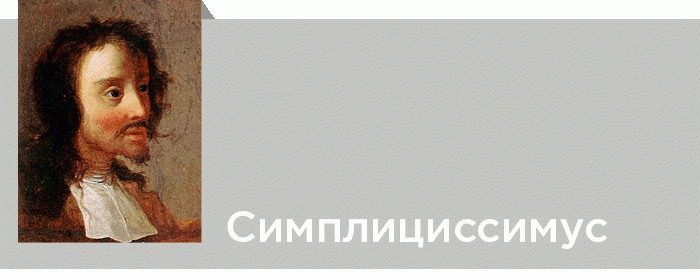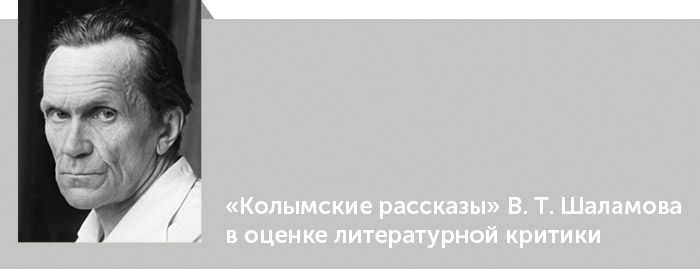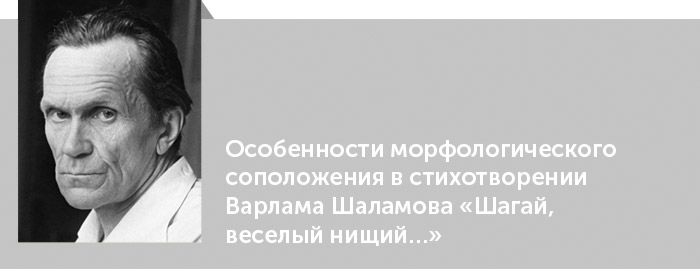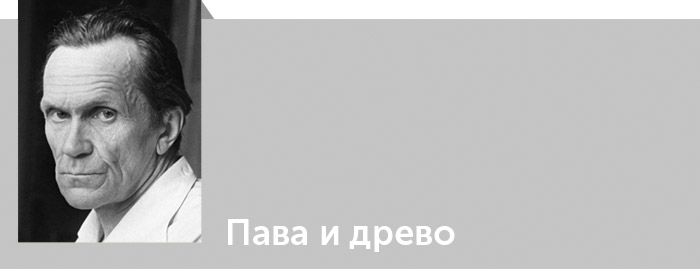Человек и мир в ракурсе В. Шаламова: творчество писателя как текст
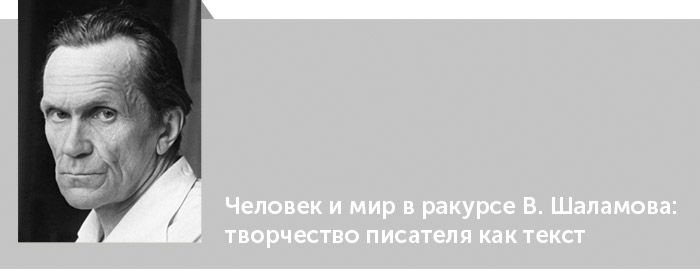
УДК 821.161.1.09
Л.К. Оляндэр,
доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой славянской филологии Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки (Луцк)
В статье, исходя из обоснованной актуальности поднятой проблемы - человек и мир в ракурсе В. Шаламова, через поэтику его творчества, взятого за единый текст, с привлечением метода компаративистики, раскрываются изменения взглядов В. Шаламова на человека и мир под давлением жизненных обстоятельств. Одновременно характеризуется смоделированная писателем художественная действительность. При анализе текстов учтены те задачи, которые писатель ставил перед собой при создании автобиографической повести «Четвертая Вологда». Установлено, что наиболее субъективный пласт текста, базирующийся на «личнейшем опыте» художника, содержит то уникальное знание, которое впитывает в себя и перерабатывает в себе человеческая душа под влиянием глобальных исторических процессов, конкретных - прежде всего трагических - разного рода обстоятельств и волею случая. Утверждается, что В. Шаламов своим творчеством вступает не только в широкий контекст отечественной и европейской лагерной прозы и документальных книг, посвященных жизни народа в оккупации, но и в контекст европейской философской мысли.
Ключевые слова: автор/нарратор, интерсубъективность, интенции, контекст, модель, поэзия, проза, текст, хронотоп.
У статті, виходячи з обґрунтованої актуальності порушеної проблеми - людина і світ у ракурсі В. Шаламова, через поетику його творчості, взятої за єдиний текст, із залученням методу компаративістики, розкриваються зміни В. Шаламова на людину і світ під тиском життєвих обставин. Водночас характеризується змодельована письменником художня дійсність. При аналізі текстів враховано ті завдання, що письменник ставив перед собою при створенні повісті «Четверта Вологда». Установлено, що найбільший суб'єктивний шар тексту, який базується на «найособистішому досвіді» митця, містить те унікальне знання, котре вбирає в себе і переробляє у собі людська душа під впливом глобальних історичних процесів, конкретних - передусім трагічних - різного роду обставин і волею випадку. Стверджується, що В. Шаламов своєю творчістю входить не лише до широкого контексту вітчизняної та європейської табірної прози і документальних книг, присвячених життю народу в окупації, а й в контекст європейської філософської думки.
Ключові слова: автор/наратор, інтерсуб'єктивність, інтенції, контекст, модель, поезія, проза, текст, хронотоп.
Changes of V. Shalamov views about a man and a world under life circumstances are investigated through the poetics of his works as a single text according to grounded topicality of the problem - man and world in V. Shalamov perspective. At the same time art reality modeled by the author is characterized. Analyzing the texts the tasks that the writer set himself creating autobiographical novel «Chetviortaya Vologda» («The Fourth Vologda») were taken into consideration. It was found that the most subjective stratum of the text, based on the «personal experience» of the writer, contains the unique knowledge, which human soul absorbs and processes under the influence of global historical processes, specific - particularly tragic - different circumstances and by chance. It is proved that V. Shalamov by his creativity comes not only in the wide context of national and European prison prose and nonfiction books about the people life in occupation, but also in the context of European philosophical thought.
Key words: author / narrator, intersubjectivity, intentions, model, poetry, prose, text, context, chronotop.
Жизнь в глубинах своих, в своих подземных течениях осталась
и всегда будет прежней - с жаждой настоящей правды,
тоскующей о правде, которая, несмотря ни на что,
имеет же право на настоящее искусство.
Варлам Шаламов. Письмо Б. Пастернаку от 12. 08. 1956 г.
Тож веселимось, людоньки на людях.
Хай меле млин свою одвічну дерть.
Застряло серце, мов осколок, в грудях.
Нічого, все це вилікує смерть.
А треба жити. Якось треба жити.
Це зветься досвід, витримка і гарт.
І наперед не треба ворожити.
І за минулим плакати не варт.
Ліна Костенко. Пісенька з варіаціями.
Мы попытаемся подойти к этому так, чтобы в нем почувствовать те живые вещи,
которые стоят за текстом и из-за которых, собственно, он и возникает.
Мераб Мамардашвили. Лекции по античной философии.
Разноаспектная проблема человек и мир, являясь одной из центральных проблем философии и художественной литературы ХХ в., остается таковой и поныне. В то же время она значительно актуализировалась в литературоведении в ХХI в. Особенно пристальное внимание исследователей приковывает к себе вопрос об индивидуальноавторском образе мира, о воплощении его в художественной модели реальной жизни и то, как раскрывается писателем человеческая природа, ее сущность в нем. В частности в науке о литературе об этом свидетельствуют и работы молодых ученых последних лет: в русской - А. Аношеной [1] в украинской - Н. Астрахан [2; 3], которая подняла и теоретически разработала вопрос о необходимости дальнейшего осмысления процессов моделирования действительности в художественном творчестве, учитывая одновременно как хронотоп и человек - в субъективном и объективном аспектах их изображения - становятся главными координаторами смоделированной писателем картины мира. Уже только само появление работ такого типа свидетельствует об актуальности поднятой в статье проблемы и определяет ее цель - через поэтику, с привлечением метода компаративистики, раскрыть видение Варламом Шаламовым человека и мира в их взаимосвязи в процессе изменения - в силу жизненных обстоятельств - ракурсов их видения писателем и охарактеризовать смоделированную им художественную действительность. Правомерность такого подхода объясняется шаламовской постановкой задач, поставленных им перед собой при написании автобиографической повести «Четвертая Вологда» (1988): «“Четвертую Вологду", - подчеркивает В. Шаламов временной период создания текста как фактор ракурсной дистанции, - я пишу в шестьдесят четыре года от роду... Я пытаюсь в этой книге соединить три времени: настоящее и будущее во имя четвертого времени - искусства» [17, с. 55 ].
И одновременно писатель дает ключ к пониманию своего текста, вбирающему в себя и прозу, и поэзию в его понимании:
«Проза, - пишет В. Шаламов, - это формула тела и в то же время формула души.
Поэзия - это прежде всего судьба, итог длительного духовного сопротивления, итог и в то же время способ сопротивления - тот огонь, который высекается при встрече с самыми крепкими, самыми глубинными породами. Поэзия - это и опыт, личный, личнейший опыт, и найденный путь утверждения этого опыта - непреодолимая потребность высказать, фиксировать что-то важное, быть может, важное только для себя» [17, с. 55].
Слово модель В. Шаламов не употребляет, но реализованное в повести Четвертое время и является по своей сути художественной моделью эпохи, которая вбирает в себя и формулу его души, ибо содержание автобиографической повести передается эпически, прозой, и одновременно - его многострадальный личный, личнейший опыт, то есть поэзию.
И если взять во внимание размышления Р. Якобсона в статье «Что такое поэзия?» о сущности поэзии[1], то можно утверждать, что именно она является становым хребтом всего сурового творчества В. Шаламова, в том числе и «Колымских рассказов», и понуждает сосредоточиваться на «соотношении дискурса и условий его осуществления» [19, с. 81 ].
Следует заметить, что наиболее субъективный пласт текста, который базируется на «личнейшем опыте» художника, является чрезвычайно важным для полноты объективной картины жизни. Именно он, взаимодействуя с интерсубъективными представлениями о мире и человеке в нем, содержит то уникальное знание, которое впитывает в себя и перерабатывает в себе человеческая душа под влиянием глобальных исторических процессов, конкретных обстоятельств разного рода и волею случая.
«Личнейший опыт» В. Шаламова оказал решающее воздействие на ракурс его видения действительности и на место нарратора в нарративной системе. Все свои основные произведения - «Колымские рассказы» (1954-1965), «Воскрешение лиственницы» (1966- 1967), «Дорога и судьба» (1967), «Четвертая Вологда» (1968-1971) и др. - писатель создает, отбыв все сроки заключения. Казалось бы, можно утверждать, что, находясь на свободе, В. Шаламов рассматривал трагическое прошлое уже со стороны, бросая на него ретроспективный взгляд, но это не совсем так: прошлое неизменно оставалось с ним. Его активная литературная деятельность, его строй мыслей - переписка с Б. Пастернаком является тому убедительным доказательством - говорили о том, что духовно он сломлен не был. Однако, оставаясь сильным и обращаясь к прошлому, чтобы осмыслить его в художественнофилософском аспекте, он, безусловно, переживал все заново, снова и снова мысленно погружался в тот период своего мученического существования, который, казалось, легче - и даже рациональнее - было бы «забыть». И это переживание, как известно, психологически всегда тяжелее первого: оно бумерангом бьет в душу беспощадно. Исходя из этих соображений, шаламовское стремление обдумать жизнь, отвечая на вечный вопрос: «Что такое человек?» - надо признать подвигом, а его творческую деятельность - подвижничеством. Бесстрашно, погружаясь в ушедшую сталинскую эпоху, он моделировал действительность по парадигматическому принципу: Мир - Антимир; общечеловеческие, христианские ценности - антиценности; люди - нелюди и т.д., что осуществлялось им уже на уровне стиля, на уровне способа выражения. Писателю, вероятно, было важно не только то, что сказано, но и то, как и сколько раз проговорено. Бесчеловечный Антимир, по В. Шаламову, также необъятен, как и Мир. Таким он предстал перед ним внезапно - вдруг! - как озарение, когда он воочию убедился в истинности своего открытия - «Я подумал, что знаю только кусочек этого мира... » [14, с. 341], - убедился, увидев, как из раскопанной бульдозерами каменной горы ползли трупы («По лендлизу»):
«Гора оголена и превращена в гигантскую сцену спектакля, лагерной мистерии. Могила, арестантская общая могила, каменная яма, доверху набитая нетленными мертвецами еще в тридцать восьмом году, осыпалась. Мертвецы ползли по склону горы, открывая колымскую тайну.
На Колыме тела предают не земле, а камню. Камень хранит и открывает тайны. Камень надежней земли. Вечная мерзлота хранит и открывает тайны. Каждый из наших близких, погибших на Колыме - каждый из расстрелянных, забитых, обескровленных голодом - может быть еще опознан - хоть через десятки лет. На Колыме не было газовых печей. Трупы ждут в камне, в вечной мерзлоте» [14, с. 340 ].
В стилистике этого фрагмента и дальше по тексту обращают на себя внимание повторы фраз и однотипных синтаксических конструкций:
«Камень хранит и открывает тайны», «Вечная мерзлота хранит и открывает тайны», «Могила... доверху набитая нетленными мертвецами», «Эти могилы, огромные каменные ямы были заполнены мертвецами», «тайна горы открыта. Могила разверзлась, и мертвецы ползли по каменному склону» [14, с. 341 ].
Шаламовские повторы, если иметь в виду, что «стиль... не ограничивается только внешним», что «он проникает и вовнутрь вещей, в содержание их» и что «стиль проявляется не только в преобразующей деятельности, но и способом восприятия, в концепции творческого духа человека» [4, с. 8], играют одну из ведущих смыслообразующих функций в художественной системе писателя.
У В. Шаламова через повторы многажды проговоренная правда своей настойчивостью заставляет не только помнить о содеянном преступлении, но и неустанно осмыслять его последствия, а если же люди это забудут - человеку и человечеству забывчивость свойственна, - камень напомнит:
«А потом я вспомнил жадный огонь кипрея, яростное цветение летней тайги, пытающейся скрыть в траве, в листве любое человеческое дело - хорошее и дурное. Что трава еще более забывчива, чем человек. И если забуду я - трава забудет. Но камень и вечная мерзлота не забудут» [14, с. 341].
Здесь снова надо обратить внимание, казалось бы, на малую стилевую особенность в синтаксисе. За двумя фразами: «...трава забудет. Но камень и вечная мерзлота не забудут», - встает сама Жизнь, с ее извечным законом: «Все перемелется - мука будет», в который шаламовский сочинительно-противительный союз «Но», стоящий после разделительного знака не запятой, а точки, вносит свои коррективы, заставляя глубже и объемнее воспринимать знаменитый девиз: «Ничто не забыто, никто не забыт», делая особое ударение на местоимении ничто, кроющим за собою Зло и преступление. И то, что союз «Но» поставлен после точки, а не запятой имеет свое смыслообразующее значение. В такой редакции он подчеркнуто выполняет противительную функцию, которая говорит: да, все перемелется - мука будет... Но перенесенная миллионами замученных Мука никаким жерновам, в том числе и волнам реки Леты не подвластна: о ней закричат из мерзлоты до времени молчащие камни. Эта Мука тоже безмерна, как и сам Антимир. И эта страшная безмерность сотворенного и творимого Зла на глазах В. Шаламова, как он понял позднее, не была прочно отгорожена от всей остальной жизни. Более того, безмерность Зла, безмерность мира иного - мира тотальной несвободы, напоминала о себе в градостроительстве столицы:
«Высотные здания Москвы - это караульные вышки, охраняющие московских арестантов - вот как выглядят эти здания. И у кого был приоритет - у Кремлевских ли башен-караулок или у лагерных вышек, послуживших образцом для московской архитектуры. Вышка лагерной зоны - вот была главная идея времени, блестяще выраженная архитектурной символикой» [14, с. 341 ].
Вчитываясь в текст В. Шаламова, нетрудно уловить, что его голос перекликался с голосом В. Тендрякова, назвавшего свой рассказ «Люди или нелюди». Учитывая возникшую между двумя текстами перекличку, необходимо отметить философскую глубину поднятой писателем проблемы, чему соответствовал стиль В. Шаламова, представляющий собой путь к жесткой и беспощадной правде, в котором суровая эпичность прозы, формулы его души переплеталась с проблесками поэтического.
Опираясь на теоретическое определение Ю. Лотмана двойной функции текстов в общей системе культуры - функции, адекватно передающей значения, и функции, рождающей новые смыслы [6, 13-19], надо заметить, что немалую роль в шаламовском тексте играла поэзия. Даже только один-единственный поэтически прозвучавший - точно аккорд, слетевший с надсоновской арфы, - одинокий отголосок прекрасного в рассказе «По лендлизу»: «.я вспомнил жадный огонь кипрея, яростное цветение летней тайги», - служит основой для многих интенций философского характера, в том числе и о необоримости самой Жизни, и о сущности природы человека, и свойствах его памяти, о нашем сегодняшнем дне и т. д. Все эти и другие направления мысли реципиента всегда будут обоснованы местом и временем его нахождения, его возрастом, мировоззрением и пр., обеспечивая ракурс видения им действительности, в которой он пребывает, и ракурс смоделированной писателем действительности лагерной зоны смерти.
Поэзия же служила контрастом безмерно безобразному, тому, что, казалось, не умещается в голове, и освещала редчайшие и мельчайшие проявления человечности в этом нечеловеческом антимире как чрезвычайно ценное. В этом отношении характерен рассказ «Дождь» (1958), в котором описано, как совершалось бессмысленное зверство, ставшее явлением обыденным, неизменным условием существования:
«Дождь лил третьи сутки не переставая. <...> Холодный мелкий дождь. Соседние с нами бригады давно уже сняли с работы и увели домой, но то были бригады блатарей - даже для зависти у нас не было силы.
Десятник в намокшем огромном брезентовом плаще с капюшоном, угловатом, как пирамида, появлялся редко. <...> Мы давно были мокры, не могу сказать до белья, потому что белья у нас не было. <...> Конвой стерег нас, укрывшись под "грибом" - известным лагерным сооружением.
Мы не могли выходить из шурфов - мы были бы застрелены. Ходить между шурфами мог только наш бригадир. Мы не могли кричать друг другу - мы были бы застрелены. И мы стояли молча, по пояс в земле, в каменных ямах, длинной вереницей шурфов растягиваясь по берегу высохшего ручья» [14, с. 23].
Так возник поэтический образ великого и страшного Молчания.
Мысли о смерти не были случайностью:
« ...Мне весело было думать, что я не доживу, не успею дожить до склероза. Лил дождь.
Я вспомнил женщину, которая вчера прошла мимо нас по тропинке, не обращая внимания на окрики конвоя. Мы приветствовали ее, и она нам показалась красавицей - первая женщина, увиденная нами за три года. Она помахала нам рукой, показала на небо, куда-то в угол небосвода, и крикнула: "Скоро, ребята, скоро!" Радостный рев был ей ответом. Я никогда ее больше не видел, но всю жизнь ее вспоминал, как она могла так понять и так утешить нас. Она указывала на небо, вовсе не имея в виду загробный мир. Нет, она показывала только, что невидимое солнце спускается к западу, что близок конец трудового дня. Она по-своему повторила нам гетевские слова о горных вершинах. О мудрости этой простой женщины, какой-то бывшей или сущей проститутки - ибо никаких женщин, кроме проституток, в то время в этих краях не было, - вот о ее мудрости, о ее великом сердце я и думал, и шорох дождя был хорошим звуковым фоном для этих мыслей. Серый каменный берег, серые горы, серый дождь, серое небо, люди в серой рваной одежде - все было очень мягкое, очень согласное друг с другом. Все было какой-то единой гармонией - дьявольской гармонией» [14, с. 23 ].
Со словами: «Я вспомнил женщину», «показалась красавицей», «Я ...всю жизнь ее вспоминал» - в сознании реципиента ассоциативно всплывают пушкинские строки: «Я помню чудное мгновенье.», что, в свою очередь, с особой остротой контрастно оттеняет переживание случившегося как чуда. А благодаря интертекстуальной вставке: гетевские слова о горных вершинах - в подтексте с теплотой зазвучало долгожданное: «подожди немного, отдохнешь и ты...».
Даже в обычной жизни в трудные минуты человеку нужна моральная поддержка, хотя бы самая малая, чтобы не рухнули важные для него мечты, но найти ее было нелегко. И героиня Людмилы Тарнашинской вспоминала: «Часом здавалося, що досить одного слова, одного жесту... і .глухі непробивні мури розсунуться самі собою»[2] [10, с. 47]. Но этого-то и не произошло. Что же тогда говорить о лагере сурового режима для «врагов народа»? Там давно были вырваны не только из дискурса, но из самих душ и охранников, и заключенных все доминантные морально-этические понятия - гуманизм, честность, доброта, мужество, благородство, порядочность, поиск истины, понятия. Это те самые понятия, за утверждение которых - как бы парадоксально это ни звучало - отдавали свою молодость, а то и жизни, в лагерях, ссылках, в изгнаниях украинские - и не только - писатели-шестидесятники даже в 60-80-е гг. ХХ в. [12][3].
И вот это «вдруг!» - добрая женщина, прокричавшая в сопровождении жеста: «"Скоро, ребята, скоро!''» - особенно остро подчеркивало в шаламовском тексте одиночество, безысходность и заброшенность каждого. К этому эпизоду В. Шаламов еще вернется в рассказе «Первая смерть» (1956), из которого станет известно имя и насильственная гибель женщины, секретарши начальника прииска. Это была - Анна Павловна, которую зверски задушил приисковый следователь Штеменко, а ведь она не была осужденной, она была вольной.
Сравнение текстов двух рассказов проливает добавочный свет на специфическую роль так называемых частых повторов - теперь это самоцитаты - в текстах В. Шаламова. Передавая психологическое свойство памяти и даже духовной потребности человека - время от времени возвращаться к тем или иным моментам своей жизни, снова и снова проговаривая их, а значит, и вновь переживая прошедшее, шаламовские, возможно, непроизвольные повторы/самоцитаты в новых текстах выполняют функции метатекста. Говоря о шаламовском метатексте, следует учитывать два его свойства, на которые указывает И. Смирнов: 1) соотношение «текст - текст» (а не «действительность - текст»), т. е. такой тип отношений является текстопродолжателем; 2) в таких отношениях проявляется логика художественного дискурса [8, с. 5]. При таком подходе проясняется, что последующее переключение внимания реципиента на действительность превращает его «возвращение» из текста в жизнь в прозрение, когда по-новому и с новым смыслом предстает одно и то же событие и как эпизод, и как его переживание.
Однако в этом конкретном случае сравнение формы подачи одного и того же эпизода сначала вызывает некоторое недоумение при обнаружении противоречия. В одном воспоминании говорится: «Я никогда ее больше не видел, но всю жизнь ее вспоминал...», а в другом: «Мы все знали ее в лицо хорошо - на прииске женщин очень мало. Месяцев шесть назад, летом она проходила мимо нашей бригады...» [14, с. 85 ].
Однако, по всей вероятности, это противоречие кажущееся и лежит оно на поверхности текстов: автор/нарратор действительно лично мог ее не видеть - лагерь велик, - но знать от других, кто видел ее, что прошедшая мимо их женщина - это секретарша начальника прииска. Она была узнана всеми в лежащем перед узниками мертвом теле. Зверски задушенная следователем из-за дикой ревности, она, благодаря повтору, превратилась в своеобразный символ казненной Доброты.
Надо сказать, что, хотя рассказ «Первая смерть» был написан раньше «Дождя», он, помещенный в цикле за хронологией происшедшего, закономерно воспринимается как трагическое продолжение описанного эпизода - первой встречи с ней, когда она предстала чудесной незнакомкой. В «Первой смерти» эпизод повторяется как окрашенное грустью горестное воспоминание [14, с. 85]. И вот, обратным чтением прояснилось, что та минутная радость в последующем предстала пожизненным трауром в душе: «Многоя видел человеческих смертей на Севере, - пишет В. Шаламов, - пожалуй, даже слишком много для одного человека, но первую виденную смерть я запомнил ярче всего» [14, с. 83 ]. Так скупыми средствами - все переживания в подтексте - с особой остротой передается ощущение человеком своей полной незащищенности перед безграничным произволом.
Однако окончательно истребить Доброту не под силу никому, ибо она разлита в самом пространстве мира. Вот почему это лучшее качество души, которое жестокостью колымского лагеря было изжито напрочь, в рассказе «Кант» неожиданно получает - как сквозной мотив - свое развитие. Правда, доброту проявляет весной «бедная северная природа», которая «стремилась поделиться с нищим, как она, человеком нехитрым богатством своим» [14, с. 28]. И герой - alter ego самого В. Шаламова - шел в сопках в состоянии эйфории. Он был опьянен воздухом, согрет солнцем, упоен коротким буйным цветением и мимолетной мнимой свободой: легчайшая - по сравнению с трудом в обледенелых разрезах - работа была бесконвойной. Он шел не спеша, «грея руки о банку с дымящейся головешкой», «все время ощущая как радостную неожиданность одиночество и глубокую горную тишину, как будто все дурное в мире исчезло и есть только твой товарищ, и ты, и узкая темная бесконечная полоска в снегу, ведущая куда-то высоко в горы» [14, с. 29]. Это, единственно светлый, поэтический рассказ во всем цикле, где одушевленная природа протягивает руки помощи. Широко употребляемые писателем в этом тексте словосочетания: «было прекрасно», «медовый горный шиповник», «веселость лоз» - служили резким контрастом всей картине, в которой был смоделирован реальный образ Антимира, невообразимо жестокого, достигшего своего апогея в проявлении бесчеловечности. И то, что рассказ «Кант» идет в цикле сразу после рассказа «Дождь», усиливает этот контраст.
Рассказ «Дождь» не единственный, где сконцентрировано философско-осмысляющее начало эпического повествования о человеке, поставленном в условия ежедневного и ежеминутного нахождения на самой крайней грани, которая отделяла невыразимо мучительную жизнь от избавляющей от невыносимых страданий смерти. Мысли, изложенные в «Дожде», будут варьироваться в других рассказах. Но, повторяясь, они каждый раз будут обнажать какую-то новую сторону, новый оттенок вложенного в них смысла. Речь идет об экзистенции, о формах ее проявления, хотя писатель не употребляет этого слова, экзистенции, которая держалась только на двух опорах - инстинкте самосохранения жизни и на единственной, доступной в каторжной неволе свободе - покончить с собой. Повествование идет сразу от двух чисел первого лица: множественного - Мы («Мы бурили...», «Мы давно были мокры.», «Мы не могли.», «И мы стояли молча.», «мы не успевали.») и единственного - Я («я понял.», «я знал.», «я думал.», «я понимал.»). Прошедшее время глаголов говорит о том, что автор/нарратор находится физически уже вне событий, но мысленно снова был там. От этого текст носит характер воспоминаний - это мемуары, свидетельства, разоблачение официальной лжи, обвинения в преступлении против человечества. И все это воплощено в стиле взрывоопасного спокойствия, того спокойствия, которое нашло свое выражение в поэме В. Маяковского «Облако в штанах»:
Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боен, -
а самое страшное
видели -
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен? [7, с. 109-110].
При этом следует заметить, что форма единственного числа не индивидуализировала героя, не отделяла его от множеств, а скорее всего еще теснее спаивала его с ними, но так, что каждый в этом множестве был сам по себе: каждый боролся только за свое выживание. Совсем неслучайно в философском осмыслении жизни в рассказе «Дождь» возникает формула «Я знал...», «Я понял...», а в рассказе «Сухой паек» она сменяется на «Мы поняли...». В природе человека на первое место вышел инстинкт сохранения жизни. Собственно, сопротивлялась смерти сама жизнь, а не человек, доведенный до крайности истощения всех духовных и физических сил. А сам человек попал в ситуацию выбора без выбора. Квазивыбор поставил его перед вечным вопросом «Быть или не быть ?», за которым раздавался гомерический смех Дьявола: сам решай. Что возьмешь? Свободу (выход через смерть) или не-свободу (выход тоже через смерть), продолжение своего мученского существования или самоубийство?.. И всему была одна цена - за жизнь надо отдать жизнь. В рассказе «Дождь» Шаламов-герой выбрал жизнь: «Голодный и злой, я знал, что ничто в мире не заставит меня покончить с собой» [14, с. 23 ]. Его философские выводы/убеждения: «.человек стал человеком .потому, что был он физически (курсив автора. - Л.О.) крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому» [14, с. 24 ], - были добыты не умозрительным путем, а страданиями. И в этом состоит особенность его философского осмысления человека и мира, осмысления добытого знания не только усилиями мысли, но и каждым мускулом своего тела.
Этот вывод в тексте не был только отвлеченным размышлением автора/нарратора: его функция выражалась и в том, что он без какой-либо дидактики прояснял главный побудительный мотив поступков узников лагеря - во что бы то ни стало выжить.
Закономерно совмещаются две неудачные попытки избежать смерти через членовредительство. Первый подтверждает силу инстинкта:
«Я думал спасти свою жизнь, сломав себе ногу. Воистину это было прекрасное намерение, явление вполне эстетического рода. Камень должен был рухнуть и раздробить мне ногу. <...> Я поставил правую ногу под висящий камень... повернул, как рычаг, заложенное за камень кайло. И камень пополз по стене в назначенное и вычисленное место. Но сам не знаю, как это случилось, - я выдернул ногу. <...> И я понял, что не гожусь ни в членовредители, ни в самоубийцы» [14, с. 25 ].
Второй случай попытки членовредительства, происшедший с Розовским, который сунул ногу под колесо вагонетки, но она «просто перескочила через него», свидетельствовал о том, что при неудаче узник только усугублял свою судьбу: его отдавали под суд «за покушение на самоубийство» [14, с. 25 ].
Рассказ «Сухой паек» продолжает эту тему с усилением психологического аспекта. Все дело в том, что, попав на ключ «Дусканья», узники радовались «лесной командировке», тому, что получили на кратчайший срок - мнимый глоток свободы вместе с голодным пайком и с тяжелой для изнуренных людей работой, с непосильными нормами. И когда пришел сотский, худшие опасения... сбылись: возвращали назад, в каменные забои. Узники оказались перед роковым выбором: каторжная несвобода или смерть. Иван Иванович выбрал ее - повесился, а Савельев - выбрал жизнь и отрубил себе топором четыре пальца, что не спасло его: он был отправлен «в следственный отдел - для начала дела о членовредительстве» [14, с. 45]. Дальше так называемый суд, который, вероятно, приговорит его к высшей мере наказания.
Но инстинкт Жизни был силен - и человек пытался выжить. Ведь и Пугачев совершил неудачный побег ради нее и свободы. Однако, когда его окружили, - принял бой и погиб свободным.
Сказанная в одном ряду с другими фраза: «Мы все понимали, выжить можно только случайно» [14, с. 39] - становится одним из ключевых мотивов «Колымских рассказов». И такой же случай, спасая от смерти, помогал человеку остаться человеком. В этом отношении показателен рассказ «Житие инженера Кипреева», где, кстати, тоже звучит философский мотив: «жизнь и смерть - волевая игра», но с раскрытием иллюзорности этой мысли: в лагере человек слабеет так, что ни о какой воле говорить не приходится. Для силы воли тоже необходим определенный запас силы физической.
В рассказе «Сухой паек», как и во многих других, углубляется тема расчеловечения через самохарактеристику:
«Все человеческие чувства - любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность - ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незначительном мышечном слое, что оставался на наших костях... размещалась только злоба - самое долговечное человеческое чувство» [14, с. 37] .
Преступлением В. Шаламов считал и то, что «лагерь был местом, где учили ненавидеть физический труд, ненавидеть труд вообще» [14, с. 37 ].
Сила правды В. Шаламова опиралась на то, что все описанное он видел и пережил сам. Но утверждать только это - мало, ибо не только свидетелем вступает В. Шаламов в широкий контекст отечественной и европейской лагерной прозы и документальных книг, посвященных жизни народа в оккупации. Его «Колымские рассказы» находятся в диалогических отношениях с ними прежде всего в художественно-философском аспекте.
Наиболее близок В. Шаламов с польським писателем Густавом Герлингом-Грудзинским, который тоже прошел дорогами лагерей ГУЛАГа и написал книгу «Inny Swiat» («Иной мир»). В предисловии к русскому изданию Г. Герлинг-Грудзинский радовался, что его книга вышла в СССР «вслед за “Архипелагом ГУЛАГом" А. Солженицына и “Колымскими рассказами" Шаламова» [5, с. 8].
Но у В. Шаламова акцент сделан не только на политический аспект, осуждение системы, а и на глубокое художественно-философское проникновение в природу человека. Более четко проявляется психоаналитический аспект. И если пойти за З. Фрейдом, то станет ясно, как распоясывается агрессивность, когда перестают действовать моральные рычаги.
З. Налковская свои «Медальоны» предварила эпиграфом: «Ludzie ludziom zgotowali los» [22, с. 5] («Люди людям приготовили судьбу»). В этих словах писательницы содержался оттенок удивления: в то, что она увидела в лагере-смерти Освенциме, невозможно было поверить.
У В. Шаламова никакого удивления нет. Он показал человекоподобных нелюдей в особе блатаря, следователя Штеменко, конвоиров Фадеева, Серошапки и даже в лице высококвалифицированного медика, разоблачавшего в изможденных узниках симулянтов «с общегосударственной точки зрения» методом «шоковой терапии», - Петра Ивановича, который «был врачом в большей степени, чем человеком» [14, с. 126 ] и др.
Он углубил то, что было высказанного Казимиром Выкою. Поднимая проблему свободы и несвободы, К. Выка в книге «Zycie na niby» (1958), содержащей факты и мысли, зафиксированные в 1939-1940 гг., сразу после поражения Польши, доказал, что в условиях захвата чужих земель и порабощения их народа окупант тоже не живет настоящей, подлинной жизнью. Его жизнь - фикция. И несмотря на бытовое свое благополучие, он в определенном смысле проживает не жизнь, а нечто вроде жизни - zycie na niby:
«Zycie na niby, - пишет К. Вика, - nie jest bowiem tylko wfasnosciq srodowiska oddanego agresji i przemocy... <...> W swoistej mierze uczestnicyi w tym zyciu takze zdobywca hitlerowski. Juz sam ten fakt, ze musiaf on dla podbitego narodu urzqdzac obcojçzyczne, fikcijne ministerstwa i urzgdy, ze musiaf w imiq tego doraznego ukfadu rzeczy udawac, ze na Wawelu nie lezq wcale krölowie tego narodu - skazywaf go na pielqgnowanie fikcji. Kosztem okupowanego narodu, jego historii i przyszfosci, okupant tez zyje na niby" (выделено мною. - Л.О.) [23, c. 5] .
Шаламовский текст основной своей направленностью диалогично соотносится с текстом К. Выки. Согласованность проявляется в утверждении, что угнетатель, угнетая другого, лишая его настоящей жизни и обрекая на нищенское, рабское существование, на муки до самой его кончины, тем самым обкрадывает, искажает свою жизнь, превращая ее и себя в ничто.
Но в отличие от К. Выки, В. Шаламов, высказав - в основе своей схожую с выковской - мысль, что в системе лагерей ГУЛАГ и организаторы, и охранники не являются свободными, не ограничивался этим. Писатель обращался к людской психике как тонкий художник и, говоря его словами, докапывался до «донных элементов человеческой души», показывал ее сложность, ее разрушение, описывая доли узников и их угнетателей. В. Шаламов, сосредоточившись на их отдельных поступках и образах, создал целую серию индивидуальных и групповых портретов, раскрыл безмерную глубину аморализма и расчеловечения. Рядоположение этих текстов стимулирует реципиента расширить тот европейский контекст гуманистической мысли, в который органично вписывается художественное кредо В. Шаламова, воплощенное им в слове, привлекая сюда не только польскую лагерную прозу и поэзию. К примеру, в этом плане целесообразно сопоставить гуманистические искания В. Шаламова с рассказом Ч. Милоша «Zmartwienia historyka» («Страдание историка») из книги писателя «Piesek рęуęогпу» («Придорожный песик») [21, с. 241-269] или З. Герберта «Pan Cogito» («Господин Когито») и многих других.
Полемично при сопоставлении выглядят и высказывания В. Шаламова, и польського писателя Витольда Гомбровича, размышляющего над статьями в журналах «Нова культура», «Жице литерацке», «Пшеглёнд культуральны», «По просту», присланных ему Ежи Гедройцем из Польши, и с болью в сердце наблюдающего за упадком польской послевоенной литературы и критики. Новые люди, как называет их В. Гомбрович, голоса которых звучали ему с журнальных страниц, не смогли изъять опыт из двух мировых войн:
«Mnie watasnie się zdaje, - пишет В. Гомбрович, - ze oni swojego zycia nie przezyli.
Ich nieprzezycie wojny. - Ktos w tych gazetach powotuje się na Adolfa Rudnickiego - on miat powiedziec, ze literatura powojennej Polski nie zdotata wyczerpac nalezycie tematyki wojennej, ze z tej otchtani piekielnej nie wydobyto wszystkiego, co by się dato, o cztowieku. To prawda, ze niewiele wydobyto. Ale czy piekto nadaje się do eksploatacji?
Ci pisarze, miedzy innymi i przede wzystkim Rudnicki, zabrali się do ciat torturowanych sgdzgc, ze niedobycznosc cierpienia dostarczy im jakiejs prawdy, moralnosci, przynajmniej nowej wiedzy o naszych granicach. Niewiele znalezli, co by okazato się ptodne i tworcze. Odkryli, jak Borowski, ze jestesmy bez- dennie nikczemni. Alez, jesli wszyscy jestesmy nikczemni, nikt nie jest nikczemny - pojgcie to hanbi tylko wtedy, gdy stuzy do odrozniania cztowieka od cztowieka»[4] (курсив мой. - Л. О.) [20, s. 365].
Фраза: «Ale czy piekfo nadaje siq do eksploatacji?» - является ключевым моментом в гомбровичской концепции видения жизни человека. И те запредельные физические и душевные страдания людей, каким они были подвергнуты в концлагерях, - это, по мнению В. Гомбровича, не та ситуация, которая служит постижению истинной человеческой природы, и не случайно он, протестуя против политических спекуляций лагерной тематикой, упомянул М. Пруста, нашедшего в своем пирожном, в своих служанках и графах больше, чем Рудницкий и др. в своих крематориях[5]. Позиция В. Шаламова не столь категорична, хотя его мысли диалогично перекликаются с мыслями В. Гомбровича и совпадают с ними только частично. Об этом говорят признания русского писателя:
«Много, слишком много сомнений испытываю я. <...> Нужна ли будет кому-нибудь эта скорбная повесть? Повесть не о духе победившем, но о духе растоптанном. Не утверждение жизни и веры, <...> но безнадежность и распад. Кому она нужна будет как пример, кого она может воспитать, удержать от плохого, кого научит хорошему? Будет ли она утверждением добра, все же добра - ибо в этической ценности вижу я единственный подлинный критерий искусства» [16].
К этим словам нужно добавить и те, особенно значимые суждения В. Шаламова, которые он высказал в письме к А. Солженицыну:
«Помните, самое главное: лагерь - отрицательная школа до последнего дня для кого угодно. Человеку - ни начальнику, ни арестанту не надо его видеть. Но уж если его видел - надо сказать правду, как бы ни была страшна. <...> Со своей стороны я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде» [Цит.: 13][6] .
Преодолев свои сомнения, смоделировав лагерную действительность, создав во времени искусства Четвертый ГУЛАГ, В. Шаламов, благодаря своему бесстрашию документалиста и художника, превратил опыт отрицательной школы в мощное орудие борьбы за человека.
Надо сказать, что «Четвертая Вологда» оттеняла Четвертый ГУЛАГ: ведь она была местом ссылки передовых людей времени, то есть местом не-свободы. Однако в силу большого скопления интеллектуальных сил в ней образовался своеобразный демократический климат - люди дискутировали, свободно отстаивая свои - в том числе и мировоззренческие - взгляды и позиции, что было немыслимо на Колыме. И не только: слова освободившегося, но вернувшегося на Север инженера Кипреева: «Мне легче дышится на Севере. До пенсии будет легче дышаться» [15, с. 155] - заключают в своем подтексте значительное по своей сути содержание. Как много говорит одно только уточнение - до пенсии... Писатель каждым своим словом утверждал ценность свободы как высшее благо. Правдой он боролся за человека, одновременно напоминая ему об его ответственности.
В завершение необходимо акцентировать важный, на наш взгляд, тезис: визуальные образы В. Шаламова - а живописание его словом, несмотря на жесткую «экономию» изобразительных средств, чрезвычайно выразительно - является тоже своеобразным «документом-свидетельством». Это тот пласт его текста, который еще далеко не исчерпан. Его картины, если их перевести на язык живописи, по своему величию и философскому содержанию встанут в один ряд с мировыми картинами Н. Рериха и Ф. Гойи.
Отдельная тема - это вопрос о несвободе и расчеловечении организаторов и охранников лагерей в системе ГУЛАГ.
Художественно-философская концепция человека и мира В. Шаламова нуждается в обширном и тщательном рассмотрении в контексте европейской философской мысли.
И, несмотря на большое количество интересных и талантливых работ о нем, каждое обращение к шаламовскому творчеству, если его взять за единый текст, говорит о том, что
В. Шаламов по своей значимости - как явление в русской культуре - неисчерпаем, а поэтому предстоит еще многое сделать.
Список использованных источников
1. Аношена А. Художественный мир Варлама Шаламова / А. Аношена Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - Северодвинск, 2006. - 17 с.
2. Астрахан Н. Буття літературного твору: Аналітичне та інтерпретаційне моделюван¬ня / Н. Астрахан. - К.: Академвидав, 2014. - 432 с.
3. Астрахан Н.І. Моделювання у літературознавстві: аналіз художнього тексту та ін-терпретація літературного твору / Н.І. Астрахан: автореф. дис. ... д-ра філол. наук. - К., 2015. - 40 с.
4. Бурггардт О. Новые горизонты в области исследования поэтического стиля (принци¬пы Э. Эльстера) / Освальд Бурггардт. - К.: Книгоиздательство И.И. Самоненко, 1915. - 66 с.
5. Герлинг-Грудзинский Г. Иной мир. Советские записки / Густав Герлинг-Грудзинский. - М.: Прогресс, 1991. - 239 с.
6. Лотман Ю. Текст в тексте / Ю. Лотман // Труды по знаковым системам. - Тарту: Из-дательство Тартуского университета, 1981. - Вып. 14. - С. 13-19.
7. Маяковский В. Облако в штанах / В. Маяковский // Стихотворения: В 3 т. Библиоте¬ка поэта. Малая серия. - Л.: Советский писатель, 1955. - Т. 1. - С. 109-110.
8. Смирнов И. Порождение интертекста: элементы интертекстуального анализа с при-мерами из творчества Б.Л. Пастернака / И. Смирнов. - СПб.: Издательский отдел Языково¬го центра СПбГУ, 1995. - 193 с.
9. Оляндер Л. Гуманізм польської літератури ХХ-ХХІ століть у контексті європейської художньо-філософської думки: монографія / Л. Оляндер. - Луцьк: Вежа-Друк, 2012. - 404 с.
10. Тарнашинська Л. Не зарікайся, натомлена душа / Л. Тарнашинська // Парасоля на кожен дощ. Новели, оповівдання, маленькі повесті. - К.: Неопалима купина, 2008. - 256 с.
11. Тарнашинська Л. Дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ ст. / Л. Тарна-шинська: автореф. дис. ... д-ра філол. наук. - К., 2014. - 45 с.
12. Тарнашинська Л. Сюжет Доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ столетия: монографія / Л. Тарнашинська. - К.: Академперіодика, 2013. - 678 с.
13. Шаламов Варлам Тихонович [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Шаламов_Варлам_Тихонович (Последнее обращение 02.03.2016).
14. Шаламов В. Колымские рассказы. Кн. 1. / В. Шаламов. - М.: Русская книга (Совет¬ская Россия), 1992. - 592 с.
15. Шаламов В. Колымские рассказы. Кн. 2. / В. Шаламов. - М.: Русская книга (Совет¬ская Россия), 1992. - 432 с.
16. Шаламов В. Несколько моих жизней. Воспоминания. Записные книжки. Перепис¬ка. Следственные дела / В. Шаламов. - М.: Эксмо, 2009. - 576 с.
17. Шаламов В. Четвертая Вологда / В. Шаламов // Наше Наследие. - М.: Искусство, 1988. - № 3. - С. 54-77.
18. Якобсон Р. Что такое поэзия? [Электронный ресурс] / Р. Якобсон. - Режим досту¬па: http://www.tamastar.com/cestina/plk/yakobson/cotoje~1.htm (Последнее обращение 14.03.2016).
19. Якобсон Р. Вопросы поэтики. Постскриптум к одноименной книге // Работы по по¬этике / Р. Якобсон. - М.: Прогресс, 1987. - С. 80-98.
20. Gombrowicz W.C Dziennik 1953-1956 / Witold Gombrowicz. - Krakow: Wydawnictwo Literackie, 1986. - 381 s.
21. Mitosz Cz. Piesek przydrozny / Czestaw Mitosz. - Krakow: Wydawnictwo Znak, 1997. - 317 s.
22. Natkowska Z. Medaliony / Zofia Natkowska. - Warszawa: Czytelnik, 1982. - 70 s.
23. Wyka K. Zycie na niby. Pamiętnik po klęsce / Kazimierz Wyka. - Krakow-Wroctaw: Wy-dawnictwo literackie,1984. - 302 s.
References
1. Anoshena, A. Hudozhestvennyj mir Varlama Shalamova. Avtoref. diss. kand. filol. nauk [Var-lam Shalamov's Art Word. Extended abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Severodvinsk, 2006, 17 p.
2. Astrakhan, N. Buttia literaturnoho tvoru: Analitychne ta interpretatsijne modeliuvannia [Life of a literary work: Analytical and interpretational modelling]. Kyiv, Akademvydav Publ., 2014, 432 p.
3. Astrakhan, N.I. Modeliuvannia u literaturoznavstvi: analiz khudozhn'oho tekstu ta inter- pretatsiia literaturnoho tvoru. Avtoref. diss. dokt. filol. nauk [Modelling in literary criticism: the analysis of the fiction text and interpretation of a literary work. Extended abstract of Doct. philol. sci. diss.]. Kyiv, 2015, 40 p.
4. Burggardt, O. Novye gorizonty v oblasti issledovanija pojeticheskogo stilja (principy Je. Jel'stera) [New horizons in the field of research of poetic style (E. Elster's principles)]. Kyiv, Pub¬lished by I.I. Samonenko, 1915, 66 p.
5. Gerling-Grudzinskij, G. Inoj mir. Sovetskie zapiski [Other world. The Soviet notes]. Mos¬cow, Progress Publ., 1991, 239 p.
6. Lotman, Ju. Tekst v tekste [Text in the text]. Trudy po znakovym sistemam [Works on sign systems]. Tartu, Tartu University Publishing house, 1981, issue 14, pp. 13-19.
7. Majakovskij, V. Oblako v shtanah [Cloud in pants]. Stihotvorenija: V 3 t. Biblioteka poje- ta. Malaja serija [Poems: In 3 vol. Library of the poet. A small lot]. Leningrad, Sovetskij pisatel' Publ., 1955, vol. 1, pp. 109-110.
8. Smirnov, I. Porozhdenie interteksta: jelementy intertekstual'nogo analiza s primerami iz tvorchestva B.L. Pasternaka [Intertext generation: elements of intertextual analysis with exam¬ples from B.L. Pasternak's work]. St.petersburg, Izdatel'skij otdel Jazykovogo centra SPbGU Publ., 1995, 193 p.
9. Oliander, L. Humanizm pol's'koi literatury XX-XXI stolit' u konteksti ievropejs'koi khudozhn'o-filosofs'koi dumky: monohrafiia [Polish Literature humanism of 20-21th centuries in a context of the European art-philosophical idea: the monography]. Luts'k, Vezha-Druk Publ., 2012, 404 p.
10. Tarnashyns'ka, L. Ne zarikajsia, natomlena dusha [Do not promise, a tired soul]. Paraso- lia na kozhen dosch. Novely, opovivdannia, malen'ki povesti [The Umbrella on Each Rain. Novel¬las, stories, small stories]. Kyiv, Neopalyma kupyna Publ, 2008, 256 p.
11. Tarnashyns'ka, L. Dyskurs shistdesiatnytstva v ukrains'kij literaturi XX st. Avtoref. diss. Dokt. filol. nauk [Sixtiers Discourse in Ukrainian Literature of 20th century. Extended abstract of Doct. philol. sci. diss.]. Kyiv, 2014, 45 p.
12. Tarnashyns'ka, L. Siuzhet Doby: dyskurs shistdesiatnytstva v ukrains'kij literaturi KhKh stoletyia: monohrafiia [Plot of an epoch: sixtiers discourse in Ukrainian Literature of 20th centu¬ry: the monography]. Kyiv, Akademperiodyka Publ, 2013, 678 p.
13. Shalamov Varlam Tihonovich [Shalamov Varlam Tihonovich]. Available at: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Shalamov_Varlam_Tihonovich (Accessed 02 March 2016).
14. Shalamov, V. Kolymskie rasskazy. Kniga 1 [The Kolyma stories. The book 1]. Moscow, Russkaja kniga (Sovetskaja Rossija) Publ., 1992, 592 p.
15. Shalamov, V. Kolymskie rasskazy. Kniga 2 [The Kolyma stories. The book 2]. Moscow, Russkaja kniga (Sovetskaja Rossija) Publ., 1992, 432 p.
16. Shalamov, V. Neskol'ko moih zhiznej. Vospominanija. Zapisnye knizhki. Perepiska. Sled- stvennye dela [Some my lives. Memoirs. Notebooks. Correspondence. Investigatory cases]. Mos¬cow, Jeksmo Publ., 2009, 576 p.
17. Shalamov, V. Chetvertaja Vologda [The Fourth Vologda]. Nashe Nasledie [Our Heritage]. Moscow, Art Publ., 1988, no. 3, pp. 54-77.
18. Jakobson, R. Chto takoe pojezija? [What is the poetry?]. Available at: http://www.tama- star.com/cestina/plk/yakobson/cotoje~1.htm (Accessed 14 March 2016).
19. Jakobson, R. Voprosy pojetiki. Postskriptum k odnoimennoj knige [Questions of poetics. A postscript to the same book]. Raboty po pojetike [Works in poetics]. Moscow, Progress Publ., 1987, pp. 80-98.
20. Gombrowicz, W.C. Dziennik 1953-1956 [The Diary 1953-1956]. Krakow, Wydawnictwo Literackie Publ., 1986, 381 p.
21. Mitosz, Cz. Piesekprzydrozny [Roadside Dog]. Krakow, Wydawnictwo Znak Publ., 1997, 317 p.
22. Natkowska, Z. Medaliony [Medallions]. Warszawa,: Czytelnik Publ., 1982, 70 p.
23. Wyka, K. Zycie na niby. Pamiqtnik po klqsce [Life as though. Life as though. A monument to defeat]. Krakow-Wroctaw, Wydawnictwo literackie Publ.,1984, 302 p.
Одержано 5.02.2016.
[1] «Только когда эпоха умирает и тесная взаимосвязь отдельных ее компонентов распадается, - пишет Р. Якобсон, - только на пресловутом кладбище истории над различной археологической ветошью возвышаются поэтические “памятники". <...> Точно так же человеческий скелет мы обнаруживаем лишь в гробнице, когда он уже ни на что не пригоден. Он ускользал от наблюдения, пока выполнял свою задачу, и увидеть его мы могли лишь в освещении искусственном рентгеновских лучей, лишь при настырном стремлении понять: что такое позвоночник, что такое поэзия» [18].
[2] Временами казалось, что достаточно только одного слова, одного жеста. и...глухие непробиваемые стены раздвинуться сами собою. (Перевод с укр. мой. - Л. О.).
[3] См. подробно об этом также: Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (Історико-літературний та поети кальний аспекти): монографія / Л. Тарнашинська. - К.: Смолоскип, 2010. - 632 с.
[4] «Мне, собственно, кажется, что они не пережили в своей жизни. Они не пережили войну. Кто- то из них ссылается на Адольфа Рудницкого - где-то он сказал, что литература Польши не смогла должным способом исчерпать военную тематику, что из этой адской пропасти не было добыто о человеке всего, что можно. Это правда, что не очень много. Но можно ли эксплуатировать ад?
Эти писатели и прежде всего Рудницкий взялись за тела, которые подверглись пыткам, считая, что недостижимость страдания даст им какую-то правду, моральность, по крайней мере про наши границы. Немного нашли, что оказалось бы творчески плодотворным. Они, как и Боровский, открыли, что мы глубоко никчемные. Но если все мы никчемные, то кто не никчемный - это понятие позорит только тогда, когда оно отличает одного человека от другого».
[5] См.: подробно: [20, с. 366].
[6] Подробно см. об этом также: Шаламов В. Переписка с А.И. Солженицыным / В. Шаламов // Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. - М.: Эксмо, 2004. - 1072 с.