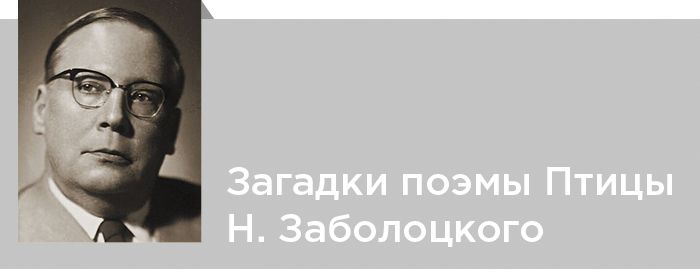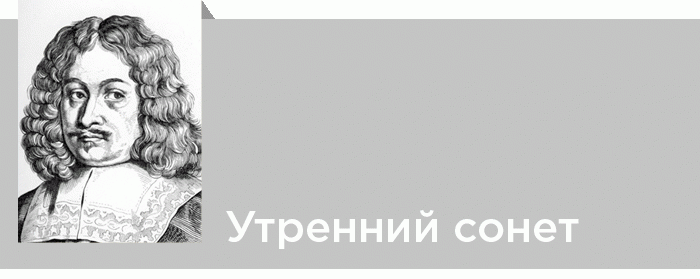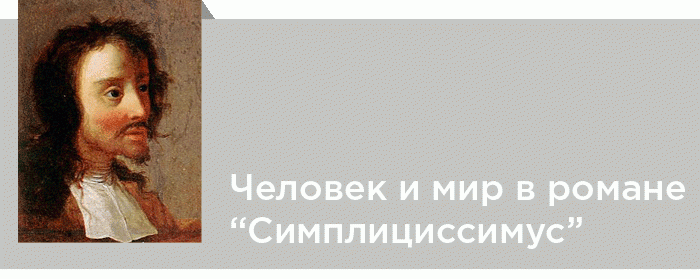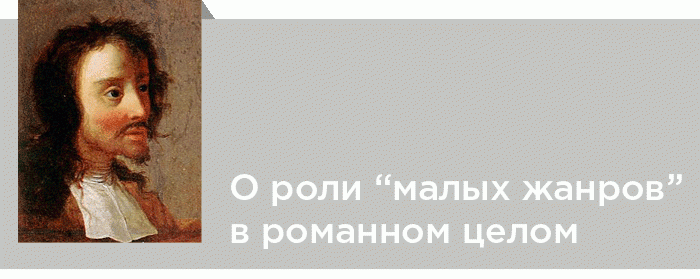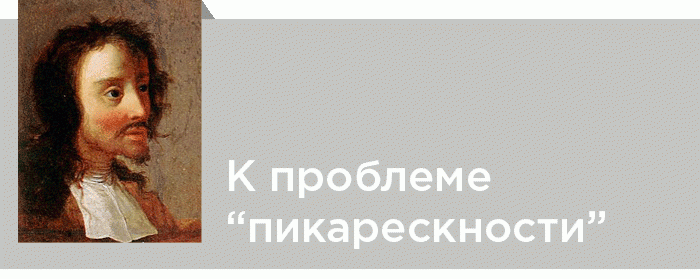Ганс Якоб Кристоффель фон Гриммельсгаузен. Симплициссимус
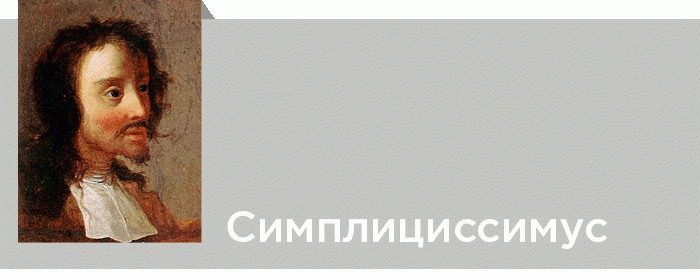
(Отрывок)
Как Феникс, рожден я из пламени был.
Я ввысь воспарял, но себя не сгубил,
Бродил я по странам, в морях я бывал,
Отрады в скитаниях мало знавал,
О том же, что делалось в жизни моей,
Поведал читателю в книжице сей.
Пусть в жизни он следует ныне за мной:
Бежит неразумья, вкушает покой.
Благорасположенное напоминовение доброхотным читателям
Высокочтимые, благосклонные, предорогие и любезные соотечественники!
Сим издается в свет совершенно новым набором и тиснением мое утешно-занимательное и весьма глубокомысленное Жизнеописание, украшенное изрядными гравюрами на меди, изготовленными по моей инвенции, а также моего батьки, матки, Урселе и сына Симплиция, к чему понуждает меня дерзкий и поистине наглый перепечатник, который, уж не ведаю, по зависти ли себялюбивого сердца или, как мне скорее думается, по бесстыдному подстрекательству неких недоброхотов, вознамерился пренаглым образом вырвать из рук и совершенно незаконно присвоить себе высокопохвальные труды, издержки, прилежание и усердие моего господина издателя, употребленные на добропорядочное и благопристойное издание сего моего сочиненьица, ему одному только препорученного и переданного со всею проистекающею из сего прибылью. Такое бесчинное предприятие, когда я о нем уведомился, повергло меня в прежестокую опасную болезнь, от коей я и по сей день не оправился. Однако ж велел я возлюбленному моему сыну Симплицию составить вместо меня и разослать любезным моим соотечественникам, а также довести до слуха Юстиции трактатец, на титуле коего обозначено:
ЗАПУСКАЮЩЕМУ ЛАПЫ В ЧУЖОЕ ДОБРО БЕЗЗАКОННИКУ ПО ПРАВУ ОБРЕЗАННЫЕ КОГТИ
Надеюсь, что сие сочиненьице будет вам не докучливо, ибо в нем содержатся такие arcana, которые дают в руки превосходное средство сохранить свое добро в надежном покое и приятной безопасности. Меж тем пусть сие издание моей книги, на коем обозначено имя моего издателя, будет предпочтено всем прочим; ибо другие экземпляры, кои выпущены противною стороною, я, не будь я Симплициссимусом, не только не признаю своими произведениями, но и стану их всячески преследовать до последнего дыхания, и, где только ни увижу, велю пустить на обертку, и не премину послать образчик господину Перетырщику. Впрочем же, не могу также не уведомить, что мой издатель с великим прилежанием и издержками намедни выпустил в свет мой «Вечный неизменный Календарь», также многие другие презанимательные сочинения, как-то: «Черное и Белое, или Сатирический Пильграм», «Побродяжка Кураже», «Затейливый Шпрингинсфельд», «Целомудренный Иосиф и его верный слуга Музаи», приятная для чтения «Любовная гистория и жизнеописание Дитвальда и Амелинды» и еще «Двуглавый Ratio status», за коими в будущем должна последовать, ежели я и сын мой Симплиций будем живы, небольшая ежегодная настольная книга или календарь в кварту, содержащий Continuatio, сиречь продолжение моих диковинных приключений, дабы оказать вам, любезные соотечественники, некоторое удовольствие. А буде объявится наглый и охочий до чужого добра мошенник, который вознамерится и сие перепечатывать и присваивать, то я учиню ему такую баню или отместку, что он до конца дней своих не забудет Симплициссимуса. И сие, прошу вас, господа соотечественники, где бы вы ни пребывали, не оставлять без внимания. Я же, напротив, служу вам, чем только могу и умею, и остаюсь
Вашим покорным слугою
Симплициус Симплициссимус.
ЗАТЕЙЛИВЫЙ СИМПЛИЦИУС СИМПЛИЦИССИМУС
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОЙ ГЛАВЫ СЕЙ ПЕРВОЙ КНИГИ
1-я гл.
Симплиций толкует о знатном роде,
Понеже давно он славен в народе.
2-я гл.
Симплиций пастушеский сан приемлет,
Сей же никто у него не отъемлет.
3-я гл.
Симплиций дудит на волынке пузатой,
Покуда его не схватили солдаты.
4-я гл.
Симплициев дом – солдатам награда,
Нигде их разбою не видно преграды.
5-я гл.
Симплиций в лесу, что малая птаха,
Колотится сердце его от страха.
6-я гл.
Симплиций в лесу отшельника слышит,
Повергся в ужас, сам еле дышит.
7-я гл.
Симплиций находит себе кров и пищу,
С отшельником вместе живет, словно нищий.
8-я гл.
Симплиций в беседе с отшельником сразу
Выводит наружу дурацкий свой разум.
9-я гл.
Симплиций становится христианином,
А жил он доселе скотина скотиной.
10-я гл.
Симплиций писать и читать обучен,
В мыслях с пустыней вовек неразлучен.
11-я гл.
Симплиция повесть о жизни в пустыне,
Что им служило столом и периной.
12-я гл.
Симплиций смерть зрит, какою бывает,
Отшельника тело в земле погребает.
13-я гл.
Симплициус хочет пустыню покинуть,
Где ему привелось едва не погинуть.
14-я гл.
Симплиций видит, как солдаты-черти
Пятерых мужиков запытали до смерти.
15-я гл.
Симплиций уснул, не насытивши чрева,
Зрит в сонном виденье пречудное древо.
16-я гл.
Симплициус грезит о солдатской доле,
Где младший у старших всегда под неволей.
17-я гл.
Симплиций не может взять себе в толк,
Чего ради охотно дворян берут в полк.
18-я гл.
Симплиций в лесу письмецо обретает,
Пустыню затем не к добру покидает.
19-я гл.
Симплициус ищет лучшую долю,
А сам попадает в злую неволю.
20-я гл.
Симплиций понуро шагает в тюрьму,
По счастью, священник попался ему.
21-я гл.
Симплициус после тяжких невзгод
Нечаянно зажил средь важных господ.
22-я гл.
Симплициус слышит, как после сраженья
Отшельник в пустыне обрел утешенье.
23-я гл.
Симплициус жизнь начинает наново,
Становится пажем у коменданта в Ганау.
24-я гл.
Симплиций казнит беззаконие мира,
Где каждый избрал себе злого кумира.
25-я гл.
Симплиций не может в злом мире ужиться,
А мир сердито на него косится.
26-я гл.
Симплиций взирает ребяческим оком,
Каким солдаты подпали порокам.
27-я гл.
Симплиций зрит, как крапивное семя
Добро наживает в недоброе время.
28-я гл.
Симплиций в гаданье теряет кураж,
Его надувает проказливый паж.
29-я гл.
Симплиций, соблазном смущен, ненароком
Проворно съедает телячье око.
30-я гл.
Симплиций впервой зрит пьяных солдат,
Вздурились за чаркой, сам черт им не брат.
31-я гл.
Симплициус ставит на пробу кунштюк,
Едва тут ему не случился каюк.
32-я гл.
Симплициус зрит: на пиру кавалеры
Священника потчуют сверх всякой меры.
33-я гл.
Симплиций относит на кухню лисицу
С приказом сготовить на ужин с корицей.
34-я гл.
Симплиций на странных танцоров дивится,
От страху в глазах у него все двоится.
КНИГА ПЕРВАЯ
Первая глава
Симплиций толкует о знатном роде,
Понеже давно он славен в народе.
В наше время (когда толкуют, что близится конец света) нашло на людей подлого звания поветрие, при коем страждущие от него, коль скоро им удастся награбастать и набарышничать толико, что они, помимо немногих геллеров в мошне, обзаведутся еще шутовским платьем по новой моде с шелковыми лентами на тысячу ладов или же иным каким случаем прославятся и войдут в честь, тотчас же восхотят они объявить себя господами рыцарского сословия и людьми благородного состояния предревнего роду; а как частенько оказывается и прилежными поисками подтверждение находит, деды-то их были трубочисты, поденщики, ломовики и носильщики, двоюродные их братья погонщики ослов, фокусники, фигляры и канатные плясуны, братья – палачи и сыщики, сестры – швеи, прачки, метельщицы, а то и потаскушки, матери – сводницы или даже ведьмы и, одним словом, весь совокупный род их в тридцать два предка столь загажен и обесчещен, сколь это повсегда лишь цеху сахароваров в Праге быть возможно; да и сами они, новоиспеченные эти дворяне, нередко столь черны, как если бы они родились в Гвинее и воспитаны там были.
Я не хочу вовсе уподобить себя таким шутовским людям, и, хотя не скрою правды, сам не без того, и частенько мнил, что беспременно происхожу от некоего вельможного барина или, по крайности, от простого дворянина, ибо от природы питаю склонность к дворянскому ремеслу, – будь у меня на то достаток и снаряжение. Однако ж мое происхождение и воспитание не шутя можно сравнить и с княжеским, ежели не пожелать усмотреть в них великое различие. Чего? У моего батьки (ибо так зовут отцов в Шпессерте) был собственный дворец, такой же, как и у прочих, притом красивый, какого ни один царь в свете, будь он еще более могуществен, чем великий Александр, не сумеет построить своими руками и от того на веки вечные заречется; оный дворец был расписан глиною и заместо бесплодного шифера, холодного свинца и красной меди покрыт соломою от благородных злаков; и дабы он, мой батька, своим высокочтимым и знатным родом, от самого Адама ведущимся, и своим богатством достойно мог величаться, повелел он воздвигнуть вкруг замка стены, да не из камня, что находят на дороге или выкапывают из земли в бесплодных местах, а тем паче не из тех никудышных печеных камней, кои в короткое время изготовлены и обожжены быть могут, как это в обычае у иных важных господ; вместо того взял он бревна от дуба, каковое полезное и благородное древо (ибо на нем произрастают окорока и колбасы), чтобы прийти в совершенный возраст, требует не менее ста лет. Найдите монарха, который тако же поступил бы! Найдите венценосца, который возмечтал бы сие в дело произвести! Батька мой повелел все комнаты, залы и покои почернить дымом того только ради, что то – самая неотменная краска в мире и подобная роспись более времени для своего исполнения требует, нежели искусный живописец для изряднейших своих картин. Обои там были самой тонкой на земле ткани, ибо та, кто ее нам изготовила, в древности осмелилась с Минервой самой в прядении состязаться. Окошки там были посвящены святому Николе Бесстекольному, не по иной какой причине, кроме той, что ему было ведомо, сколько труда и времени положить надобно на совершенное изготовление стекла из конопли, либо льняного семени, – много более, нежели на самое лучшее и прозрачное стекло из Мурано, ибо достоинство батьки позволяло ему полагать, что все великим трудом добытое потому именно и великую цену имеет и тем дороже бывает, а то, что дорого, знатным людям более всего приличествует и достоинству их подобает. Заместо пажей, лакеев и конюхов были от него поставлены овцы, козлы и свиньи, весьма искусно наряженные в подобающую им природную ливрею; они частенько услужали мне на пастбище, пока я, утружденный их службой, не отошлю их от себя и не загоню домой. Оружейная палата, или арсенал, вдосталь и наилучшим образом снабжена была плугами, кирками, мотыгами, топорами, лопатами, навозными и сенными вилами, с каковым оружием батька мой каждодневные упражнения имел. Лес валить и корчевать – вот в чем была его disciplina militaris, как у древних римлян в мирные времена; волы в упряжке составляли его команду, над которой он был капитаном, вывозить навоз было его фортификацией, а пахотьба его походом, рубка дров каждодневным exercitio corporis, подобно тому как очистка хлева благородной забавой и турниром. Сим образом ратоборствовал он со всей землей, сколько мог ее захватить, и каждой жатвой отбивал у нее богатую добычу. Все сие оставляю и нисколько тем превознести себя не хочу, дабы никто не имел причины осмеять меня и иных, подобных мне, из новой той знати, ибо я почитаю себя не выше моего батьки, коего помянутое жилище стояло на веселом месте, то есть в Шпессерте, где по ночам подвывают волки: «Покойной ночи!» Ради любезной мне краткости не объявил я еще о происхождении, родословии и прозвании моего батьки, наипаче же потому, что тут и без того не идет речь о дворянском установлении, которое я должен был бы подтвердить под присягою; довольно, когда знают, что я родом из Шпессерта!
Как во всем домоустройстве моего батьки благородство весьма приметно было, то всякий разумеющий отсюда легко заключить может, что и мое воспитание тому сходствовало и подобало; и, кто так рассудит, тот не ошибется, ибо в десять лет я уже постиг помянутые principia благородных батькиных упражнений. Зато в обучении наукам я шел наравне с прославленным Амплистидом, о ком говорит Свида, что он не умел сосчитать дальше пяти; но, как видно, батька обладал чрезмерным умом и того ради последовал употребительному обычаю нынешнего времени, по коему многие знатные господа не утруждают себя учеными упражнениями, или, как они то называют, школьной дуростью, ибо держат пачкунов, которые марают за них бумагу. Впрочем, я изредка игрывал на волынке жалостные песни Ялема, в чем не уступал и славному Орфею, и как тот отличился на арфе, так и я преуспевал перед всеми чрез свою игру на волынке. А что касается до теологии, то во всем христианском мире не сыскалось бы тогда другого, который в моем возрасте со мной поравняться бы мог, в том меня не переспоришь; ибо не было у меня тогда понятия ни о боге, ни о людях, ни о небе, ни о преисподней, ни об ангелах, ни о чертях, и я не знал, как отличить добро от зла. Посему нетрудно усмотреть, что с помощью такого богословского образования жил я, как прародители в раю, кои в своей беспорочности не знали о болезнях, смертном одре и смерти и еще того меньше о воскресении из мертвых. О, сколь господское житие (прескотское, мог бы ты воскликнуть), когда не надобно печалиться о медицине! Тем же родом можно уразуметь, сколь превосходен был мой опыт в studio legum и других искусствах и науках, какие только есть на земле. И я пребывал в столь полном и совершенном неведении, что не мог постичь даже того, что ничего не знаю. И еще раз скажу: «О, сколь господское житие было тогда моим уделом!» Но батьке моему не было угодно оставить меня наслаждаться сим благополучием, и он по справедливости рассудил, что сообразно с моим благородным рождением подобает мне жить и поступать также благородно; для того и стал он привлекать меня к постижению высоких предметов и задавать мне нелегкие уроки.
Вторая глава
Симплиций пастушеский сан приемлет,
Сей же никто у него не отъемлет.
Он даровал мне высокий сан, который учрежден не только при его дворе, но и во всем мире, то есть древнее достоинство пастуха. Первым делом вверил он мне свиней, затем коз и напоследок все стадо овец, дабы я их стерег, пас и охранял от волков с помощью волынки (звук которой, по словам Страбона, сам по себе понуждает жиреть овец и ягнят в Аравии); в те времена походил я на Давида, разве только что у него вместо волынки была всего лишь арфа; сие нехудое начало было добрым предзнаменованием, что со временем и я, ежели подвернется счастье, прославлюсь на весь мир. Ибо от сотворения мира пастухами бывали знатные особы, как мы сами читали в Священном писании про Авеля, Авраама, Исаака, Иакова, его сыновей и Моисея, который стерег овец тестя до того, как стал предводителем и законодателем 600000 мужей Израиля. Да, может статься, кто захочет меня упрекнуть, что то-де были святые праотцы, а не деревенский мальчишка из Шпессерта, который даже ничего не слыхал о боге. Должен признать это и не стану запираться; но разве тогдашняя моя простота в том повинна? И среди древних язычников находят такие примеры, как и у народа, избранного богом: так, из римлян, нет сомнения, принадлежали к знатным родам – Бубульки, Статилии, Помпонии, Витулии, Вителии, Аннии, Капери и др., кои все так наречены были, потому что ходили за скотиною, а может статься, и пасли ее. Право, Ромул и Рем и те были пастухами; пастухом был Спартак, столь ужасавший владык Рима. Да что там! Сын царя Приама Парис и Анхис, отец троянского князя Энея, были пастухами, как о том говорит Лукиан в «Dialogus Helenae». Пастухом был и прекрасный Эндимион, к коему вожделела сама непорочная луна, также и свирепый Полифем, да и сами боги, как говорит Форнутус, не стыдились этого занятия. Аполлон стерег коров Адмета, царя Фессалии. Меркурий, его сын Дафний, Пан и Протей были изрядными пастухами, того ради до сего дня в устах безрассудных поэтов они именуются покровителями пастухов; пастухом был Меза, царь моавитян, о чем можно прочесть во второй Книге царств; Кир, могущественный царь персов, не только был воспитан Митридатом, но и сам пас скот. Гигес был пастухом и с помощью своего перстня стал царем. Исмаил Сефи, персидский шах, также в юности своей пас скот; так, Филон Иудей изрядно о том судит в «Vita Moysis», когда говорит: «Пастушество приуготовляет к принятию власти; ибо как bellicosa и martialia ingenia прежде упражняются и совершенствуются на охоте, так должно и тех, кому вручена будет власть, сперва наставить, как пасти с миром скот». Батька мой должным образом уразумел все сие, ибо имел он изрядный капитолиум на плечах и весьма проницательный ум, того ради вперил он в меня немалую и до сего часа не оставившую меня надежду на будущее величие.
Однако же, возвращаясь к моему стаду, пусть будет ведомо, что волков я знал столь же мало, как и свою простоту: того ради батька мой в своих наставлениях весьма прилежен был. Он сказал: «Малой, держи ухо-то востро, смотри за овцами-то, чтоб не разбежались, играй веселей на волынке, не ровен час, набежит волк да натворит бед, то такой четвероногой плут и вор, жрет людей и скот, а коли ты недосмотришь, то я тебя отдую». Я ответил ему с тою же приятностию: «Батько, скажи-ко, какой-такой волк-то, волка-то я еще никогда не видывал». – «Ах ты, дурень глупый, – ответствовал он, – дураком проживешь, дураком помрешь, диву даешься, что с тобой станется, вырос большою орясиною, а того не знаешь, что за плут о четырех ногах, волк-то».
Также преподал он мне иные многие наставления и под конец возмутился духом, поелику ушел с неким ворчанием, полагая, что мой простой и неотесанный ум еще не довольно вылощен и не может постичь столь субтильных наставлений и еще к тому не способен.
Третья глава
Симплиций дудит на волынке пузатой,
Покуда его не схватили солдаты.
Тут зачал я на своей волынке так всех потчевать, что на огороде жабы могли передохнуть, так что от волка, кой не выходил у меня из ума, мнил я себя в совершенной безопасности; и тем временем вспомнилась мне матка (ибо так зовут матерей в Шпессерте и Фогельсберге), как она частенько говаривала: ей забота, как бы куры от моего пения не попередохли, и было мне любо петь, дабы remedium против волков имел еще большую силу, и притом пел я ту самую песню, какую я перенял от матки:
Презрен от всех мужичий род,
Однако ж кормит весь народ.
Достоин ты премногих хвал
Для всех, кто истину познал.
Когда б Адам пахать не стал,
То б целый свет жить перестал.
С мотыгой землю он прошел,
Чтоб следом князь на трон взошел.
Все, что земля приносит нам,
Возделал ты, презренный хам!
Тобою жатва собрана,
Которой кормится страна.
И даже царь, что богом дан,
Прожить не может без крестьян.
Твой хлеб мужицкий ест солдат,
Хоть от него тебе наклад.
Вино для барского стола
Земля трудом твоим дала.
Земля приносит все плоды,
Когда рожать понудишь ты!
Весь свет давным-давно б поник,
Когда б не жил на нем мужик.
Пустыней стала бы земля,
Когда бы не рука твоя.
А посему тебе и честь,
Зане даешь ты всем нам есть.
Натурой ты исполнен сил
И бог тебя благословил.
Подагра, что дворян разит,
Ногам мужицким не грозит.
Что в гроб низводит богачей,
То не мрачит твоих очей.
А чтоб тебя не ела спесь,
С начала века и доднесь –
Тебе ниспослан тяжкий крест
Нести до самых горних мест.
Твое добро берет солдат
Тебе ж на благо – будь же рад.
Тебя он должен грабить, жечь,
Дабы от чванства уберечь…
До сих пор и не долее продолжал я сие сладостное пение, ибо в тот миг окружил меня и мое стадо отряд кирасир, которые заплутались в частом лесу, а моя музыка и пастушеские клики вывели их на верную дорогу. «Ого, – подумал я, – так вот они, голубчики! Так вот они, четвероногие плуты и воры, о которых говорил тебе батька», – ибо сперва почел я коня и мужа за единую тварь (подобно тому как жители Америки испанских всадников) и полагал, что то не иначе, как волки, и захотел я ужаснейших сих кентавров протурить и от них избавиться. Но едва успел я надуть мех своей волынки, как один из них поймал меня за шиворот и столь жестоко швырнул на крестьянскую лошадь, которая вместе с многими другими досталась им в добычу, что я перекинулся через нее и упал прямо на милую мою волынку, зачавшую тогда взывать столь жалостно, как если бы она хотела пробудить весь свет к милосердию: но было то напрасно, хотя и скорбела она о моем несчастии до последнего вздоха, – видит бог, я принужден был снова взгромоздиться на лошадь, чего бы там моя волынка ни пела и ни сказывала; а всего более досаждало мне, что всадники уверяли, будто я в падении зашиб волынку, того ради она так безбожно и завопила. Итак, кляча моя везла меня вперед равномерной, как primum mobile, рысью до самого батькиного двора.
Диковинные воображения и тарабарские вздоры наполнили ум мой и понеже я восседал на таком звере, какого отродясь не видывал, а тех, что меня увозили, почел за железных, то возомнил, что и сам я в подобного железного детину метаморфизироваться должен. Но понеже такого превращения не последовало, то взбрелись мне на ум иные дурачества: я полагал, что сии чужие гости напоследок для того лишь явились, чтобы помочь мне загнать домой овец, поелику ни единую из них не пожрали, а, напротив того, в совершенном согласии и прямой дорогой поспешили ко двору моего батьки. Того ради оглядывался я весьма прилежно, высматривая батьку, не пожелают ли он и матка тотчас выйти нам навстречу с приветливым словом; но тщетно, он и матка, вместе с ними Урселе, которая была единственной возлюбленной дочерью моего батьки, сбежали через заднюю калитку, дали тягу и не захотели тех беспутных гостей ожидать.
Четвертая глава
Симплициев дом – солдатам награда,
Нигде их разбою не видно преграды.
Хотя и не расположен я вести миролюбивого читателя вслед за той бездельнической ватагой в дом и усадьбу моего батьки, ибо там случится много худого, однако ж добрый порядок моей повести, которую оставлю я любезному потомству, того требует, чтобы поведал я, какие мерзкие и поистине неслыханные свирепости чинились повсюду в нашу немецкую войну, и особливо своим собственным примером свидетельствовал, что таковые напасти часто ниспосланы нам благостным провидением и претворены нам на пользу. Ибо, любезный читатель, кто бы сказал мне, что есть на небе бог, когда бы воины не разорили дом моего батьки и через такое пленение не принудили меня пойти к людям, кои преподали мне надлежащее наставление? До того мнил я и не мог вообразить себе иначе, что мой батька, матка, Урселе и прочая домашняя челядь только и живут одни на земле, понеже иного какого человека я не видывал и о другом человеческом жилье, кроме описанной перед тем шляхетской резиденции, где я тогда дневал и ночевал, не ведал.
Но вскорости узнал я, каково происхождение людей на сем свете, что нет у них постоянного пристанища, а весьма часто, прежде всякого чаяния, принуждены они покинуть сию юдоль; был я тогда только по образу своему человек и по имени христианин, а в остальном совершенно скот. Однако ж всевышний, взирая милостивым оком на мою простоту, пожелал привести меня вместе к познанию его и самого себя. И хотя были у него к тому тысячи различных путей, нет сомнения, восхотел избрать тот, на коем батька мой и матка в назидание другим за нерадивое воспитание должным образом наказаны будут.
Первое, что учинили и предприняли те всадники в расписанных копотью покоях моего батьки, было то, что они поставили там лошадей; после чего всяк приступил к особливым трудам, кои все означали сущую погибель и разорение. Ибо в то время, как некоторые принялись бить скотину, варить и жарить, так что казалось, будто готовится тут веселая пирушка, другие свирепствовали во всем доме и перешарили его сверху донизу, так что не пощадили даже укромный покой, как если бы там было сокрыто само золотое руно Колхиды. Иные увязывали в большие узлы сукна, платья и всяческую рухлядь, как если бы сбирались открыть ветошный ряд, а что не положили взять с собою, то ломали и разоряли до основания; иные кололи шпагами стога соломы и сена, как будто мало им было переколоть овец и свиней; иные вытряхивали пух из перин и совали туда сало, сушеное мясо, а также утварь, как будто оттого будет мягче спать. Иные сокрушали окна и печи, как если бы их приход возвещал нескончаемое лето; сминали медную и оловянную посуду, после чего укладывали ее погнутой и покореженной; кровати, столы, стулья и скамьи они все пожгли, хотя на дворе лежало сухих дров довольно. Напоследок побили все горшки и миски, либо оттого, что с большей охотой ели они жаркое, либо намеревались тут всего один раз оттрапезовать.
Со служанкой нашей в хлеву поступили таким родом, что она не могла уже оттуда выйти, о чем, по правде, и объявлять зазорно. А работника они связали и положили на землю, всунули ему в рот деревянную пялю да влили ему в глотку полный подойник гнусной навозной жижи, кою называли они «шведский напиток», что, однако ж, не пришлось ему по вкусу и произвело на лице его удивительные корчи, через то принудили они его свести некоторых из них в иное место, где взяли людей и скот и пригнали на наш двор, а были там посреди них мой батька, моя матка и наша Урселе.
Тут стали они отвинчивать кремни от пистолетов и на их место ввертывать пальцы мужиков и так пытали бедняг, как если бы хотели сжечь ведьму, понеже одного из тех пойманных мужиков уже засовали в печь и развели под ним огонь, хотя он им еще ни в чем не признался. Другому обвязали голову веревкой и так зачали крутить палкой ту веревку, что у него изо рта, носа и ушей кровь захлестала. Одним словом, у каждого из них была своя хитрость, как мучить крестьян, и каждый мужик имел свою отличную от других м?ку. Однако ж батька, по тогдашнему моему разумению, был всех счастливее, понеже он смеючись признавался во всем, что иные принуждены были сказать с болью и жалостливыми воплями, и такая честь случилась ему, нет сомнения, для того, что он был хозяин, ибо они связали его по рукам и ногам так, что он не мог пошевелиться, посадили к огню и натерли ему подошвы мокрой солью, а наша старая коза ее тотчас же слизывала, через что происходило щекотание, так что он, казалось, мог лопнуть со смеху. Сие показалось мне столь приятным и любезным (понеже я моего батьку в таком долгом смехе никогда не видывал и не слыхивал), так что и я ради доброго кумпанства либо оттого, что не слишком много разумел, принужден был от всего сердца рассмеяться. С тем смехом признал он свою вину и объявил сокрытое сокровище, где золота, жемчуга, драгоценных каменьев было больше, чем можно было надеяться сыскать у мужика. О захваченных женах, дочерях и служанках не могу особливо ничего сообщить, ибо воины не допускали меня смотреть, как они с ними поступали. Однако ж я довольно знаю, как инде в различных уголках были слышны ужасающие вопли, почитай что и моя матка, и наша Урселе не избежали той общей участи. Посреди такого несчастия вертел я жаркое на роженьке и ни о чем не заботился, ибо я еще всего того надлежащим образом не разумел; пополудни я помогал поить лошадей, каким средством и привелось мне попасть в хлев к нашей служанке, которая была диковинным образом вся растрепана; я не узнал ее, она же сказала мне хворым голосом: «Малой, удирай-ко отсюдова, а не то заберут тебя те всадники, норови как бы уйти, видишь, как тут худо». Сверх того не смогла она ничего сказать.
Пятая глава
Симплиций в лесу, что малая птаха,
Колотится сердце его от страха.
И тут только впервые размыслил я о том бедственном положении, какое предстало моему взору, и стал обдумывать, как бы это мне половчее выкрутиться и удрать. А куда? Мой скудный ум не пришел мне на помощь. Однако ж к вечеру мне удалось сбежать в лес, а милую мою волынку я не покинул даже в беде и крайности. А что ж теперь? Поелику дороги и лес столь же мало были мне знаемы, как и путь через Ледяное море от Новой Земли до Китая. Непроглядная ночь укрыла меня, оберегая от опасности, но, по моему темному разумению, она не была достаточно темною; а посему схоронился я в чаще кустарников, куда доносились до меня возгласы пытаемых крестьян и пение соловьев, каковые птички, не взирая на крестьян, коих тоже подчас зовут птицами, не дарили их сочувствием, и сладостное то пение не смолкало несчастия их ради; посему и я прилег на бок и безмятежно заснул. А едва утренняя звезда возжглась на востоке, увидел я дом батьки, охваченный пламенем, и не было никого, кто бы желал потушить пожар. Я отправился туда в надежде повстречать кого-либо с нашего двора, но тотчас же пять всадников заприметили меня и закричали: «Беги сюда, малец, а то, черт подери, пальнем так, что у тебя пар из глотки пойдет». Я же остолбенел и стоял разинув рот, ибо не знал, что тем всадникам было надобно, и как я смотрел на них, ровно кот на новые ворот?, однако ж они не могли перейти ко мне по болоту и, нет сомнения, были оттого в превеликой досаде, и тогда один из них разрядил в меня свой карабин; внезапный огонь и неожиданный треск, повторенный многократным эхом, стали оттого еще ужаснее, чем я так настращался, ибо никогда ничего похожего не видывал и не слыхивал, что тотчас же упал на землю, растянулся во весь рост и не мог шелохнуться от страху; хотя всадники ускакали своей дорогой и, нет сомнения, почли меня за мертвого, во весь тот день я не собрался с духом, чтоб приподняться или часом оглядеться по сторонам. А когда снова застигла меня ночь, я встал и пошел лесом, покуда не приметил вдалеке мерцания гнилого дерева, отчего напал на меня новый страх; того ради я опрометью бросился назад и шел столь долго, покуда вновь не завидел мерцающие гнилушки, и так же обратился от них в бегство и подобным образом провел ночь, кидаясь туда и сюда от одного гнилого дерева до другого. Наконец любезное утро поспешило ко мне на помощь, повелев деревьям не смущать меня в его присутствии; однако ж от этого весьма мало было мне пользы, ибо сердце мое трепетало в великой тоске и робости, ноги подкашивались от ослабления, пустой желудок был набит голодом, рот полон жаждой, мозг дурацкими воображениями, а в глазах стоял сон.
Невзирая на то, я шел все вперед, однако ж не ведая куда. Чем глубже я заходил в лес, тем более удалялся от людей: тогда претерпел и почувствовал я (неприметно для себя) действия неразумия и неведения; и безрассудный зверь на моем месте скорее нашел бы, как ему надлежит поступить для сохранения жизни. Однако же я был столь смышлен, что когда ночь опять застигла меня, то залез в дупло, прилежно схоронил любезную мою волынку и так приуготовил себя ко сну.
Шестая глава
Симплиций в лесу отшельника слышит,
Повергся в ужас, сам еле дышит.
Едва приуготовил я себя ко сну, достиг моего слуха глас: «О, неизреченная любовь к неблагодарным людям! О, единственная моя отрада, упование мое, сокровище мое и бог мой!», а также иные подобные слова, чего не мог я ни запомнить, ни уразуметь. Такие речи по справедливости должны были доброго христианина, который бы оказался в тех обстоятельствах, в коих я находился, ободрить, развеселить и утешить. Однако ж, о, простота и невежество! То был для меня дремучий лес и невразумительный язык, какого я не токмо не мог постичь, но и от такой его странности пришел в трепет. А когда услыхал я, что говоривший сие утолит голод и жажду, надоумил меня нестерпимый голод и едва не ссохшийся от недостатка пищи желудок пригласить самого себя к столу; того ради собрался я с духом и отважился вылезти из дупла и приблизиться к тому гласу. Тут приметил я человека рослого, у коего предлинные черные волосы, подернутые сединой, спадали ниже плеч в великом беспорядке; борода у него всклокочена и кругла, почти как швейцарский сыр. Лик изжелта-бледен и худ, однако ж довольно приятен; долгий его кафтан покрыт превеликим множеством различных заплат, насаженных одна на другую, а шея и стан обвиты тяжелой железной цепью, ровно как у святого Вильгельма, впрочем, вид его в моих глазах был столь гнусен и устрашителен, что я задрожал, как мокрый пес. Но что умножило мой страх, так это распятие, примерно в шесть футов длины, которое прижимал он ко груди, и так как в уме своем не имел я о нем никакого понятия, то не мог иного возомнить, кроме того, что седой этот старик, нет сомнения, волк, о ком мне незадолго перед тем сказывал батька. В таком страхе выскокнул я из дупла с моей волынкой, кою, единственное мое любезное и многоценное сокровище, я спас от всадников; я задудел, подал голос и дал о себе знать весьма зычно, дабы ужасного сего волка прогнать; столь внезапной и необычной музыкой в таком диком месте пустынник поначалу немало был изумлен, нет сомнения, полагая, что явилось ему бесовское наваждение тревожить его и смущать в благочестивых помыслах, как то случалось с Антонием Великим. Но едва пришел он в себя, тотчас же стал глумиться надо мной, как над своим искусителем, скрывшимся в дупле, куда я снова забрался; да и столь ободрился, что наступал на меня, насмехаясь над врагом рода человеческого. «Эй, эй, – говорил он, – да ты, добрый товарищ, под стать святым без божьего произволения», и много иного, чего я не мог уразуметь, ибо приближение его произвело во мне такой испуг и ужас, что я лишился всех чувств и поник без памяти.
Седьмая глава
Симплиций находит себе кров и пищу,
С отшельником вместе живет, словно нищий.
Чьей помощью пришел я в себя, не знаю, но то верно, что, очнувшись, находился я уже не в дупле и голова моя лежала у старика на коленях, а ворот куртки был отстегнут. Когда я отудобел, то, видя пустынника в такой к себе близости, поднял немилосердный вопль, словно он в ту самую минуту собирался вырвать у меня из груди сердце. Он же, напротив, говорил: «Сын мой, молчи, я не причиню тебе зла, успокойся», – и многое другое. Но чем более утешал он меня и ласкал, тем отчаяннее я вопил: «О, ты сожрешь меня! Ты сожрешь меня! Ты волк и хочешь меня сожрать!» – «Вестимо же нет, – сказал он, – успокойся, я не съем тебя». Подобное барахтанье и ужасающий вой продолжались еще долго, покуда я не дозволил отвести себя в хижину, где сама бедность была гофмейстером, голод поваром, а недостаток во всем кухмистером. Там желудок мой усладился овощами и глотком воды, а помрачненный дух мой под утешительной лаской старца прояснился и воспрянул, того ради уступил я сладкому побуждению ко сну, отдавая долг натуре. Отшельник, приметя мою нужду, уступил мне свое место в хижине, ибо улечься там мог всего один человек. Около полуночи пробудился я и услышал следующую песнь, какой несколько времени спустя и сам научился:
Приди, друг ночи, соловей,
Утешь нас песнею своей!
Пой, милый, веселее!
Воспой творца на небесах,
Уснули птицы на древах,
Один ты всех бодрее!
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних богу!
Хоть солнца луч; погас давно,
Но нам и ночью петь вольно,
И тьма нам не помеха!
Восславить бога средь щедрот
И им ниспосланных доброт –
Отрада и утеха.
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних богу!
Пой нежно, как поют в раю,
Подхватит эхо песнь твою –
В ней неземная сладость.
Кто бренной жизнью утомлен,
Воспрянет, песнею взбодрен,
И внидет в сердце радость!
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних богу!
Безмолвны звезды в небесах,
Но ведом звездам божий страх –
Во славу бога светят!
В лесу сова в полночный час,
Хвалы заслышав сладкий глас,
Хоть воем, да ответит.
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних богу!
Так пой, любезный соловей!
Баюкай песнею своей!
Заснем мы сном блаженным!
А поутру зари восход
Отраду сердцу принесет
В лесу преображенном!
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних богу!
Среди такого продолжающегося пения поистине мнилось мне, как если бы соловей, также сова и далекое эхо соединились с ним в лад, и, когда бы мне довелось услышать утреннюю звезду или умел бы я передать ту мелодию на моей волынке, я ускользнул бы из хижины, дабы подкинуть и свою карту в игру, ибо гармония та казалась мне столь сладостной, но я заснул и пробудился не ранее того, как настал полный день и отшельник, стоя возле меня, говорил: «Вставай, малец, я дам тебе поесть и укажу путь из лесу, чтобы ты вышел к людям и до ночи пришел в ближнюю деревню». – «А что за штука такая люди и деревня?» Он сказал: «Неужто ты никогда не бывал в деревне и даже не ведаешь о том, что такое люди или, иным словом, человеки?» – «Нет, – сказал я, – нигде, как здесь, не был я, но ответь мне, однако, что такое люди, человеки и деревня?» – «Боже милостивый! – вскричал отшельник, – ты в уме или вздурился?» – «Нет, – сказал я, – моей матки и моего батьки мальчонка, вот кто я, и никакой я не Вуме, и никакой я не Вздурился». Отшельник изумился тому, со вздохом осенил себя крестным знамением и сказал: «Добро! Любезное дитя, по воле божьей решил я наставить тебя лучшему разумению». Засим начались вопросы и ответы, как то откроется в следующей главе.
Произведения
Критика