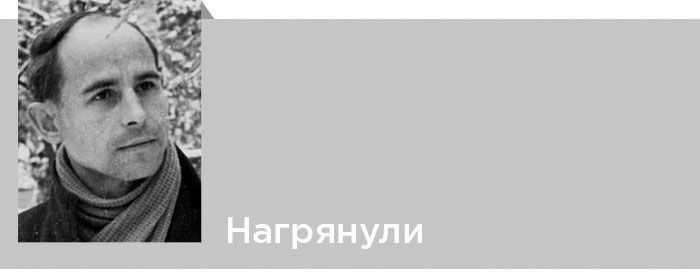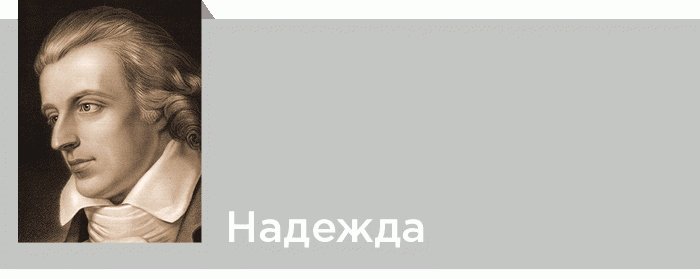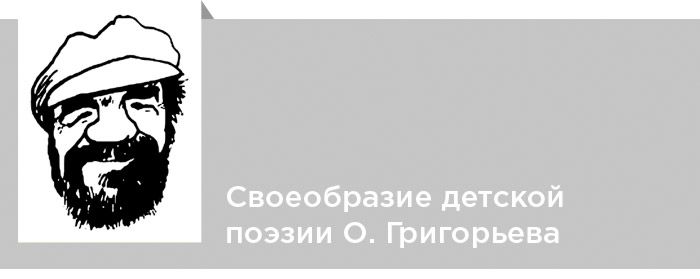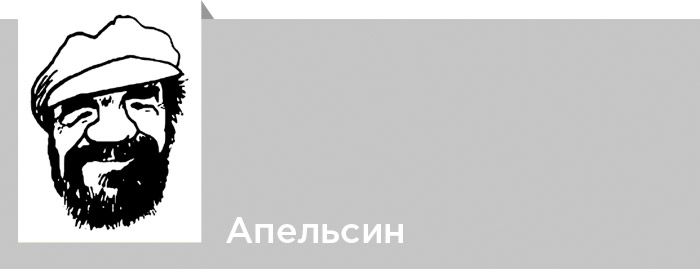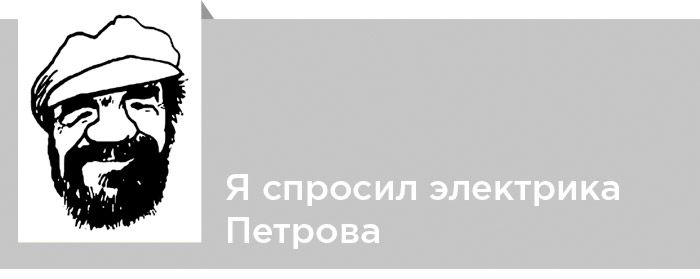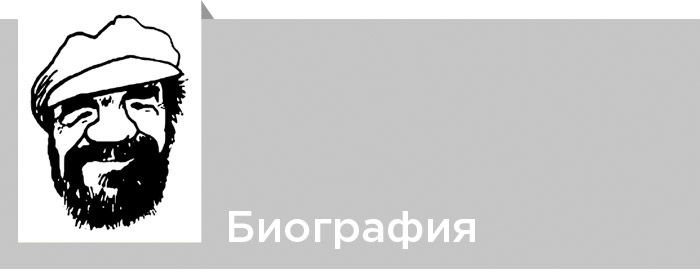Истоки и традиции творчества О. Григорьева
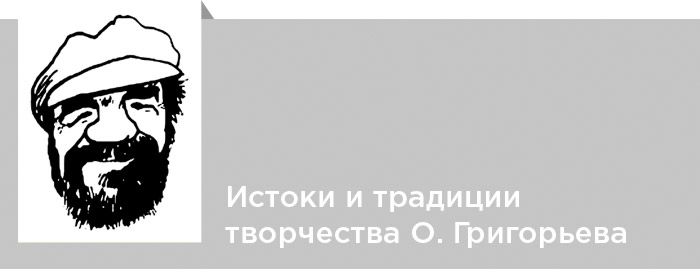
Трошина Александра Павловна,
Екатеринбург 2016
Выпускная квалификационная работа. Своеобразие поэзии Олега Григорьева для детей во внеклассной работе учителя
Глава 1.
1.1. Творчество О. Григорьева в контексте поэзии 1960-70-х гг
Творчество Олега Григорьева мало изучено. Чаще всего встречаются очерки о творчестве поэта, критические эссе, воспоминания друзей и т.д. В разное время о Григорьеве высказывались следующие критики и литературоведы: И. Арзамасцева, В. Бондаренко, Н.Гарбер, К. Паромонов, М. Трофименков и др. В последнее время появляются диссертационные исследования творчества О.Григорьева. –Леухина А.В «Литературный примитивизм: эстетика и поэтика». Толкования и оценки творчества поэта чаще всего противоречивы. Мнения учёных и современников во многом расходятся, и чаще всего это связано с определением истоков его поэзии: одни говорят об Олеге Григорьеве как поэте, вышедшем из «шестидесятников». Другие – о том, что творчество Григорьева вобрало в себя эстетические принципы обэриу. Третьи говорят о таком феномене творчества Григорьева, как фольклорность. Некоторые из критиков относят Олега Григорьева к шестидесятникам, - например, М. Трофименков. [электронный ресурс, Олег Григорьев]. Кто такие шестидесятники? Определяющими событиями в творчестве и жизни шестидесятников становится Великая Отечественная Война, смерть Сталина и эпоха «оттепели». Это поэты и писатели, «формировавшиеся под влиянием соцреалистической эстетики», для них это были «годы мучительного пересмотра своих убеждений и творческого обновления». Но «начало оттепели» позволило им примириться с настоящим, найти себя», - пишут Лейдерман и Липовецкий в книге «Русская литература ХХ века»: «Исторический перелом после 1953 года, после двадцатого съезда партии утвердил новое поэтическое поколение … в силу возраста не запятнанное трагическими ошибками прошлого, но принявшее на свои юношеские плечи ответственность не только за наши незабываемые победы в защите общей многонациональной родины, но и за эти трагедии – поколение, которое смолоду поставило вопрос о необходимости моральной перестройки общества». [Лейдерман, Липовецкий, 2008, с. 115]. Шестидесятники, как «мастера слова», художники, деятели кинематографа считали, что на их плечах, в их силах изменить атмосферу в обществе, чтобы граждане почувствовали свободу, забыли о прошлом режиме. В их силах помочь переосмыслить новую действительность.
Лейдерман Н.Л. и Липовецкий М.Н. говорят о специфике отношения шестидесятников к прежним идеалам – идеалам революции: «<…> они говорили на языке понятий и ценностей, которые не расходились с идеалами социализма (пусть утопическими, книжными), но согласовывались с менталитетом современников». [Лейдерман, Липовецкий, 2008, с. 116] Для них были ценны идеи братства, толерантности, равенства.
«Шестидесятники» непосредственно связаны со своими ближайшими предшественниками – поэтами фронтового поколения, высоко ценят в них бесстрашие видения, суровую правдивость, оголённость чувств» [Лейдерман, Липовецкий, 2008, с. 116]. Это те люди творчества, которые видели самый настоящий, раскрепощённый, сплоченный народ. Им раскрыла глаза война, сделала настоящими. Это те, кто столкнулись, что ни на есть с самой настоящей, с самой реальной жизнью. Те духовные переживания, столкновения с реальностью заставляли формировать своё личное мнение к происходящему. И задумываться о том, что будет дальше, с духовной жизнью каждого, кого затронула беда. [Лейдерман, Липовецкий, 2008, с.111]
Исследователи указывают на тесную связь творчества шестидесятников с поэзией Маяковского: «они извлекли из наследия этого официального мумифицированного и разобранного на лозунги «государственного поэта» то, что оказалось в высшей степени созвучно их собственному мировосприятию – его гражданственность, ту гражданственность, которая личному придает значение общего, а общее переживает как личное… Наученные видеть в поэзии прежде всего акт гражданского поведения, они мучительно переживали открывшуюся правду о том, что получило обтекаемое название «преступления культа личности», и бескомпромиссно отвергли притязания сил вчерашнего дня на сохранение своей власти» [ Лейдерман, Липовецкий, 2008, с. 117]. «Шестидесятники», в сущности, восстанавливали первоначальный, идеальный смысл отношений между личностью и социумом, индивидуальной судьбой и историей, который предполагался социалистической мечтой». М. Трофименков отмечает, что «Олегу Григорьеву было 48 лет, и по возрасту, он вроде бы успевал в «шестидесятники», но на самом деле существовал, как существует Алексей Хвостенко, вне любого поколения. И любили его все, независимо от возраста. Любили другие «шестидесятники» за то, чего не хватало им самим: легкости, беззаботности, детскости, отрешенности от поколенческих разборок». М. Трофименков подчеркивает, что Григорьев лишь формально подходил под определение «шестидесятник», его поэзия была разнообразнее и необычнее, чем у шестидесятников [электронный ресурс, Олег Григорьев].
Как отмечает И. Н. Арзамасцева, «Стихотворения Г., появившиеся в самом начале 60-х годов, сразу поставили поэта в оппозицию к официальному искусству, и вместе с тем обнаружили внутреннее единство с городской субкультурой, с поэтикой забытых, казалось бы, обэриутов». [Арзамасцева, 2008, с.84].
В 1960-е годы в СССР возникает искусство андеграунда, противопоставившее себя официальному, «разрешенному» искусству. Одним из направлений советского андеграунда стали поэты-лианозовцы.
Следует лучше разобраться в различиях поэта от лианозовского объединения. Как говорится в учебном пособие Липовецкого и Лейдермана, «Лианозово – этот небольшой подмосковный посёлок, где жил Оскар Рабин и неподалеку на станции Долгопрудная жил его тесть, поэт и художник Евгений Кропивницкий, стал в 50-60-е годы своеобразным неофициальным центром художественного и поэтического авангарда и андеграунда». [Лейдерман, Липовецкий, 2008, с. 396] . Центром этой группы был Евгений Кропивницкий, его сын Лев Кропивницкий, Генрих Сапгир, Всеволод Некрасов, Игорь Холин, Ян Сатуновский.
Личность у лианозовцев становится свободной от норм литературного языка. Она говорит «на преступном языке социума» [Лейдерман, Липовецкий, 2008, с. 397]. Лианозовцы специально стремились уйти от литературного языка. «Барачный маленький человек» - герой лирики лианозовцев. [Лейдерман, Липовецкий, 2008, с. 397] Постепенно в творчестве этих авторов создается и образ поэта, который лишён индивидуального сознания. С одной стороны, это говорит о внутренней пропасти «барачного человека», - «сочетание безлично-масочногоавторского сознания с «фирменными» приемами поэтического авангарда, с одной стороны, создает экзистенциальный, максимально очищенный от социальных обертонов, портрет внутреннего мира<..>» [Лейдерман, Липовецкий, 2008, с. 400] такого героя, « <…> а с другой стороны, эта поэтика обнаженно деконструирует авангардную эстетику новизны, сводя ее к тавтологиям и отражениям «казенного сознания». [Лейдерман, Липовецкий, 2008, с. 400]. Пропасть – в сути природы поэтического авангарда. С одной стороны, такая поэтика становится новой в мире соцлитературы, а с другой стороны она противоречит сама себе и постепенно перестает быть тем, кем себя изначально завила.Получатся, что по «барачному человеку» мы судим и о поэте, который лишён личного сознания.
Это и сближает Григорьева с лианозовцами: «бегство от языка в речь понимается как форма философский свободы». Его герои говорят на языке, который не поддается никаким нормам: социальным, психологическим, историческим, культурным. Но если у лианазовцев это было «подчёркнуто», то у Григорьева это получалось само по себе. У него как будто взрослый в облике ребёнка говорил о происходившем вокруг – во дворе, в магазине, на улице и т.д.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что Олег Григорьев - это поэт, который был близок во многом и шестидесятникам, и неофициальной поэзии, но он не укладывается в «рамки» каждого из этих явлений, выходит за их пределы. Его можно соотнести со многими, но его голос отчётливо выделяется.
1.2. «Откуда поэт пришел»: источники поэзии О. Григорьева
1.2.1. Фольклорные традиции в творчестве Гиигорьева
Среди основных источников поэтического дара О. Григорьева называют фольклор; прежде всего творчество поэта связывают с частушкой, анекдотом и «садистским стишком».
В статье Н.В. Дранниковой «Севернорусская частушка и её генетические истоки» дается такая характеристика жара: «Частушка представляет собою типичную нескладуху. Налицо смещение понятий. Комизм достигается за счет переадресовки глаголов. Ключевым художественным образом в частушкахнебылицах является абсурд <…> Скоморошьи зачины и словеснокомбинаторные частушки. Те и другие представляют собой бессмысленный набор слов и способны переходить из песни в песню и из частушки в частушку». [Дранникова, 199, с. 19]. В эти небольшие, может быть, четыре строчки умещаются события, казалось бы, между собой никак не связанные, доведены до абсурда, доведены до нелепицы, небылицы. Абсурд достигается тем, что мы видим полное перевёртывание обыкновенной ситуации. Очень часто так происходит в стихотворениях О. Григорьева.
Также стоит упомянуть о таком фольклорном жанре, как «садисткие стишки». «По наблюдению А.Ф. Белоусова, садистские стишки «спустились в детскую среду уже к 1980-м г. Некоторые собиратели ещё в начале 1990-х гг. фиксировали бытование стишков в молодёжной, по преимуществу студенческой среде, соотнеся этот факт с угасанием популярности жанра в среде подростковой». «<…> исследователи в основном сходятся на одной позиции: садистский стишок единодушно интерпретируется как жанр «альтернативного фольклора» позднесоветской эпохи». [ Лурье, 2007, с. 187]. Также встречаются и другие точки зрения, так, к примеру, А.Ф. Белоусов в статье «Не долго мучилась старушка…» говорит о том, что «садисткие стишки» были, по преимуществу, детским фольклором. И, по словам современников Олега Григорьева, нельзя было услышать из уст взрослого человека такие слова, они не читались и были им не интересны. Как утверждает Ю.В. Чернявская, детские «"Страшилки" и садистские стишки, популярные среди детей в конце 60-х – начале 80-х годов 20 века, рассматриваются как специфическая для советского ребенка форма и способ освоения идей о смерти, Зле как метафизическом начале, Запредельном, – а также как феномен, сопровождающий социализацию советского ребенка того времени». [Чернявская, 2011, с. 144]. «Cадистский стишок» обращен к реальной жизни и является своего рода психотерапевтическим средством преодоления страха перед смертью <…> Эти «стишки» соотносятся не столько с «ужасной» действительностью, сколько с текстами, муссирующими «страхи и ужасы» человеческого существования. Исключительный успех, который выпал на долю «садистских стишков» в детской среде, тем и объясняется, что они самым непосредственным образом связываются с обрушивающимся на детей потоком поучений и предостережений». Предостережений детям к этому «взрослому» миру, который бывает с ними не справедлив и не ласков», - пишет А. Ф. Белоусов. [Белоусов, 1995, с. 682].
По словам М. Яснова, «Культура улиц и кухонь, культура тайного протеста, ерничанья, насмешки, анекдота стала фактически частью культуры народа, его живым фольклором». [Яснов, 2002, №23]. Традиции анекдота также встречаются в творчестве О. Григорьева.. М. Яснов полагает, что в связи с Григорьевым «речь идет о более глубокой традиции, которая уходит в фольклор, в лубок, в раешник народного театра». С такой небольшой картинкой в ящике можно сравнить и маленькие сочинения Григорьева, которые моментально расходились «в народ» и были постоянно на устах из-за своей злободневности [Яснов, 2002, №23].
Многие стихотворения Григорьева сегодня воспринимаются как «тексты без автора», фольклорные произведения. «Фольклорность стихов Григорьева способствовала тому, что их тотчас взяли на вооружение подростки: его стихи оказались, по выражению фольклориста Марины Новицкой, в центре «юношеского фольклорного сознания семидесятых годов». Поэт интуитивно уловил и сформулировал накопившийся в обществе идиотизм («игрой в идиотизм» назвала известный филолог Л.Я. Гинзбург художественные поиски «митьков», которым по духу, а во многом и по судьбе близки и искания Григорьева) — тот идиотизм, что на разных уровнях стал результатом и выражением вызова тоталитарной государственной системы». [Яснов, 2002, №23]. Всё это говорит о том, что фольклорность текстов поэтов отражала народный взгляд на вещи в определенный исторический период, - когда представление о великой державе, строящей коммунизм, было дискредитировано.
1.2.2. Традиции поэзии ОБЭРИУ в творчестве О. Григорьева
Говоря об истоках поэзии О.Григорьева, ученые указывают на поэзию ОБЭРИУтов, прежде всего творчество Д. Хармса.
В одной из статей мы встречаем: «Истоки григорьевской поэзии <…> видятся нам в текстах участников обэриу и близких к обэриу авторов. Обилие отчётливых реминисценций из Даниила Хармса и Николая Олейникова в стихах Григорьева бросается в глаза». [Никитина, Скулачев, 2010, с. 63]. Ядро объединения ОБЭРИУ составляли Д. Хармс, В.Введенский, Н. Олейников, И. Бахтерёв, Н.Заболоцкий, К. Вагинов, Д. Левин, Л. Липавский. В 1931 году были арестованы по политическому делу и сосланы Хармс, Введенский и Бахтерёв – это был и последний год существования ОБЭРИУ. С началом Великой Отечественной Войны члены группы принимали участие в военных действиях Д. Левин и Л. Липавский погибли. Никто из группировки не остался в живых. Все были истреблены. Во время блокады многое из наследия писателей было утеряно и многое не сохранилось. Ещё долгое время творчество группировки находилось под запретом. И только с конца 60-х годов их творчество стало известно - их стали печатать.
«По форме стихи Григорьева напоминают поэзию обэриутов, а ещё более – частушки, всякого рода скоморошины, порой весьма рискованного смысла. Содержание определяется зыбкими перепадами между комическим и трагическим восприятием действительности <…>», - отмечает Арзамасцева И. Н. [Арзамасцева, 2008, с. 83]. В учебном пособии «Русская литература XX века» М.Н. Липовецкого и Н.Л Лейдермана говорится: «Традиция, заложенная в конце 1920-х – начале 1930 годов участниками Объединения реального искусства оказала чрезвычайно сильное воздействие на литературу 6080-х годов.<…>» » [Лейдерман, Липовецкий, 2008, с. 391]. Далее приводится ряд причин, по которым так произошло. Одна из главных причин в том, что «ОБЭРИУ было авангардом, не только догадывавшимся о наступлении тоталитарной культуры, но вынужденным себя с ней так или иначе (негативно, полемически, иронически) соотносить» [Лейдерман, Липовецкий, 2008, с. 392]. Также Лейдерман и Липовецкий отмечают, что «обэриуты одновременно с Кафкой пришли к эстетике абсурда…». По мысли исследователей, обращение к авангарду помогло литературе 1960-1980-х гг. «<…> возродить традицию русского авангарда и вступить в современный контекст европейского и мирового «абсурдизма» [Лейдерман, Липовецкий, 2008, с. 392]. Популярность и значимость течения ОБЭРИУТов в этот период постарались объяснить в своей статье «Феномен абсурда в литературном сознании России рубежа XX- XXI вв». Осьмухина и Махрова «<…> осознание того, что наш статичный язык и обусловленное им мышление не отражают истинную, постоянно меняющуюся, «текучую» реальность, а наоборот, отделяют нас от нее, дает толчок многочисленным попыткам авангардистов создать новый поэтический язык, действующий, так сказать, в обход механизмов обыденного мышления, и, соответственно, и самим выйти на какие-то новые уровни сознания <…> ». <…> Эти попытки терпят крах<…>», но ОБЭРИУТы нашли выход из ситуации. «<…>в творчестве ОБЭРИУтов, «поэтика текучести» сменяется «поэтикой разрыва», главным принципом которой становится абсурд – абсурд сознания нереальности, неистинности создаваемого нашим мышлением мира и в то же время невозможности помыслить его каким-то другим способом». [Осьмухина, Махрова, 2012, №3].
Исследователи говорят, что «уход Хармса и Григорьева в детскую литературу был органичен – именно детское сознание служит у Григорьева постоянной психологической мотивировкой абсурда, не только в детских его стихах, но и во взрослых». А именно «детское восприятие «отрезает» явление от какого бы то ни было общегуманитарного опыта (моральной нормы, культурной традиции и т.п.) и рассматривает его в сугубо локальном контексте» [Лейдерман, Липовецкий, 2008, с. 393].
Итак, в поэзии О. Григорьева моделируется детское сознание, и именно сквозь его призму увидены мир и человек.Поэтика примитивизма и абсурда помогает поэту нарисовать окружающую «невыносимую» реальность. Искусство становится другим миром, который живёт, функционирует по своим законам. «Детский взгляд» на мир позволяет продемонстрировать хаотичность бытия. Именно детское восприятие помогает Григорьеву в выражении абсурда [Осьмухина, Махрова, № 3].
Авторы размышляют о языке обэриутов и Григорьева в связи с проблемой насилия, которое испытывали поэты на себе – каждый в свое время: обэриуты – в 1930-е годы, Григорьев – в 1970-е. Учёные говорят о том, что обэриуты первые представили язык как форму насилия, а Григорьев «осознал насилие как единственный универсальный и общепринятый (даже для детей!) язык» [электронный ресурс, Насилие как я зык]. По мнению исследователей, это существенное отличие творчества Григорьева от творчества обэриутов.
Подобная специфика поэзии Григорьева приводит к активному обсуждению того, можно ли делить его стихи на стихи для детей и стихи для взрослых. Наталья Гарбер: «Григорьев видел взрослых глазами детей, и детей глазами взрослых, что обеспечивало ему популярность у обеих сторон.
Миниатюрный формат стихов легко запоминался, частушечная парадоксальность цепляла, а правдивость описания накопившегося в обществе идиотизма – подкупала». [Гербер, 2013, с. 362] «А вообще Григорьев - поэт детский, хотя в его стихах очень трудно бывает провести границу между "детским" и "взрослым"», - утверждает Константин Парамонов. [Парамонов, 1997, №17]. Олег Юрьев пишет: «Стихи для детей, стихи для взрослых Олегу Григорьеву приходилось разделять («детские» могли быть напечатаны, «взрослые» — ни при каких обстоятельствах), но сегодня, спустя больше, чем двадцать лет после его смерти, только очень простодушные люди могут отделять одно от другого. Поэзия Григорьева — единое целое, и всем уже (должно быть) очевидно, что напечатанный впервые в ленинградской пионерской газете «Ленинские искры» (помню себя раскрывающим газетку и ахающим) стишок: «Бутылку чернил / Я в Неву уронил. / Как чернослив, / Стал Финский залив!» ничуть не более «детский» или «взрослый», чем написанная в Крестах великая «Рождественская песенка». [Юрьев, 2013, №126]. «<…>И, как нередко бывает с теми, кто пишет и для детей, и для взрослых читателей, у Григорьева немало стихов «промежуточных» — это дети, увиденные глазами взрослых, или взрослые, увиденные глазами детей», - пишет М. Яснов. [Яснов, 200, №23].
Итак, с поэзией обэриутов Григорьева роднит интерес к ситуации несвободы человека, насилия над человеческой личностью, что связано с близостью эпох. Но если у обэриу язык понимался как «форма насилия», то Григорьев в своей поэзии сделал насилие «универсальным языком» [ Лейдерман, Липовецкий ,2008, с. 397]. Так же следует сказать и о тяге к созданию образа фрагмента действительности - этот феномен связан с ощущением распада разного рода связей. К таким же особенностям можно отнести и разлитературивание, то есть игра с привычными литературными формами: для поэзии характерны пространственные и временные сдвиги, сюжетные несообразности, неожиданное развитие событий, языковые сдвиги (например, языковая игра).
М. Черняк в статье «Петербургский акцент в литературе абсурда ХХ века» писала: «По существу, григорьевская «игра в идиотизм» (Л.Я. Гинзбург) продолжала элитарную литературную традицию обэриутов и традицию народной смеховой культуры, став основой формирования литературного «антиповедения», «эстетики антиэстетического», имеющей откровенно полемическую направленность по отношению к литературному официозу… Поэзия для детей стала своеобразным «эзоповым языком» [Черняк, 2014, с. 6]. Таким путем и пришел Григорьев к своему «родному» читателю.
1.3. Герой поэзии О. Григорьева в критике и литературоведении
Первые сборники стихотворений О.Григорьева «Чудаки» (1971), «Витамин роста» (1980) - были опубликованы как стихи для детей. Все исследователи сходятся во мнении, что нет в поэзии Григорьева разграничения
«взрослый» и «ребёнок». Для читателя это поэт в облике «ребенка и чудака». Чудак наделён душевным опытом Олега Григорьева – он лично связан с поэтом.
И.Н. Арзамасцева говорит, что «герой «взрослой» поэзии Г. – горожанин – маргинал, человек вне общества, идущий не по дороге, со всеми, а по бездорожью. Но взгляд с обочины жестко прям и по-детски непосредственен, поэтому так поразительно больна откровенность бесчисленных городских эскизов. Во взрослом герое – неудачнике проглядывает ребёнок – двоечник, недотёпа. Существование париев среди детей и взрослых определяется экзистенциональными противоречиями мирового порядка. Однако взрослый и ребёнок одинаково «требуют ласки», решительно заявляя о равенстве прав на уважение. Страдания для героев Г., есть единственный способ познания бытия через повседневный быт и вместе с тем это способ самоконстатации в мире <…> Далеко не все стихотворения Г. можно предложить детям, но они несут в себе детское начало. Поэт поставил знак равенства между миром странных взрослых и миром обыкновенных детей <…>». [Арзамасцева, 2008, с. 283]. То есть герои-парии для Григорьева – это способ представить иной, непринятый, отрицаемый взгляд на мир, принятый в том социуме, в котором ему пришлось жить. Герои подобного рода – это своего рода вызов прежней литературе и советской системе воспитания. «Это достаточно «неудобная» поэзия, ибо в обоих случаях герои оказываются носителями сомнительных нравственных ценностей, и автор не стыдится и не страшится это показать». [Яснов, 2002, №23].
В статье М. Яснова «Маленькие Трагедии» Олега Григорьева» мы можем встретить такое высказывание: «Талант Григорьева был в чём-то сродни таланту замечательного актёра Аркадия Райкина: поэт немедленно вживался в ту маску, которую надевал, и становился одним из знакомых нам персонажей – маленьких и взрослых трусов, жадин, хулиганов и просто равнодушных». [Яснов, 2002, №23]. Критик отмечает присутствие в лирике Григорьева довольно неприятных героев.
На эту статью нашёлся ответ Владимира Бондаренко: «Скажу сразу, я не принимаю принятую иными его почитателями теорию неких театральных масок, которые якобы Олег Григорьев примерял на себя, творя как бы понарошку свои «садистские стихи» и детские страшилки. Когда Михаил Яснов сравнивает дар Олега Григорьева с даром Аркадия Райкина, мгновенно вживающегося в примеряемую маску подлеца, хапуги, склочника, жадину, хулигана, он забывает о принципиальной разнице между миссией актёра и миссией поэта. Талантливый актёр принципиально должен быть пуст, сегодня играть Отелло, завтра Яго, а послезавтра, может быть, и Дездемону, и каждый раз предельно искренне. Поэт, легко меняющий маски, — это не поэт, а дешёвый ремесленник, литературный халтурщик, исполняющий чьи-то заказы» [Бондаренко, 2008, с. 17]. А можно ли назвать Г., халтурщиком, легко меняющим маски? Разве может поэт менять маски бессмысленно? Поэт, пишущий о конкретном герое, не просто так им заинтересовался. Почему-то он стал ему близок. А может быть, он выбрал эти образы, так как они были частью его натуры, характера, поведения, отношения к общественным устоям. Это могла быть «внутренняя эмиграция». Выбор таких героев - это выражение своего недовольства миром, который несправедлив.
И.Н. Арзамасцева отмечает в связи с образом учителя и ученика у Григорьева: «Учитель являет собой крайнее воплощение взрослого, глухого к объяснениям и обидам ученика, а двоечник – это есть и настоящий ребёнок со всеми его маленькими трагедиями и комедиями» [Арзамасцева, 2008, с. 283].
«Мотив взаимного непонимания между детьми и взрослыми обыгрывается Г. и в комической, и в трагической тональности. Детские обиды смягчаются взрослой иронией, и несмотря на бесконечную печаль повседневности, поэт видит торжество детского начала в мире». [Арзамасцева, 2008, с. 283]. «Назидательность детской поэзии Григорьева «вполне в пределах официальной традиции, хотя выглядит привлекательней воспитательных сатир Барто, быть может, потому, что лишена ненависти к наивному нарушителю нормы». Григорьев-воспитатель, по мнению Литягина, «не уходит от «обрыдлой действительности» [Габайдуллина, 2006, с. 54], а напротив, «оказывается ее апологетом» [Габайдуллина, 2006, с. 54] – Григорьев не вписывается в литературу того времени. Идеальным героям – пионерам Барто – противостоят Григорьевские недотепы и «чудаки». Воспитатель у Григорьева дискредитируется, «низводится с пьедестала безличного оракула безусловной нормы» [Габайдулина, 2005, с. 81], пишет в своей статье Габайдуллина. Воспитатель, учитель в поэзии Григорьева – часто не соответствует «формату» советского учителя. В данном случае они способны совершать ошибки и не быть примером.
«В лирике Григорьева есть два типа детей: дети, которые еще не воспитаны взрослыми, и дети, которые становятся двойниками взрослых, их «изнанкой» <…> Последние копируют поведение воспитателей, воруют, пьют, врут. В стихах появляются «пятилетние хулиганы», дети в «полной несознанке». [Габайдуллина, 2005, с. 94]. У Марии Черняк, которая солидарна с Михаилом Ясновым, мы можем встретить похожее: «Герои Григорьева — это дети, пусть даже выросшие, у которых не сложилась жизнь, смешные, нелепые, наверное, такие же, как и он сам. По этому поводу М. Яснов справедливо заметил: «Дети в стихах Григорьева — это окарикатуренные взрослые, с замашками записного советского обывателя. Взрослые же — этакие остановившиеся в своём развитии, невежественные, а то и спившиеся дети. Детоненавистник, алкаш, коммунальный скандалист, хулиган — легко узнаваемые социальные типы носят рядовые фамилии Петров, Сизов, Смирнов, Клоков. Они населяют коммунальные квартиры, а переселяясь в отдельные, переносят в них тот же сложившийся тип отношений коммунальной кухни; они работают, едят и пьют горькую. В детских стихах эти персонажи олицетворяют нелепый идиотизм школьной жизни. <…>». [Яснов, 2002, №23].
В исследованиях ставится очень сложный вопрос о соотношении автора и героев поэзии О.Григорьева. Исследователь Илья Дацкевич полагает, что в поэзии Григорьева представлен не лирический герой, а персонаж, обосновывая это так: «Говоря о поэзии Григорьева, трудно употреблять слово «герой». Скорее, подходит понятие «персонаж». Все действующие лица в поэзии Григорьева персонажи. Даже те, что ненадолго ставятся автором и отчасти выполняют его функцию. Такие персонажи всё равно остаются персонажами, не будучи способны отразить в себе ни личность автора, ни чьюлибо личность вообще» [Дацкевич, 2008, с. 3]. Возможно, автор статьи говорит так именно о герое взрослом, не отождествляя его с ребенком, его «изнанкой» [Габайдуллина, 2005, с. 45]. Продолжая, Дацкевич пишет: «Это чаще всего какие-то советские дурачки, люди полностью социально обезличенные и дезорганизованные. Они совершают странные и зачастую жестокие по отношению к себе или к другим поступки; они же спокойно подобные поступки воспринимают». [ Дацкевич, 2008, с. 3]. «Даже в тех случаях, где в стихотворениях Григорьева появляется «Я», оно не обозначает собой лирического субъекта. Вся функция этого «Я» сводится к возможности говорить и буквально пересказывать им увиденное <…> Лирические (назовём их так) персонажи Григорьева иногда соприкасается с его индивидуальной авторской мыслью и в каждом подобном случае каждый такой персонаж становится близок типу классического лирического героя. Однако, ни один из них нисколько не соприкасается с живым «Я» самого Григорьева». [Дацкевич, 2008, с. 7]. Вероятно, так оно и есть, когда речь идет о герое-взрослом, но образы детей-героев, с нашей точки зрения, близки к позиции автора.
С точки зрения М.Черняк, «Григорьев иногда обнажает своё авторское «Я», делясь с читателями своей трагедией, болью, бедой: (Я шёл и рассказывал всем прохожим,/ Как вчера низа что получил по роже, / Пока один из прохожих / Не треснул по роже тоже.). Иногда он примеряет маски школьника, рабочего, пьяницы, а иногда с грустной усмешкой смотрит на себя со стороны: «Григорьев Олег ел тыкву / И упал в неё с головой./ Толкнули ногой эту тыкву, / Покатили по мостовой...». [Черняк, 2005, с. 3]. Герои Григорьева – это не сам автор. Они малая его часть. Наделяя их частичкой души, отправляет в широкое плавание литературной повседневности. Как раз тот духовный опыт, которым наградил их Григорьев и помогает вынести все бури и штормы, в лице толпы, официоза, которым им приходится противостоять. Лидия Гинзбург отчетливо разграничивает личность автора и лирического героя, говоря об этом так: «Многообразные формы выражения в лирике личности поэта нередко подводятся у нас под унифицированную категорию лирического героя, тогда как лирический герой – только одна из возможностей, и она не должна заслонять все другие». [Гинзбург, 1964,с. 89]. Для Гинзбург специфика лирики заключается в том, что «<…> Лирика знает разные степени удаления от монологического типа, разные способы предметной и повествовательной зашифровки авторского сознания – от масок лирического героя до всевозможных «объективных» сюжетов, персонажей, вещей, зашифровывающих лирическую личность именно с тем, чтобы она сквозь них просвечивала». [Гинзбург, 1964, с. 254]. Лирическая поэзия – далеко не всегда прямой разговор поэта о себе и своих чувствах, но это раскрытая точка зрения, отношение лирического субъекта к вещам, оценка. Поэтическое слово непрерывно оценивает все, к чему прикасается, - это слово с проявленной ценностью». Только в сказанном выше, именно Лидия Гинзбург дает нам понять, что и Дацкевич и Черняк говорят об одном и том же, окунаясь в саму природу лирики.
Сложный, неодномерный взгляд на жизнь Григорьеву помогает выразить его поэтический язык. С точки зрения И.Н. Арзамасцевой, в поэтическом языке поэта главное - монологи и диалоги. «Диалог и монолог – две основные формы лирического выражения у поэта – позволяют раскрыть и обосновать сугубо индивидуальную, а значит, имеющую право быть позицию» [Арзамасцева, 2008, с. 283]. По мнению М. Яснова, «<…>стих Григорьева антимузыкален, нередко коряв, расхристан — и одновременно фантастически искусен. Это та степень ритмической свободы, которая может быть достигнута только при особом внутреннем чутье, интуиции и абсолютном слухе». [Яснов, 2002, №23]. С точки зрения Марии Черняк, «стихи Григорьева графичны, образны, лаконичны («Прохоров Сазон / Воробьёв кормил. / Бросил им батон – / Десять штук убил»), в них заключена особая, столь необходимая детям динамика, ритм, музыкальность; они не перегружены метафорами, словесными излишествами. В них (как этого и требовал Чуковский) — минимум прилагательных: «Вдоль реки бежал Аким, / Был Аким совсем сухим. / Побежал он поперёк — / Весь до ниточки промок». [Черняк, 2005, с. 8]. Дацкевич считает характерным для поэзии Григорьева «тавтологическую рифму» [Дацкевич, 2008, с. 8], которая создает бедности языка.
Умелая языковая игра – еще один характерный прием Григорьева: «Любимым приёмом поэтической игры становятся игры с омонимами. Ср.: ≪В реку рукой метал металл. / Нагой ногой пинал пенал≫<…> Освоение языковых норм почти всегда сопровождается у Григорьева игрой слов, которая обнаруживает несовпадение слова и реальности. Ср.: ≪Чернорабочий с лопатой / Закидывал в кузов мел. /Чернорабочий с лопатой / Был ослепительно бел»» [Черняк, 2005, с. 6].
Лаконичность, афористичность – также являются существенными чертами стиля О.Григорьева.
В герое заключается своеобразие эстетической позиции О. Григорьева. В литературе 1970-80-х гг. он занимал особое положение. И. Н. Арзамасцева отмечает, что «стихотворения Г., появившиеся в самом начале 60-х годов, сразу поставили поэта в оппозицию к официальному искусству, и вместе с тем обнаружили внутреннее единство с городской субкультурой, с поэтикой забытых, казалось бы, обэриутов». [Арзамасцева , 2008, с. 84]. Леухина А.В. говорит о Григорьеве как о поэте-примитивисте, объясняя таким образом специфику образа ребенка в его поэзии: «При жизни таких авторов, как О. Григорьев, И. Холин и др., их опубликованных произведений было ничтожно мало. По крайней мере, так называемых «взрослых» стихотворений. Для ряда писателей единственным способом легитимации примитивизма являлась детская литература, центральным образом которой становится ребенок (одна из разновидностей «чудаков», «дикарей»). Конструирование сознания ребенка - одна из ярких черт примитивистского творчества, будь то живопись или литература. Для детского сознания не существует нормативных культурных оценок, дидактики. Речь идет о детском взгляде, позиции «изнутри» детства. Эта апелляция к наивному взгляду - минималистская особенность примитивистского творчества, читатель встречается с минус-рефлексией: анализ здесь как бы отсутствует, действия совершаются необдуманно, без какихлибо оснований… Ребенок - это и символ дикарского сознания, которому многое открыто и доступно. Выбираемая примитивистами «личина» ребенка или безумца может объясняться тем, что голос ребенка, как и голос сумасшедшего в официальной культуре - это голос, не имеющий силы (М. Фуко). Здесь открываются два пути: либо к этому голосу не прислушиваются, либо он оказывается проводником высшей истины». [электронный ресурс]
Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать следующие выводы:
По мнению критиков, герой – это сам поэт в их облике « ребенка и чудака». Они несут жизненный опыт Григорьева. Герои – парии – средство воплощения отрицаемого взгляда на мир общества, в котором существует автор. Герои близки Григорьеву, так как они часть его натуры, характера, поведения. Они – выраженная «внутренняя эмиграция».
Григорьев с большим трудом вписывается в литературу своего времени. Выражается это в следующем: идеальным героям он противопоставляет своих «чудаков». Взрослые представленные в его детском творчестве – далеко не идеалы. Иногда это и взрослые «остановившиеся в своем развитии» [Яснов, 2002, №23].
Несмотря на разногласия исследователей , мы склонны думать, что перед нами лирический герой, который приближен к позиции автора. Так Григорьев дает понять своему верному читателю себя настоящего и свое настоящее отношение к происходящему. Но не стоит думать, что это всегда откровенный разговор о себе и своих чувствах – это его выраженная точка зрения.
Выражением такой точки зрения является его поэтический язык. Здесь, важно отметить формы языка: диалог и монолог. Важным и является суждение о том, что несмотря на антимузыкальность произведений – они искусны – таким способом, достигается свобода рифмы и слова. Также бросается в глаза образность и динамичность творений. Этого Григорьев достигает с помощью такого приема, как умелая языковая игра и лаконичность. Что также придает шарм его произведениям и делает их читаемыми до сих пор.
Список использованной литературы
1. Арзамасцева И.И. Русские детские писатели XX века: библиографический словарь. 2-е издание ., [Текст] / И. И. Арзамасцева.- М.: Флинта: Наука.-2008.
2. Белоусов А.Ф. Воспоминания Игоря Мальского Кривое зеркало действительности»: к вопросу о происхождении садистских стишков [Текст] / А.Ф. Белоусов// Лотмановский сборник. - М., 1995. - Т. 1. - С. 681-691.
3. БондаренкоВ. Время одиночек [Текст]/ В. Бондаренко.- М.: ИТРК, 2008. -146 с.
4. Григорьев О. Чудаки [Текст]/ О. Григорьев. - С-П.: ДЕТГИЗ.-2006.- 128 с.
5. Гербер Н. Как писать в XXI веке [Текст]/Н. Гербер.- М. : ФЕНИКС, 2013, - 444 с.
6. Габайдуллина А.Н. Деонтология детства в лирике О. Григорьева [Текст ]/ А.Н. Габайдуллина//Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог.- 2006.- №8. – С. 45-94.
7. Гинзбург Л. О лирике [Текст]/Л. Гинзбург.- М. : Изд-во Советский писатель, 1964, - 384 с.
8. Дранникова Н.В. Севернорусская частушка и ее генетические истоки [Текст] : учебно-метод. реком. / Н. В. Дранникова ; ПГУ. - Архангельск: ПГУ, 1997. - 26 с
9. Дацкевич И. Про стихи Олега Григорьева [Текст]/ И. Дацкевич // Журнал Новая реальность.-2012.-№34.-С. 1-4.
10. Заходер Б.В. Стихи и сказки [Текст]/ Б.В. Заходер.- М.: Росмэн.- 2016.- 144 с.
11. Золян С.Т. О соотношении языкового и поэтического смыслов [Текст]/С.Т. Золян .- Ереван.: Ереванский Гоос. Университет, 1985. 102 с.
12. Лурье М.Л. Садистский стишок в контексте городской фольклорной традиции: детское и взрослое, общее и специфическое [Текст] /М.Л. Лурье // Антропологический форум.- 2007.- №6.- С. 287-309.
13. Лейдерман Н. Л Современная русская литература 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990) [Текст] : пособие для студ. высш. учеб. Заведений/ Н.Л. Лейдерман М.Н.Липовецкий.- М. : Издательский центр «Академия», 2003. – С.391-404
14. Леухина А.В. «Литературный примитивизм: эстетика и поэтика»: диссертация кандидата филологических наук 10.01. 08 – Самара, 2010. 141с.
15. Мориц Ю.П. Большой секрет для маленькой компании [Текст]/ Ю.П. Мориц. - М.: Оникс, 2009. – 64 с.
16. Минаков С. Вечная юность Юнны /С. Минаков// Одна Родина, 2012
17. Никитина С. , Скулачев А. Комическое и трагическое в творчестве Олега Григорьева и Александра Введенского: опыт сопоставительного анализа [в соавт. со С. Никитиной] Человек смеющийся в литературном произведении и в современной культуре. Материалы Пятой гуманитарной конференции. Записки школы понимания. Вып. 5. / Сост. и ред. С. П. Лавлинский. – М.: [б. и.], 2010. – С. 60–65.
18. Осмухина О. Ю. Феномен абсурда в литературном сознании России рубежа XX-XXI вв. (на материале творчества Д.М. Липскерова) [Текст] / О. Ю. Осмухина, Г.А. Махрова// Журнал Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева.-2012.- №3 – С. 4-8.
19. Парамонов К. / К. Парамонов// Русский журнал.- 1997.-№17
20. Сапгир Г. В. Лесной разговор [электронный ресурс] // Стихи русских поэтов
21. Сапгир Г. Леса- чудеса [Текст]/ Г. Сапгир. –М. : Речь. -2015.- 32 с.
22. Токмакова И.В. Стихотворения [Текст]/ И.В. Токмакова. -М.: Дрофа. – 2005.-104 с.
23. Трофименков М. Олег Григорьев [электронный ресурс]
24. Чернявская Ю. В. Советский ребенок и мир ужасного: страшилки и садистские стишки [Текст] / Ю. В. Чернявская // Человек. – 2011. – № 3. – С. 141-154.
25. Черняк М. Петербургский акцент в литературе абсурда ХХ века ( об эффекте нарушения формальной логики) [Текст]/ М. Черняк// Журнал Библиотечное дело: абсурд в натуре и литературе. – 2014.-№24-С. 2-8.
26. Юрьев О. Отстояние. Летний день Олега Григорьева как инициальный текст неслучившейся литературы [Текст]/О. Юрьев// Журнал НЛО.- 2014.-№2.
27. Яснов М. Маленькие комедии Олега Григорьева/ М. Яснов// Журнал Дошкольное образование.-2002.-№23
28. Насилие как язык [ электронный ресурс] / М., 2001.