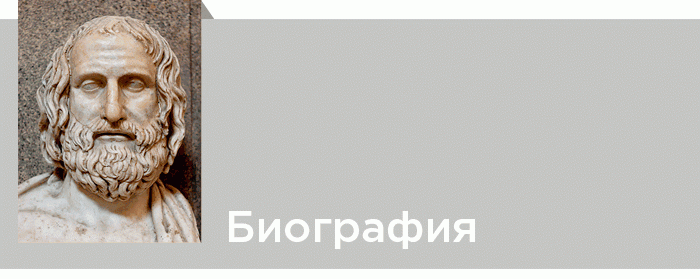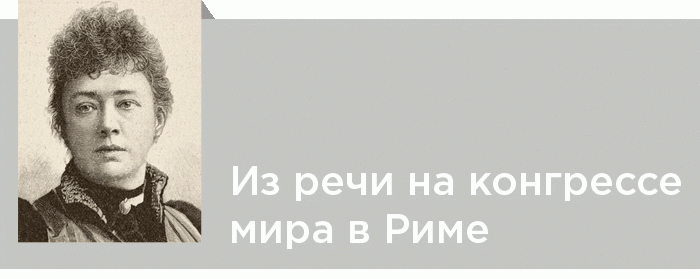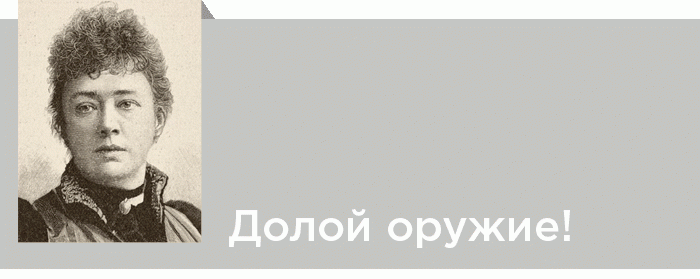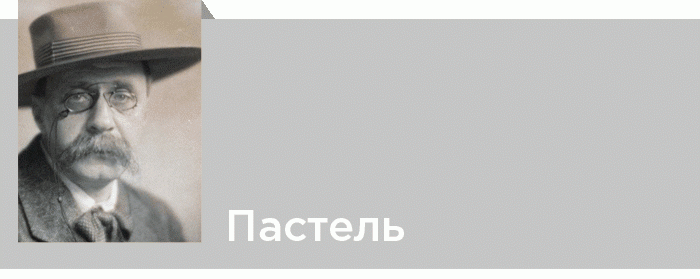«Эстетика – это диететика»: литературная провокация Петера Альтенберга

Б. Хвостов
В работе, посвященной прозе Василия Розанова, В. Шкловский формулирует свою знаменитую историко-литературную концепцию, согласно которой «наследование при смене литературных школ идет не от отца к сыну, а от дяди к племяннику». Трудно удержаться и не спроецировать эту идею на характеристику, данную в 1913 году издателем известнейшей антологии экспрессионистской поэзии «Сумерки человечества» Куртом Пинтусом австрийскому писателю Петеру Альтенбергу (псевдоним Рихарда Энглендера, 1859-1919): «...наш общий дядя, добрый реформатор Петер A.» («unser aller Onkel, der gute Lebens-Reform-Peter A.»). То, что Альтенберг назван «дядей», не следует расценивать как добродушно-ироничное снижение значимости его фигуры. Достаточно вспомнить о роли в экспрессионизме конфликта отцов и детей, чтобы понять неслучайность и почетность такой генеалогии. Тем самым Альтенберг словно бы выводится с магистральной линии развития литературы на ее боковую, «маргинальную» ветку, которая, если принять предложенную Шкловским схему, как раз и оказывается актуальной в процессе смены литературных направлений.
Естественно, возникает вопрос, за что мог быть удостоен столь лестной номинации автор, чье имя, как правило, не только не соотносится с экспрессионизмом и авангардом, но и вообще мало что говорит современному читателю. Хочется обратить внимание на то, что в России Альтенберг писатель скорее не неизвестный, а забытый. До революции читающая публика была хорошо знакома с этим ярким представителем венской литературной сцены. Его тексты публиковались в многочисленных периодических изданиях: «Огоньке», «Современном мире», «Весне», «Образовании», «Новом слове» и др., включались в антологии западной литературы. Переводить Альтенберга начали по меньшей мере с 1900 года (то есть спустя четыре года после публикации его первой книги «Как я это вижу», имевшей бурный читательский успех в Европе и выдержавшей до конца 20-х двадцать изданий). Ряд книг Альтенберга переводились на русский как целиком, так и фрагментами. На выход переводов откликались ведущие литературно-художественные, философские и общественно-политические журналы. Произведения писателя декламировались на сценах кабаре. Предельно лаконичная и нюансированная манера, в которой Альтенберг повествовал о самых обыденных вещах и заурядных событиях, казалась образцовым воплощением новейших литературных веяний Европы, прежде всего — импрессионизма. Представляя книгу «Сказки жизни», известный критик и литературовед А. Горнфельд уверял: «Кто хочет узнать “нормального” европейского интеллигента, должен прочитать Альтенберга»6.
Восприятие венского автора в России — тема, заслуживающая специального исследования. Очень интригующе звучат свидетельства о его невероятной популярности в начале XX века. Один из соотечественников писателя утверждал в 1923 году: «В России пятнадцать лет назад на Альтенберга молились. Вся молодежь писала по-альтенберговски. Ныне интеллектуальный блеск этого писателя (Dichter) там находят несколько мещански ограниченным (bürgerlich arm)». Указанная им дата действительно совпадает со временем публикации большинства русских переводов и книги Оскара Норвежского, в которую включены два этюда об Альтенберге. К сожалению, автор не разъясняет, кого он имел в виду под «молодежью». Возможно, это были не только второстепенные беллетристы, но и отдельные представители нарождающегося футуризма.
В подтверждение того, что творчество Альтенберга не просто нашло в России своих подражателей, а воспринималось как своего рода новая художественная парадигма, можно сослаться на статью К. Чуковского, в которой он рецензирует книгу «Солнцеворот» (1905) писателя Осипа Дымова. Очень положительно оценивая написанное Дымовым, отзываясь о книге как о «прекрасной», «воистину новой», критик в то же время парадоксальным образом заявляет, что это «подделка».
В ней ощущается столь большое влияние Альтенберга, что, характеризуя Дымова, автор рецензии фактически охарактеризовал австрийского писателя. Однако он считает это непринципиальным: важен не Дымов, а «дымовщина» (в позитивном смысле), «не как художественная сила, а как знамение времени, как показатель, как симптом». Дымов самобытен и нов, потому что «первый угадал будущие, неизбежные формы русского творчества». Тем самым, не умаляя русского автора, Чуковский косвенно воздал должное Альтенбергу как зачинателю новых литературных тенденций.
Перелом в отношении к венскому писателю обозначился, видимо, одновременно с революцией. С одной стороны, социально-политические потрясения этого исторического периода плохо согласовывались с реальностью альтенберговских текстов. Может быть, этим объясняется бунинское восклицание в «Окаянных днях»: «Как ненавистны Пшибышевский, Альтенберг!» С другой стороны, венский автор оказался идеологически неприемлем для строителей нового общества. Объявленная мещанству война не сулила благоприятного исхода для писателя, следовать которому М. Горький не советовал еще в 1910 году, видя в нем олицетворение мещанина, «площади», «улицы»12. Годом ранее Горький критично высказался об Альтенберге и во фрагменте своей знаменитой программной статьи «Разрушение личности» (1909), вошедшем в один из вариантов опубликованного текста без упоминания имени австрийского автора: «...Писатель — это уже не зеркало мира, а маленький осколок; социальная амальгама стерта с него, и, валяясь в уличной пыли городов, он не в силах отразить своими изломами великую жизнь мира и отражает обрывки уличной жизни, маленькие обломки разбитых душ...».
Плохую службу сослужило Альтенбергу и неправильно истолкованное название его, пожалуй, самой известной книги «Как я это вижу» (с ударением на слове «вижу», согласно требованию автора). Писатель Исай Рахтанов вспоминал, как О. Брик возмущался этим заглавием, полагая, что вместо «я» должно быть «мы», и называл Альтенберга «буржуазным индивидуалистом, венским жуиром». В «Литературной энциклопедии», выходившей с конца 20-х годов, австрийскому писателю хотя и посвящается довольно обширная статья (чего он уже не будет удостоен впоследствии), но в то же время констатируется социальная чуждость «упадочника» Альтенберга, чье творчество «сохраняет значение главным образом историко-литературное как типичное выявление импрессионистского стиля».
Отголоски былой известности Альтенберга еще довольно отчетливо слышны в 20-е годы. В 1926 году была переведена посмертно изданная книга «Сумерки жизни» («Mein Lebensabend», 1919). «Серапион» Николай Никитин включил в рассказ «Дэзи», стилистически и композиционно напоминающий манеру австрийского писателя, «Ненап. Произведение Петера Альтенберга», а в 1929 году Леонид Добычин сообщал в письме Михаилу Слонимскому, что его сравнили с неведомым ему Петером Альтенбергом.
Где-то с середины 20-х резко идет на убыль и популярность Альтенберга в немецкоязычном культурном пространстве. На долгое время будет предан забвению факт, что в литературном процессе рубежа веков Альтенберг играл далеко не последнюю роль. Подтверждением тому служат высокие оценки, данные его творчеству Томасом и Генрихом Маннами, Райнером Марией Рильке, Карлом Краусом, Германом Баром, Георгом Кайзером, Альбертом Эренштейном и многими другими. В дневниковых записях конца 20-х годов Роберт Музиль даже называет Альтенберга лучшим писателем рубежа XIX-XX веков. В «Человеке без свойств» он упоминается наряду с Бодлером, Достоевским и Гюисмансом в составе четверки авторов, «по которым тогда был настроен тон молодежи».
Согласно версии одного видного специалиста по Музилю, Ульрих из «Человека без свойств» унаследовал от венского автора свою «эссеистическую позицию» и «теорию индивидуума». Альтенберг служил моделью и другим писателям. Предполагается, что с него, в частности, создавались портреты персонажа незаконченной драмы Артура Шницлера «Слово» Анастазиуса Тройенхофа, Кристиана Зюссешута из романа «История юной Ренаты Фукс» Якоба Вассермана, Детлефа Шпинелля из новеллы Томаса Манна «Тристан».
При жизни Альтенберга интерес к его творчеству был в немалой степени обусловлен своеобразностью его личности. Пожалуй, ни один из венских литераторов не удостаивался стольких разноплановых сопоставлений: его называли и «венским шутом», и «Диогеном», и «Сократом венских будней», и «последним миннезингером», и «летучим голландцем современной души». Об Альтенберге с полным основанием говорят как о венской достопримечательности. Писатель постоянно был на виду и даже в качестве домашнего адреса указывал Cafe Central. Его необычная манера одеваться, нескрываемое внимание к девочкам подросткового возраста и другие «странности» давали обильный материал пересудам и анекдотам.
Последующее забвение этого героя венской культурной сцены следует отнести не только на счет социальных катаклизмов и смены литературных приоритетов. В прошлом исследователь Альтенберга, а ныне известный немецкий писатель Буркхард Шпйннен не случайно увидел в нем «прототип поп-звезды». Действительно, кажущаяся тривиальность и бесконечная повторяемость альтенберговских тем вкупе с активной саморекламой роднят его с современным деятелем шоу-бизнеса. В какой-то мере венский автор стал заложником эффективности собственных рекламных стратегий. Всячески подогреваемый им интерес к своей персоне, обусловленный как стилем жизни «на публику», так и усиливающейся с годами тенденцией выводить главным действующим лицом своих текстов «Петера Альтенберга», или сокращенно П. А., оттеснял интерес к литературной продукции на задний план. Броские метафорические формулы собственного творчества («поэт, не создающий поэтических произведений», «наикратчайший импрессионист», «моментальный фотограф» и т. д.) выручали критику, сталкивающуюся с серьезными проблемами при попытках осмыслить место писателя в литературной традиции. Теоретическая рефлексия часто подменялась оценочным воспроизведением этих альтенберговских клише. В результате имя писателя превращалось в нечто подобное фирменному лейблу, делающему комментарии излишними. Правда, насколько можно заключить из слов «Эккермана» Альтенберга — Эгона Фриделля, этот ярлык чаще использовался как антиреклама: «...его имя стало собирательным обозначением для современной паранойи, жажды сенсаций, самовозвеличивания и погони за оригинальностью, и с тех пор, если работу какого-нибудь амбициозного молодого литератора хотели удостоить особо уничижительного отзыва, то без лишних слов говорили: “Это настоящий Петер Альтенберг”».
Весьма пагубно на литературной репутации Альтенберга сказалось его безапелляционное зачисление в импрессионисты, чему он сам отчасти способствовал своими декларациями. Это автоматически влекло за собой недооценку как стилистического плюрализма его поэтики, так и ее рефлексивного и конструктивного начал. Разговор об импрессионизме Альтенберга часто сводился к предвзятому акцентированию поверхностности, спонтанности, бессистемности и бесформенности его творчества. Между тем еще Роберт Музиль, бывший внимательным читателем своего старшего современника, отмечал: «Но что имеется в виду под импрессионизмом? Зарисовки Альтенберга? Их можно назвать импрессиями, но и с тем же успехом рефлексиями, и, чем старше он становится, тем больше рецептивный элемент отступает за рефлексивный». В 60-е годы прошлого века в работе одного немецкого исследователя было указано на филигранную структурную организацию ранних альтенберговских текстов и их дидактический вектор, далеко выходящий за пределы «чистого искусства впечатления». Несмотря на это, в панорамных представлениях эпохи все еще бытует мнение о творчестве Альтенберга как «неартикулированном потоке жизни, в котором нельзя разобрать смысловых структур».
В России Альтенберг с первых публикаций и до настоящего времени рассматривался исключительно в контексте импрессионизма. Как импрессиониста представила его читателю переводчица «Эскизов» А. Герцык, как модного импрессиониста попытался развенчать его рецензент этого издания в журнале «Мир божий». Для К. Чуковского в цитировавшейся ранее статье венский автор, можно сказать, «знаковая» фигура, воплощающая собой западный импрессионизм. В том же ракурсе освещало его творчество и российское литературоведение, например Л. Андреев в посвященной импрессионизму монографии. В современных учебниках по истории литературы имя писателя также соотносится с этим художественным явлением. В одном издании Альтенберг характеризуется как автор, воплотивший принципы импрессионизма в наиболее чистом виде. Очевидно, что при таком подходе затруднительно объяснить, почему австрийский писатель попал в «дяди» следующего литературного поколения. Если концепция Шкловского имеет что-то общее с формулой Пинтуса, то следует прежде всего обратить внимание на те черты в творчестве Альтенберга, которые отмежевывают его от импрессионизма и предвещают новый этап литературного развития.
Надо сказать, что в последнее время в западной германистике наметилась тенденция к переоценке литературного статуса Альтенберга. Этот процесс напрямую связан с усилением культурологической и междисциплинарной направленности литературоведческих исследований. При этом на первый план выходит вовсе не пресловутый импрессионизм. Становится все очевиднее, что литературное наследие Альтенберга весьма актуально благодаря многообразию культурных влияний, которые оно в себя вобрало, и тенденций, которые предвосхитило. Одну из книг о венском модерне закономерно завершает глава об Альтенберге, где его творчество предлагается рассматривать как «динамический процесс, подразумевающий взаимное “пересечение границ” между различными формами искусства (литература, архитектура, музыка, живопись), а также наложение различных дискурсов “науки” и “литературы”». Писатель, долгое время считавшийся аутсайдером литературного процесса, ныне предстает едва ли не его ключевой фигурой. Маргинальность Альтенберга — особого рода: это такая периферийность, которая позволяла ему комфортно расположиться на границе, разделяющей центральные явления венской культурной жизни: авторов «Молодой Вены» и их непримиримого врага Карла Крауса, сецессионистов и их критика архитектора Адольфа Лооса.
Оживление интереса отразилось и в чисто количественном росте публикаций, связанных с венским автором, и в выпуске в 2002 году роскошного издания книги Альтенберга «Земмеринг 1912» вместе с одноименным фотоальбомом, воспринимаемым как «ревизия» писателем вышедшей ранее книги, и в организации в январе — апреле 2003 года в Еврейском музее Вены выставки, посвященной жизни и творчеству Альтенберга.
Удобной отправной точкой для корректировки некоторых устоявшихся представлений об альтенберговском творчестве может служить проблема жанра. Творческое наследие писателя включает более десяти книг, содержащих тексты, объем которых составляет от нескольких строк до двух-трех страниц. Какие только жанровые обозначения не применялись к этим текстам: «зарисовка», «эссе», «штудия», «эскиз», «миниатюра», «стихотворение в прозе», «фельетон» и даже такие оригинальные термины, как «импрессионистическая эмблема» или «impromtu». Не раз высказывались суждения, что альтенберговские опусы «не дотягивают» до стихотворения в прозе или афоризма ввиду недостатка формальной связности. Попытки доказать обратное предпринимались в основном на материале первых двух-трех книг. В результате сложилось стойкое убеждение о «деградации», разложении формы в более поздних текстах писателя.
Проблемы жанровой дефиниции побуждают пристальнее вглядеться в кажущиеся выхолощенными формулы, которыми Альтенберг определял своеобразие своего творчества. Возможно, бытовые клише способны сказать больше о специфике продукции писателя, чем традиционные литературные термины. Взять хотя бы жанровое самоопределение «экстракт», весьма интенсивно эксплуатировавшееся венским автором. Наверно, ни одна посвященная Альтенбергу работа не обходилась без цитирования фрагмента из написанного в 1898 году текста «Автобиография»: «Разве мои малые вещицы — поэтические творения? Никоим образом. Это экстракты! Экстракты жизни. Жизнь души и случайного дня, выпаренная до 2-3 страниц, освобожденная от лишнего, как говядина в тигеле Либиха! Читателю предоставляется возможность в меру собственных сил вновь растворить эти экстракты, превратить в годный к употреблению бульон, вскипятить на огне собственного духа, одним словом, сделать жидкими и удобоваримыми. Однако существуют “духовные желудки”, которые не могут переносить экстракты. Все остается лежать тяжелым, едким грузом. Им требуется 90 процентов отвара, жижи. Чем им растворить экстракты?! Может быть, “собственными силами”?!»
Это безусловно необычный, запоминающийся пассаж, дающий хорошее представление о характере поэтологической рефлексии Альтенберга, в которой яркая образность заменяет собой абстрактное теоретизирование. Но что он значит в переводе на язык литературоведения? В исследовательской литературе нет ясности в трактовке «экстракта». Ирена Кевер, рассматривающая жанровый аспект поэтики венского автора, постоянно прибегает к этому понятию, формулируя в заключение, что мир постижим для Альтенберга только в «теории экстракта». Однако ее попытка замкнуть «экстракт» в рамках традиционных жанров ведет к досадной неопределенности и противоречиям, Например, анализируя формальные изменения в связи с переходом от ранних стихотворений в прозе к фельетону, Кевер утверждает, что Альтенберг «ломает экстрактивный, лирико-прозаический формальный принцип, отдавая предпочтение манере изображения, которая должна быть общедоступной». В то же время, подводя итоги исследования, она говорит об «экстрактивной краткости» фельетонов писателя как характерной альтенберговской трансформации традиционного жанра.
Очевидно, что каждый раз термин «экстрактивный» получает иную смысловую нагрузку. Наиболее часто встречающееся соотнесение «экстракта» со стихотворением в прозе основано на эпиграфе из романа Гюисманса «Наоборот», предпосланном Альтенбергом второму изданию книги «Как я это вижу». Это объемистый фрагмент, где стихотворение в прозе определяется как «роман в одну-две страницы», который «сделает возможным сотворчество мастерски владеющего пером писателя и идеального читателя». Появление эпиграфа лишь во втором издании походит на применение жанрового определения а posteriori. Импульсом к этому вполне могла послужить рецензия законодателя мод в венской литературе Германа Бара — один из первых откликов на книгу Альтенберга, в котором Бар совершенно неожиданно, после нескольких указаний на то, чем не являются альтенберговские тексты, определяет их как стихотворения в прозе. Любопытно, что в эпиграфе Альтенберг цитирует Гюисманса не дословно: среди прочего, он отмежевывается от традиции жанра стихотворений в прозе, удаляя имена Бодлера и Малларме.
В определении «экстракта» привлекает внимание попытка обосновать краткость текстов «освобождением от лишнего». В контексте литературы рубежа XIX-XX веков малый формат сам по себе не кажется чем-то экстраординарным. «...Fin de siecle приносит с собой рост числа малых литературных форм, обилие стихов и афоризмов, короткую, часто лирическую прозу, незначительные по объему эссеистические и фельетонные тексты. Даже крупные формы романа и драмы втягиваются в коллективную тенденцию к уменьшению: зачастую они предстают сжатыми и редуцированными или складываются из отдельных коротких фрагментов».
Однако краткость Альтенберга все же обладает свойствами, придающими ей особый статус. И не только потому, что венский автор использует применительно к себе эпитет «наикратчайший» и заявляет о все возрастающей краткости своих произведений. К примеру, «Пятиминутные сцены» («Fünfmi-nutenszenen») Альтенберга даже на фоне одноактных драм Шницлера и Гофмансталя являют собой образец аномальной краткости. Столь же примечателен в этом отношении «Роман на берегу» («Roman am Land»), умещающийся на одной странице. Как другой случай контрастной краткости нельзя не упомянуть «Тексты на открытках» («Texte auf Ansichtskarten»), превращенные австрийским композитором Альбаном Бергом в песни.
Важно указать на специфику альтенберговского подхода к собственному творчеству, выраженную в следующем высказывании: «Что же такое мои зарисовки?! Экстракты новелл. Что же такое мои афоризмы?! Экстракты моих зарисовок. Что же получится, если я уже совсем ничего не напишу?!
Экстракты моего священного молчания!» Наряду с уже отмеченной исследователями позитивной ролью молчания значимым является отказ Альтенберга признать специфические функции и возможности разных жанров, представить их в виде континуума, в котором жанры утрачивают самостоятельность, воплощая различные ступени редукции.
Кажется, что уловить сущность альтенберговского «экстракта» путем наложения жанровых трафаретов едва ли возможно. Значит ли это, что «теория экстракта» не более чем рекламный трюк, нацеленный на сбыт литературного товара, который якобы не производит никто другой? Или, может быть, дело не в коммерческих соображениях, а в вызове традиции? В таком случае каковы его мотивы? Почему этот вызов облекается в форму «экстракта»? И следует ли рассматривать данную проблему исключительно в жанровом аспекте?
В определениях, даваемых Альтенбергом своему творчеству, бросается в глаза их внеположность или оппозиционность традиционным представлениям о литературе и искусстве. Например, характеристика «моментальный фотограф» весьма двусмысленна на фоне ожесточенных дискуссий рубежа веков о художественности фотографии. Своим «экстрактам» Альтенберг отказывает в праве называться поэтическими произведениями (Dichtungen). В то же время в «экстракте» заявляет о себе стремление к синтезу. Хотя в приведенном отрывке из «Автобиографии» тигель выполняет функцию выпаривания, сгущения, трудно избавиться от подспудно возникающей ассоциации с «плавильным котлом» (der Schmelztiegel), метафорой, обозначающей процесс интеграции. Контекстуальное использование слова «экстракт» как у Альтенберга, так и в «культурном тексте» XIX — начала XX века предполагает широкий спектр связей. Альтенберг называл, например, варьете «экстрактом театра», а свою коллекцию открыток — «экстрактом картинных галерей» (Diogenes in Wien. Bd. 1. S. 193; Bd. 2. S. 197). Метафорическое определение «экстракт» применялось к фотографии, японской живописи, телеграфу.
Легко предположить, что для Альтенберга — ценителя японских миниатюр, восторженного апологета фотографии и адепта технических новшеств, называвшего свою манеру письма «телеграфным стилем души», — могли иметь значение такие контекстуализации «экстракта». Однако в определении «экстракта» содержится и другой, гораздо более эксплицитный смысловой слой. Непосредственней, чем с другими культурными подтекстами, «теория экстракта» связана с диететикой венского автора.
Диететика традиционно рассматривалась как сквозная тема, отражающая стремление Альтенберга участвовать в так называемых Lebensreformbewegungen — многочисленных реформаторских движениях рубежа веков, направленных на создание жизненного уклада, «который, в пику роскоши и технической искусственности современной цивилизации, должен был основываться на эмфатической оценке “здорового” и “природного”». По существу это были утопические проекты, ратовавшие за «возврат к природе». В представлениях реформаторов переустройство общества не предполагало использования политических средств. Ставка делалась на работу индивидуума над самим собой и условиями своего существования. Гамма движений была очень пестрой: социальная энергия реформаторов могла направляться в такие области, как реформа питания, одежды, борьба с алкоголизмом и табакокурением, пропаганда гигиены, лечение природными средствами, нудизм (die Freikörperkultur, die Nacktkultur), новые формы гимнастики, защита животных, общинное землепользование, организация коллективных походов (die Wandervogelbewegung) и т. п. При этом их участники вдохновлялись совершенно разными идейными ориентирами: от социалистических, анархистских, пацифистских до оккультных и националистически-антисемитских. Единственное, что сближало их представителей, это «убежденность в необходимости борьбы не только с определенными актуальными, ощущаемыми как угрожающий знак цивилизационными явлениями, но и с их условиями, прежде всего индустриализацией и ростом городов».
В недрах этих движений складывалось новое экологическое мышление и формировались сегодняшние представления о здоровом образе жизни. Активное участие в них принимали многие известные деятели культуры, в том числе писатели, такие, как Герман Гессе или Эрих Мюзам. Любопытно, что ряд зарубежных исследователей Альтенберга называют его первым представителем «зеленых». Действительно, современному читателю альтенберговских текстов трудно согласиться с М. Горьким и признать, что «социальная амальгама стерта» с венского автора. Особенно если сопоставить его с другими представителями венской литературы. В отличие от Альтенберга, ни один из них не призывал на страницах своих художественных произведений реформировать венские сады, охранять летучих мышей или улучшать условия труда на предприятиях.
В непосредственной связи с реформаторскими движениями на рубеже веков происходит значительный рост интереса к телу и условиям сохранения здоровья. Культ здорового тела охватывает широкие слои населения, в том числе его исповедуют и многие писатели Австро-Венгрии, например Гофмансталь и Шницлер. В. Жмегач, характеризуя их частную жизнь, говорит об «играющем в теннис, плавающем и катающемся на велосипедах венском модерне». По мнению Жмегача, сам по себе этот факт не нуждается в комментарии, однако, «когда речь идет именно об авторах, чьи драмы и новеллы казались многим современным читателям морбидными, кажется не лишним указать на это расхождение между “поэзией и правдой”. В произведениях как раз важнейших представителей молодой венской литературы об этих жизненных реалиях говорится лишь вскользь».
Здесь кроется одно из существенных отличий творческих установок «маргинала» Альтенберга и писателей «Молодой Вены», позволявшее виднейшему венскому сатирику Карлу Краусу противопоставлять альтенберговскую аутентичность манерности кружка Германа Бара. В свою очередь младовенцы порой очень скептически оценивали казавшуюся им стилизованной «искренность» Альтенберга. Как бы то ни было, тексты «венского Диогена» обнаруживают больше перекличек с непосредственными жизненными реалиями, окружавшими австрийских писателей, чем поэтический мир Гофмансталя с его игровым историзмом.
Было бы, однако, ошибочным полагать, что альтенберговская диететика является слепком с реформаторских идей. Например, мясной экстракт Либиха был в глазах реформаторов скорее символом столь ненавистного им промышленного производства и объектом критики сторонников вегетарианства. Энтузиазм писателя по поводу технического прогресса контрастирует с пропагандой «возврата к природе». Исследователи альтенберговского творчества, как правило, ограничиваются констатацией противоречий и странностей диететики венского автора, не стремясь при этом осмыслить ее как целостный художественный феномен. Отмечая предвосхищение Альтенбергом экспрессионистской идеи «нового человека», они не пытаются глубже изучить связи его диететики с авангардом и вообще художественным контекстом эпохи, в то время как в формуле Курта Пинтуса имя Альтенберга настолько прочно связано с реформаторскими движениями, что с помощью дефиса объединяется в одно целое со словом «реформа»: «Lebens-Reform-Peter A.». Не учитывается факт, что роль диететики в творчестве Альтенберга отнюдь не исчерпывается ее сугубо прагматической интерпретацией. В диететике венского автора наиболее ярко проявилась его неудовлетворенность существующими эстетическими нормами и границами литературы. Альтенберг не только считал диететику неизмеримо более важной, чем искусство, но и рассматривал ее как первооснову художественного творчества. В частности, он утверждал: «Я не получил от рождения органического, само собой разумеющегося таланта; но зато — в качестве чудесной компенсации — глубочайшие знания диететики и гигиены нашей — ох какой сложной — жизненной механики (Lebensmaschinerie). От них сам собой, естественным путем возносишься до поэта, охватывающего жизнь единым, взором!» (Diogenes in Wien. Bd. 2. S. 191).
Диететика выступает у Альтенберга своеобразным оппонентом традиционной эстетики, выполняя по отношению к ней подрывную, критическую функцию. Наиболее радикальное выражение эта идея получает в одном из посмертно опубликованных текстов, где диететика и гигиена противопоставляются потребности человечества в искусстве как гораздо более насущные нужды. Среди прочего Альтенберг утверждает: «Искусство состоит в возможности (умении) отказа от искусства» («Kunst ist auf Kunst verzichten zu können») (Diogenes in Wien. Bd. 2. S. 226). Нельзя не отметить, что позиция венского автора соответствует двум главным критериям, предъявляемым известным немецким теоретиком Петером Бюргером к авангардному искусству. Первый из них заключается в том, что авангард переводит искусство в жизненную практику, преодолевая автономность эстетизма. Согласно второму, функцией авангарда является критика не предшествующих этапов в развитии искусства, а самого искусства как общественного института.
Вполне допустимо, что диететика Альтенберга идейно предвосхищает авангардные проекты, направленные на упразднение грани между жизнью и искусством. Например, его мысль открыть художественный ресторан, в котором будут работать рука об руку поэт и кулинар, обретет реальность спустя двадцать лет стараниями итальянских футуристов, возможно, не подозревавших о своем предшественнике. При сравнении альтенберговских текстов и манифестов футуризма можно обнаружить немало интересных совпадений в отношении к моде, варьете, гигиене и т. д.
По сути, «теория экстракта» представляет собой частный случай эстетизации диететики в творчестве австрийского писателя. Поэтому сведение ее к жанровой проблеме едва ли оправданно. Генетически связанная с диететикой, «теория экстракта» обнаруживает с ней и иные точки соприкосновения. Прежде всего следует заострить внимание на том, что идея редукции текста перекликается с целями альтенберговской диететики, проповедующей в его интерпретации редукцию тела. Базисом для сближения литературной теории Альтенберга и его диететики служит идея о преимущественно эстетической, а не прагматической функции диететики в творчестве писателя.
Итак, из чего мог исходить Альтенберг, придавая диететике эстетический статус, и как с ней соотносится его «теория экстракта»? Ответить на эти вопросы нельзя без обращения к истории диететики и к отдельным прецедентам ее включения в философско-художественный контекст. На их фоне отчетливей станет видна эстетическая трансформация диететики, осуществленная Альтенбергом.
Роль диететики в художественной системе Альтенберга и вообще в литературе практически не изучалась. Для современного человека слово «диететика» ассоциируется с диетой, то есть специальным питанием, применяемым в лечебных или косметических целях. Большинство словарей подтверждают верность спонтанной ассоциативной связи. Так, например, авторитетные немецкие лексиконы «Бертельсманн» и «Брокгауз» дефинируют диететику соответственно как науку о здоровом или терапевтически целесообразном питании. В русских источниках диететика отождествляется с диетологией. На самом деле это лишь один из ее аспектов, впрочем представленный у Альтенберга наиболее развернуто. Уже этимология слова, его производность от греческого dfaita — «образ жизни», отсылает к иному, расширенному содержанию понятия. «Энциклопедический лексикон Майера» фиксирует эту связь, предлагая два определения диететики: «Учение о разумном, т. е. здоровом телесном и душевно-духовном образе жизни; в медицине учение о правильном питании, особенно больных».
Идеи диететики восходят к античности. Она функционировала наряду с медикаментозной терапией и хирургией как часть античной медицины, видевшей свою первоочередную задачу не в лечении заболеваний, а в сохранении здоровья, иными словами, в профилактике, регламентации здорового образа жизни. Медицина была в то время не только естественной, но и гуманитарной наукой. Она базировалась на натурфилософской идее аналогии микро- и макрокосмоса. Согласно Дитриху фон Энгельгардту, «когда сегодня говорят о диететике еды и питья, едва ли задумываются о том космологически-антропологическом размахе, что был определяющим для медицины в античности, в средневековье и даже захватывал Новое время».
Аккумулированные Гиппократом и его последователями знания были систематизированы врачом Галеном (II век н. э.), предложившим классификацию «sex res поп naturales». Гален назвал шесть сфер диететики «неестественными» с учетом того, что они не всецело зависят от природы, а должны, как формулирует Энгельгардт, «управляться, стилизоваться человеком». По Галену, «res non naturales» (диететике) противостоят «res naturales» (физиология) и «res contra naturam» (патология). К шести сферам, составляющим структурный костяк диететики, относятся: свет и воздух, еда и питье, движение и покой, сон и бодрствование, выделения, аффекты. Все области диететики спаяны представлением о неразрывном единстве души и тела, психики и соматики. Значение древнегреческого глагола «hygieinein» (быть здоровым), от которого произошло современное слово «гигиена», подразумевало и телесное, и душевное благополучие. Духовное и телесное наделяются в диететике способностью не только адекватно отражаться друг в друге, но и влиять друг на друга. Это означает, что «психотерапия всегда одновременно является физиотерапией, но и психика постоянно подвержена влиянию при лечении тела». Комплексный характер диететики, с точки зрения современных исследователей (Д. фон Энгельгардта, М. Фуко и пр.), позволяет говорить о ней как о всеобъемлющем «искусстве жизни» (ars vivendi), обнаруживающем связи с философией и теологией.
В таком неусеченном виде диететика, часто отождествляемая с гигиеной, существует до середины XIX века, когда научно-экспериментальные методы в гигиене и успехи бактериологии приводят к ее распаду. Предмет диететики распределяется по специальным областям (санитария, психотерапия и т. д.), сам термин отождествляется с «наукой о питании», а диететика как целостность сохраняется лишь в популярной литературе. В настоящее время диететика вновь вызывает значительный интерес в научных кругах как альтернатива современной медицины.
Несмотря на то, что развитие медицины в XIX веке привело к утрате диететикой первоначального статуса, интерес к ней не пропадал. В Австро-Венгрии на протяжении всего столетия выпускалось огромное количество литературы на эту тему. Кевер указывает на то, что диететика Альтенберга следует гигиеническому учению времен Гете и предполагает ее близость наблюдениям, сформулированным в знаменитой книге другого венца, знатока Гете, критика и писателя Эрнста фон Фейхтерслебена «К диететике души» (1838). Более явным образцом для австрийского писателя могли служить многочисленные декларации в книгах Фридриха Ницше, чье влияние Альтенберг, названный Томасом Манном «фрагментарным истолкователем Ницше», редко признавал: «...эти маленькие вещи — питание, место, климат, отдых, вся казуистика себялюбия — неизмеримо важнее всего, что до сих пор почиталось важным. Именно здесь нужно начать переучиватъся». Пересмотр отношения к телу на рубеже XIX-XX веков непредставим вне контекста интенсивной рецепции идей немецкого философа. Для Ницше тело гораздо более удивительный, таинственный и сложный феномен, чем дух и душа. В книге «Так говорил Заратустра» тело нарекается «большим разумом», в то время как дух — всего лишь «маленький разум», «маленькое орудие», «игрушка большого разума», а душа — «только слово для чего-то в теле». Слово «диететика» очень часто возникает на страницах произведений немецкого философа. Например, в предисловии ко второму тому «Человеческого, слишком человеческого» Ницше представляет составившие его работы как «учение о здоровье» (Gesundheitslehre) и говорит о шести предшествовавших созданию книги годах как времени «диететики и воспитания», к которым он прибег «как врач и больной в одном лице».
Альтенберг был далеко не единственным австрийским писателем рубежа веков, проявлявшим интерес к диететике. В исследовательской литературе упоминаются имена Марии фон Эбнер-Эшенбах, Гуго фон Гофмансталя, Райнера Марии Рильке, Франца Кафки. Однако ни у кого из них диететика не фигурирует в реестре центральных тем. У Альтенберга же нет ни одной книги, где не затрагивались бы вопросы диететики. От них не свободны даже тексты, относимые к «стихотворениям в прозе». Рецензируя книгу «Как я это вижу», Гофмансталь находит несколько рассеянных по ней трактатов об искусстве сна, еды, купания и т. д.: «Но это не сухие трактаты, а маленькие стихотворения, как те античные фрагменты первых врачей и учителей естественной истории, что опьянялись наивной радостью по поводу своего предмета». Стоит упомянуть, что любимый Альтенбергом жанр афоризма восходит к Гиппократу. Связь афоризма с медициной подчеркивается писателем приданием жанру непосредственных терапевтических свойств: «Афоризмы — это ведь не афоризмы, помилуйте! Это же только для того, чтобы мгновенно, на краткий срок помочь вам в жизни! Поэтому ведь они не могут быть ни остроумными, ни глупыми. Как медикаменты, которые ведь тоже не могут быть ни остроумными, ни глупыми, а только помогают или не помогают». Такой взгляд на литературу заставляет вспомнить античных авторов, например Платона, сравнивавшего медицину с искусством слова. Как и в античности, художественность у Альтенберга оказывается неотделима от практической пользы. Отождествление эстетической значимости и утилитарности, как уже отмечалось, — излюбленная мысль венского писателя, постоянно возникающая на страницах его книг. В одном из своих коротких текстов, называемых им «осколками», Альтенберг заявляет: «Я ненавижу всех поэтов, продающих ботинки, которые нельзя носить. Пусть всякое стихотворение будет годным к употреблению (benützbar), тем или иным образом. Ботинок, который я поставляю, должен быть впору! Иначе я ненастоящий башмачник!» (Diogenes in Wien. Bd. 2. S. 84).
Тексты, посвященные диететике, составляют основной объем книги «Prödrömös» (1905). О значении, придаваемом писателем этой книге, можно судить хотя бы по количеству эксплицитных отсылок к ней в заглавиях последующих текстов. И в формальном, и в тематическом отношении эта публикация довольно сильно отличается от предыдущих книг писателя. Прежде всего бросается в глаза отказ от организации текстов в циклы («Skizzen-Reihen», «Studien-Reihen») с высокой плотностью структурных связей, как это было в прежних книгах. Вместе с этим пропадает оглавление и уменьшается средний объем текста: на 198 страницах представлены около 450 большей частью неозаглавленных, отделенных друг от друга виньеткой произведений, средняя длина которых составляет примерно 0,4 страницы.
«Prödrömös» часто характеризуют как «книгу афоризмов», однако ее жанровый диапазон весьма разнороден и неоднозначен. По Б. Шпиннену, она включает в себя, среди прочего, диалогические сцены, дидактические беседы, медицинские рефераты, философские рефлексии, книжные рецензии и ряд других, еще труднее поддающихся определению текстов. Некоторые из них более всего походят на рекламный слоган или газетное объявление. Помимо этого, в книге есть и уже привычные для читателей Альтенберга «стихотворения в прозе», и фельетоноподобные тексты. Очевидно, что большинство миниатюрных произведений скорее представляют собой записи интеллигибельного характера, чем импрессионистические зарисовки. Своеобразие книги усиливает пронизывающий ее авторефлексивный слой.
В «Prödrömös» Альтенберг заявляет: «Исключительно от применения законов диететики и гигиены зависит эволюция духа и души человечества!» Перечисление in nuce основных, беспрестанно варьируемых в книге тем дает один из ее текстов: «Любовь (seelische Liebe) — самый гениальный аккумулятор и регенератор. Далее, свет солнца, сам собой прекращающийся сон при широко открытых окнах, упражнения на свежем воздухе, нежнейшая оздоровительная диета, Tamar Indien Grillon и Vino Condurango» (Prödrömös. S. 40).
«Prödrömös» вызвал противоречивые реакции, преимущественно негативные: «На основании его мнимой произвольности Prödrömös отбрасывался как произведение, написанное с наименьшей тщательностью, как псевдонаука с претензиями, которую следует отвергнуть без обиняков». Показательна оценка, данная в рецензии профессиональным врачом Вильгельмом Штекелем: «Мы прощаем ему (то есть Альтенбергу. — Б. X.) неудачный экскурс в область гигиены и воспринимаем его как то, что он есть в действительности: как болезненную тягу к выздоровлению, доводящую себя до экстаза речами о здоровье». Любопытно, что в 1913 году Штекель сам издал книгу о диететике, которую пытался противопоставить идеям своего бывшего учителя Зигмунда Фрейда. Впрочем, Альтенберг будто бы предвидел мнение критиков и поместил в «Prödrömös» следующий текст: «Новейшая книга Петера Альтенберга принесла своим читателям жестокое разочарование. От его сильно ограниченного таланта ожидали немного. Но более или менее верные афоризмы о стиле жизни?!?
К чему нам наши врачи и специалисты по гигиене (Hygieniker)?!?
Поэт должен нас изумлять. Что ж, он нас изумил!» (Prödrömös. S. 14).
Альтенберг не только отдавал себе отчет в том, что напи- санное им будет расценено как выход за пределы компетенции литературы, но и стремился утвердить читателя в этой идее, заявляя: «Эстетика — это диететика. Прекрасно то, что является здоровым» (Prödrömös. S. 128). Формулу «эстетика — это диететика» можно счесть прокламацией голого утилитаризма, ведущего в последовательном развитии к утрате искусством суверенных прав. Однако, с точки зрения Альтенберга, исчезновение автономии искусства должно быть сопряжено не с его упразднением, а, наоборот, с абсолютным расширением его сферы, так как суть диететики состоит в превращении каждого человека в художника, творящего в том числе и самого себя.
Утопизм этой и прочих идей был, вероятно, ясен современникам, что не помешало им оценить «Prödrömös» как никуда не годное практическое руководство, а не как эстетический факт. Художественный потенциал книги обратил на себя внимание лишь в недавнее время, хотя справедливости ради следует указать, что еще в рецензии Отто Штессля намечался иной взгляд на «Prödrömös». Штессль обнаружил в книге сосуществование и взаимопроникновение поэтического языка с повседневной речью, дискурсами рекламы, медицины и физиологии. Идея рецензента получила развитие спустя много лет в интересной работе Буркхарда Шпиннена, который толкует «Prödrömös» как новаторское введение языка рекламы в литературную практику, «идиллизацию» марочного продукта.
Парадоксальность альтенберговской книги именно с практической точки зрения очевидна. Трудно не согласиться с Петрой Лейтнер, утверждающей: «Несмотря на многочисленные практические регламентации и культурно-критические высказывания о “трагических слабостях” (Альтенберг) современных организмов, с моей точки зрения, ввиду очевидной прагматической несостоятельности и неосуществимости этих самых практических рекомендаций, текст однозначно указывает на то, что его следует читать с оглядкой на “искусство преувеличения”, прежде всего в эстетическом ракурсе, а не буквально. Альтенберга больше занимает жест как таковой, а именно выдвижение тела в центр, и в меньшей степени зачастую абсурдный характер отдельных советов». Цель Альтенберга, согласно Лейтнер, заключается в трансформации тела, в нахождении средств для того, «чтобы контролировать его, утончить, эстетизировать, одухотворить и культивировать “здоровым образом”». Справедливо определяя вектор телесной трансформации как «Beseelung» (спиритуализацию, одухотворение), Лейтнер, однако, не обращает внимания на то, что оздоровление тела сопровождается его редукцией, граничащей с деструкцией. Она не устанавливает параллелей между эстетизацией телесного и «эстетическим минимализмом» Альтенберга, способным, как кажется, объяснить парадоксальность его диететики. Трудно избавиться от мысли, что между уменьшением объема текстов в «Prödrömös» и доминирующей позицией, которую занимает в тематическом спектре книги диететика, нет определенной корреляции.
Как правило, фрагментарность альтенберговского письма выводится из «импрессионистического» мировосприятия венского автора, стремления зафиксировать мимолетные настроения и мысли или «неспособности» совладать с потоком впечатлений. Но можно попытаться взглянуть на проблему иначе, с учетом положений диететики и в проекции жизнетворчества авангарда. Тогда «экстракты» Альтенберга, тексты-медикаменты, предстанут продуктом сознательной концентрации, энергетическими сгустками сродни пилюлям Маринетти, эффективным средством создания нового человека.
Подчинение искусства и диететики общим законам функционирования приводит, с одной стороны, к эстетизации отдельных аспектов человеческой физиологии, к художественной трансформации диететики, к ее отрыву от прагматики, а с другой стороны — к прагматизации и «физиологизации» литературы. Под «физиологизацией» в данном случае следует понимать не натуралистичность письма, а альтенберговское решение проблемы искусственности литературы, ее оторванности от жизни, которая занимала и других писателей (например, Томаса Манна или Гофмансталя), но решалась ими совершенно по-другому.
Альтенберг стремится реабилитировать литературу и искусство, максимально приблизив их к человеку, превратив их в функцию человеческого организма или фактор его жизнеобеспечения, повышения его энергетических резервов.
Актуальность исследования альтенберговской диететики связана с тем, что «физиологический» взгляд на литературу присущ и другим, более известным, чем он, авторам. Можно указать на поэтологическую трактовку процесса голодания у Франца Кафки, который также ставил свою писательскую активность в прямую зависимость от собственной телесной организации.
Эстетический потенциал альтенберговской диететики весьма велик и позволяет рассматривать ее в разнообразных художественных контекстах. Например, ее можно интерпретировать как способ «остранения» эстетических представлений, симптоматичных для рубежа веков. Противопоставление «толстых» и «тонких» — одна из центральных оппозиций fin de siecle, метафорически воплощающая антитезу филистера и художника (хрестоматийный пример — «Тристан» Томаса Манна). С одной стороны, образ «исчезающего» тела, формируемый диететикой, укоренен в иконографическом каноне и не мыслим вне контекста декаданса, представляя альтенберговское позитивное видение «деградации» как избавления от лишнего. С другой стороны, в том преломлении, какое идея декаданса получает в диететике Альтенберга, явственно ощутимо предвосхищение редукционистского и жизнетворческого пафоса авангарда.
Л-ра: Вопросы литературы. – 2005. – № 4. – С. 279-314.
Произведения
Критика