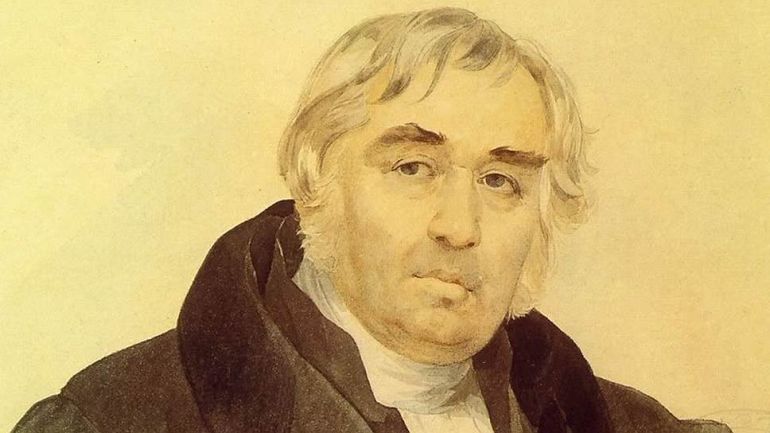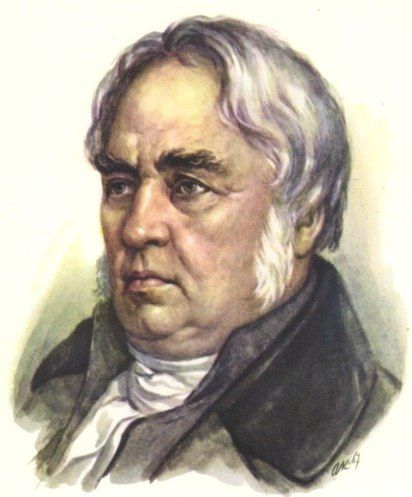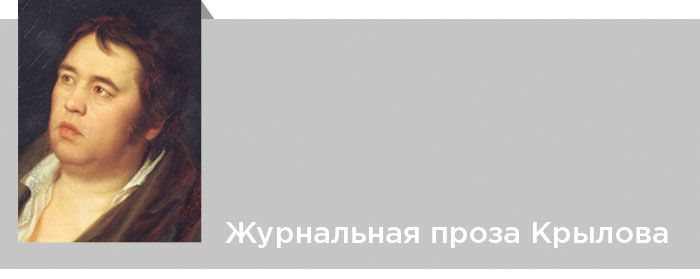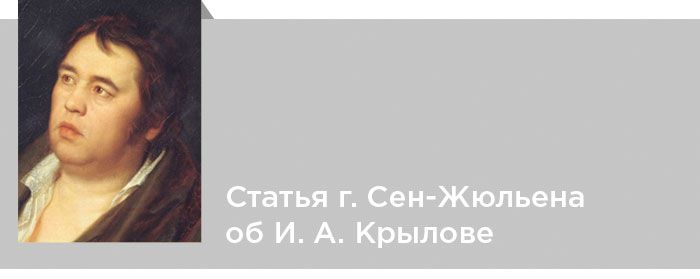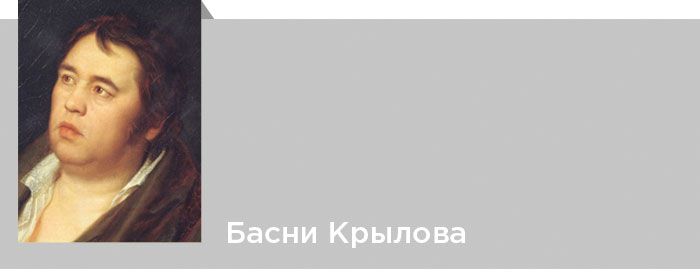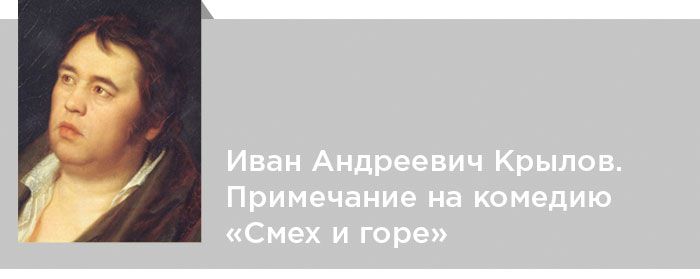Игровые стратегии в комедиях И.А. Крылова

УДК 821.161.1.09
И.В. Александрова
В статье рассматриваются комедии И. А. Крылова 1800-х годов сквозь призму их игровой составляющей. Выявляются специфика игровых приемов и их функции в структуре пьес. Делается вывод об игре как художественной доминанте театра Крылова, обеспечивающей его единство, формирующей подтекст как специфическое качество авторского почерка драматурга.
Ключевые слова: комедия, игра, подтекст, травестия, пародия, ирония.
У статті розглядаються комедії І. А. Крилова 1800-х років крізь призму їх ігрової складової. Виявляються специфіка ігрових прийомів і їх функції в структурі п'єс. Робиться висновок про гру як художню домінанту театру Крилова, яка забезпечує його єдність, формує підтекст як специфічну якість авторського почерку драматурга.
Ключові слова: комедія, гра, підтекст, травестія, пародія, іронія.
The article discusses the comedies written by I.A. Krylov in 1800s through the prism of their gaming component. The specific gaming devices and their functions in the structure of plays are identified. The author comes to a conclusion of the game as the art dominant of Krylov’s theater, ensuring its unity, forming a subtext as a specific quality of the playwright 's handwriting.
Key words: comedy, game, subtext, parody, irony.
Последние десятилетия в литературоведении ознаменовались тенденцией к пересмотру устоявшихся концепций, традиционных представлений о тех или иных явлениях художественного процесса предшествующих эпох. Современная методология литературоведческих исследований позволяет по-новому интерпретировать уже достаточно хорошо изученные аспекты классических произведений. В этом отношении весьма продуктивным представляется анализ конкретных художественных феноменов в свете активно разрабатываемой в конце ХХ – начале ХХI веков теории игры. Рассмотрение произведений с учётом игрового начала в их составе открывает дополнительные возможности для читательской / зрительской рецепции известных текстов.
Целью данной статьи стало переосмысление в обозначенном ракурсе комедийного творчества И.А. Крылова начала XIX века. При всем разнообразии рассматриваемых литературоведами аспектов драматургической поэтики Крылова, такой немаловажный ее компонент, как игровая составляющая, практически не становился предметом специального изучения. Этот аспект творчества Крылова-драматурга привлекал внимание исследователей [1; 2, с. VIII-IX, XIX; 9, с. 151; 10, с. 135-136], однако они ограничивались локальными наблюдениями, которые не исчерпывают всех возможных истолкований игровых приемов и их функций в пьесах Крылова, не дают целостной картины функционирования игрового начала в театре автора «Подщипы». Анализ драматургии Крылова в игровом модусе способствует более глубокому пониманию ее художественной специфики.
Попытки трактовать пьесы Крылова с позиций традиционных подходов, как представляется, малоуспешны. Так, В. Лавровский писал, что многое в сюжетах и характерах – «верх неестественности», обращал внимание в них на «совершенно случайное и ничем не мотивированное сплетение обстоятельств», «ряд искусственно составленных сцен» [6, с. 17]. В. Н. Перетц находил в «Трумфе» «несоответствие между требованиями нашего обычного представления о жизни. Царь занимается спусканием кубаря… снаряжение войска, нелепая любовь княжны к Слюняю» [8, с. 28]. При этом не учитывалось такое качество крыловских пьес, как воплощенная в них сознательная установка автора на повышенную степень художественной условности, присутствие игровой составляющей, которая сообщает особую логику пьесам Крылова. Для выявления стилистического своеобразия его комедий необходимо обратиться к исследованию феномена игры как важнейшего элемента их поэтики и установить существенные черты игрового начала, организующего их сюжеты.
Игра, согласно определению Й. Хейзинги, есть некая разновидность свободного действия, осознаваемого как «ненастоящее», не связанное с обыденной жизнью и тем не менее способное целиком захватить играющего; важнейшим качеством игры является ее бесцельность, отсутствие обусловленности какими-либо ближайшими материальными интересами или доставляемой пользой [12, с. 32.]. Активность использования игровой составляющей в художественном произведении во многом зависит от общего состояния культуры: «Игра особенно интенсивно проникает на страницы самых различных сочинений в периоды культурного пограничья, в эпохи переломные, когда особенно остро ощущается хрупкость человеческой жизни, призрачность счастья и покоя, неуверенность в судьбе, иллюзорность всего, что казалось прочным и вселяло надежду» [3 , с. 54]. Именно такой эпохой представляется рубеж XVIII – XIX веков.
Игровые импульсы пронизывают все комедии Крылова 1800-х годов. Драматург создает в тексте подчеркнуто игровые ситуации, и этот способ обеспечивает многоуровневое прочтение крыловских текстов.
Так, в «Трумфе» установка на игровое начало декларирована уже в жанровом определении, которое драматург дает пьесе – «шуто-трагедия», эксплицируя оригинальную авторскую стратегию, состоящую в травестировании классицистической трагедии. Травестия – это всегда игра с другим текстом, зачастую с целью его снижения, дискредитации. При этом достаточно серьезное содержание воплощается в не соответствующих ему образах и при помощи средств иного стилистического ряда.
Крылов активно пользуется специфическими формами театральной условности, нимало не заботясь о жизненной достоверности и убедительности. Обнаженная условность ощущается уже в способе именования персонажей: царь Вакула, царевна Подщипа, Чернавка, Дурдуран свойственны скорее устной народной традиции, чем литературной комедии, призванной, как считалось в конце XVIII – начале XIX века, быть зеркалом современной авторам действительности. Вместо характеров создаются яркие речевые маски. Комедия граничит с фарсом, активно использует его приемы.
Игра в «шутотрагедии» проявляется в «жонглировании» контрастными по смыслу, но соположенными репликами героев: фразы патетикотрагедийного звучания резко сменяются намеренно сниженными, подчеркнуто бытовыми, и это соседство диаметрально противоположных стилистических слоев создает яркий комический эффект. Например, Чернавка, озабоченная тем, что княжна кручинится и губит молодость, в качестве средства избавления от душевных мук предлагает ей съесть куриную ножку [5, с. 185]; рассуждения Подщипы о бедном князе, «с его жестокой страстью», завершаются воспоминанием о совместной краже огурцов с огорода [5, с. 186]; комичный алогизм структурирует реплику Дурдурана: «Я знаю всей ее великой жертвы цену… / Понюхать бы дала царевне ты хоть хрену!» [5, с. 188]. Иногда эта стилистическая игра осуществляется в пределах одной строки: «О царский сан! ты мне противней горькой редьки» [5, с. 189]. Ироническая деконструкция жанра классицистической трагедии достигается путем создания дискурсивной многоплановости текста: традиционные трагедийные словесные формулы соседствуют не только с просторечием, порой балансирующем на грани пристойности, но и с выспренно-сентиментальной речью Подщипы, и с картикатурными образчиками дефектной речи Трумфа и Слюняя. В «шутотрагедии» находится место даже для торжественного языка Священного Писания: цитатой из него Чернавка сообщает Подщипе о появлении Трумфа («Се твой жених грядет» [5, с. 189]). Крылов использует оригинальную технику создания текста по принципу стилистического коллажа, сводящего воедино разнородные стилистические пласты, имеющие прикрепленность как к литературе, так и к фольклору, как к письменной речи, так и к устной. «Шуто-трагедия» представляется примером новаторской художественной практики в области формы: так в пьесе проявилась характерная для переходных эпох активизация поисков новых средств выражения авторских идей.
Травестия дает возможность увидеть объект травестирования в новом свете. Значительную роль при этом играет прием, названный В. Б. Шкловским «остранением»: привычное, автоматическое восприятие какоголибо явления, события, предмета замещается новым, неожиданным, «странным», «видением», а не «узнаванием». Изображаемое не называется своим именем, а описывается как увиденное впервые. Остранение предполагает усложнение восприятия, включение в рецепцию произведения читателем новых аспектов [13, с. 7-20].
В «Трумфе» Крылов, создавая «остраненную» трагедию, с одной стороны, скрупулезно следует законам жанра, с другой же – взрывает их. Автором сохраняются традиционные амплуа трагедии: здесь есть и царь, и героиня (как и положено, страдающая), и герой – ее возлюбленный, и его антагонист, и мудрый придворный, и наперсница героини. Типичны и центральные коллизии – борьба против тирана, выбор между чувством и долгом. Однако ведущие образы и мотивы трагедии классицизма получают иронически-игровое переосмысление. Так, Подщипа, сохраняя верность Слюняю, жертвует не собой, как требует трагедийный канон, а князем. «Орудием» судьбы, вершащей правосудие и восстанавливающей справедливость, оказывается плутоватая цыганка. Трагический катарсис («очищение») в финале пародийно буквализуется. В Вакуле и Слюняе акцентировано «детское» начало и, следователь, их неспособность отвечать за судьбу государства: царь не умеет читать, с упоением играет кубарем и больше всего досадует, что слуга сломал любимую игрушку; имя Слюняя, его речь человека, плохо артикулирующего звуки, любовь к леденцам и голубятне, ношение деревянной шпаги вместо настоящего оружия, полная зависимость от матушки, финальный «конфуз» характеризуют его как «неразумного дитятю», носителя детского сознания. Стоит согласиться с О. Гончаровой, усматривающей в данной авторской стратегии апеллирование Крылова к такой форме народной смеховой культуры, как обрядовые игрища, ряжение [1, с. 70].
Комизм обнаруживается в разительном несоответствии формы и содержания: формально нигде не нарушается александрийский стих, маркирующий речь героев классицистической трагедии, но выражаемое им содержание замкнуто в сфере физиологии, «телесности», весьма далекой от трагедийных жанровых конвенций. Прием остранения основан и на том, что речь героев, призванная обеспечивать акт коммуникации на сцене, эту функцию не выполняет: понимание главными героями друг друга предельно затруднено из-за невозможности верной артикуляции (Слюняй шепелявит и сюсюкает, Трумф говорит с чудовищным «немецким» акцентом). Ясность классицистической речи, характерная для «высокого» жанра трагедии, намеренно уничтожается Крыловым, и это служит разрушению трагедийного «кода», его пародийной перелицовке. Функцию игры в этом случае можно определить как форму диалога с трагедийной традицией, полемики с нею.
Исследователи творчества Крылова, характеризуя «Трумф», как правило, подробно анализируют комическую составляющую пьесы. Между тем следует обратить внимание на авторское определение жанра – «шутотрагедия», – которое эксплицирует амбивалентность замысла драматурга. Как представляется, понимать это определение следует не только в смысле пародийной обращенности пьесы к жанру трагедии, но и как манифестацию отражения в травестированной («шутовской») форме трагических сторон первичной реальности, российской действительности конца XVIII столетия. Так достигается особая двуплановость, позволяющая выявить двойную сатирическую адресацию комедии, что и лежит в основе «остранения» сюжета пьесы. Нигде не отступая от веселого тона комедии, Крылов переносит свою авторскую оценку в подтекстовую зону. Взаимодействие различных игровых уровней порождает особое игровое поле пьесы, в которое вовлекается и читатель/зритель.
Приемы, найденные Крыловым в «Подщипе», были применены в комедии «Пирог». Установка на обнаженную условность в ней также задается именами героев: Ужима, Прелеста, Милон.
В «Пироге» в развитии действия определяющую роль играют слуги, насмехающиеся над своими незадачливыми господами, дурачащие их. Здесь обнаруживаются следы связи с традициями итальянской комедии, опосредуемыми опытом русского демократического театра XVIII века. Создаваемая Крыловым атмосфера веселого балагурства, лукавства, наличие ярко заявленной комической гиперболы, установка на принципиально игровую природу комедии маркировали связь пьес драматурга с традициями низового театра, ярмарочного представления, балагана. В частности, сюжет об одурачении глупого барина сметливыми мужиками был чрезвычайно распространен именно в народном театре [7]. С игровым началом связан и образ Ужимы: ее действия ориентированы на исполнение литературной роли, на специфическую модель поведения, закрепленную в сентиментальной литературе. Ироническое отношение Крылова вызывает не собственно «чувствительность» героини, а ее лицемерие, ханжество, обманные «эмоции», игра в чувства. Именно в подмене истинного чувства показным он усматривает вред литературы сентиментального толка. На этом фоне обман Даши и Ваньки выглядит невинной забавой.
Финал «Пирога» еще раз напоминает о включенности перипетий пьесы в игровой регистр, актуализируя известную метафору «мир – театр». Приказчик села, в церкви которого обвенчались Прелеста и Милон, приглашает отпраздновать свадьбу вместе с именинами его барыни, правда, без запланированного спектакля крепостного театра: лакей не выучил роль, чтобы «комедь сломать». «Ну, так мы ее за вас сыграли», – смеется Вспышкин [5, с. 263]. Жизнь воспринимается как театральная игра, а человек – как исполнитель роли. Серьезные же авторские идеи – об ответственности писателей за нравственное здоровье читателей, о зависимости крестьян от произвола господ – формируют подтекст пьесы.
При анализе комедий Крылова особое внимание следует обратить на приемы словесной игры. Еще в ранних пьесах он мастерски использовал игру словами и их значениями. Например, в «Проказниках» яркий комический эффект достигался в результате речевых недоразумений (провинциал Азбукин, далекий, к тому же, от литературных нравов столицы, принимал подслушанное обсуждение поэтами плана трагедии за реальное посягательство на свою жизнь и т. п.). Кроме того, речевая игра обеспечивала характеристики нравственного облика Рифмокрада, Тараторы и Ланцетина, подчеркивая несоответствие произносимого и обозначаемого, привнося языковую двусмысленность (порой весьма откровенного толка), насыщая эпизоды с участием названных персонажей, развращенных и безнравственных дворян, саркастическим подтекстом и эксплицируя таким образом авторскую позицию. В комедиях 1800-х годов этот прием (языковая игра на грани приличий, использование эвфемизмов, маскирующих реалии телесного «низа» и эротический дискурс) получит дальнейшее развитие. На его присутствие в «Подщипе» справедливо указывает О. Гончарова [1, с. 7273], объясняя обращение автора к нему подчеркнутой ориентацией на поэтику народных игрищ, ряженого действа, в «анти-поведении» которых «высоким сакральным ценностям противополагались самые низменные и непристойные» [1, с. 71]. В «Пироге» сцена поедания парой слуг пирога построена как ситуация любовного ухаживания, не лишенная имплицитных эротических коннотаций. Кроме того, нанизывание уменьшительноласкательных суффиксов в речи персонажей, настойчивое угощение Ванькой Даши («Скушай же эту ножку», «Съешь вот эту ножку»), комплименты и нежные обращения («душенька», «мне в тысячу раз приятнее, когда ты говоришь. У тебя такой хорошенький голосок» [5, с. 226, 227]) подытоживает заключение «Даша, ты меня, как Ева Адама, соблазнила», повторенное Ванькой и в финальной сцене пьесы [5, т. 2, с. 228, 260]). Семантика еды соотнесена с любовным и эротическим дискурсом, что активизирует семантический план русского фольклора, а также заставляет вспомнить площадные представления, раек, балаганное действо [подробнее об этом см.: 11, с. 74-75; 7]. Игровая составляющая, таким образом, способствовала синтезу в пьесах Крылова традиционных констант европейской комедии со свойствами народной драмы.
Игровое начало проявляется и в «Модной лавке», хотя и не столь демонстративно, как в предыдущих комедиях. Поведение большинства героев связано с игрой. Лестов разыгрывает перед Машей искреннее раскаяние и отказ от светских шалостей («Ба! что это значит? Какой же протяжный вздох! Какой томный и печальный взгляд! Уж не урок ли вы передо мною вздумали протвердить?» [5, с. 267]). Маша инициирует игру, стремясь сбить спесь со степной щеголихи Сумбуровой: сцена в лавке – ее виртуозная импровизация, результат которой – готовность капризной посетительницы просить девушку об одолжении одеть ее, «как ваших графинь, княгинь и фрейлин» [5, с. 274]. Подобный спектакль устраивается Машей и тогда, когда Сумбурова застает мужа в лавке, причем адресация ее игры – двойная: якобы помогая почтенному отцу семейства выпутаться из щекотливой ситуации, девушка умудряется продать ему уйму товаров. Сама действительность воспринимается Машей как сфера игры, несерьезных событий и поступков: не случайно рассказ Лестова о его любви девушка сопровождает насмешливыми замечаниями («переведите немножко дух и начните в порядке второй том вашего романа: гонение, разлука, тысячу препятств» [5, с. 268]), а в ответ на нерешительность Лизы восклицает: «Куда какая беда, сударыня! любовное похищение; сколько комедий, сколько романов этим кончаются» [5, с. 307]. Фразы из письма Лестова («Хочу ехать драться с соперником! <…> потом приеду драться с Сумбуровым…<…> потом сам застрелюсь…» [5, с. 287]), к тому же перебиваемые остроумными комментариями Маши, носят игровой характер, не воспринимаются всерьез, по сути, это пародия на финалы классицистических трагедий. Вспомним осмеяние Крыловым трагической развязки пьесы «Марфа-Посадница, или Покорение Новаграда» П. Сумарокова: «чрезвычайная потеря действующих лиц» неестественна и потому для Крылова комична (главная героиня закалывается, четверо персонажей убиты, один тяжело ранен) [4, с. 437]. Эта «чрезмерность» в реплике Лестова и выдает ироничную авторскую игру.
Развертывание действия в комедии «Урок дочкам» также определяется игровыми импульсами. Играют здесь почти все: Семён, изображающий француза, Даша, подыгрывающая «маркизу», героини-провинциалки, стремящиеся моделировать свое поведение по светским образцам и поклоняющиеся всему французскому. Игровые потенции заложены в их именах – Фекла и Лукерья, – нарочито простонародных, особенно на фоне условной фамилии Велькаровы. Влияние эстетики народного театра ощутимо и в этой пьесе – в сценах шутливой перебранки влюбленных слуг, их игры «с комической важностью» [5, с. 376-377] в господ, в фарсовых эпизодах (например, барышни, стремясь заставить Семена говорить по-французски, гоняются за ним, удерживают в кресле, он пытается освободиться, «барахтаясь», как гласит ремарка [5, с. 380], и т. п.). Словесная игра призвана обнажить нелепость притязаний провинциалок на статус светских особ, во всем следующих французским требованиям вкуса. «Мы в Москве, когда съезжаемся, то говорим точно, как Жако» [5, с. 353], – восклицает Фекла. Истинный смысл реплики становится понятен, если учесть, что речь идет о попугае, говорящем по-французски лишь фразу «вы дура»: девушки фактически сами признаются, что копируют французов, как попугаи. Игра со смыслами слов приобретает разное выражение. Например, может отсылать к претексту, на который ориентирован «Урок дочкам», – комедии Мольера «Смешные жеманницы». Семен радуется подаренному кафтану: «Что, каково меня одели?», на что Даша иронично замечает: «Прекрасно! только каково-то тебя раздевать будут?» [5, с. 375]. В пьесе французского классика острый комизм состоял в том, что обманщика раздевали прямо на сцене, публично, – об этой известной сцене и напоминает читателям Крылов, но избегает излишних фарсовых красок в своей комедии. Из зоны игры в пьесе выпадают только старик Велькаров, серьезно озабоченный воспитанием дочерей, да нянька Василиса: ее слезы о внуке, отданном в рекруты, привносят в веселую комедию драматизм подлинной жизни.
Таким образом, игра становится важнейшим принципом драматургической техники Крылова-комедиографа, тем элементом, на котором зиждется вся поэтика его пьес, исключительно важным смыслообразующим фактором. Игровая организация событийного и речевого рядов в его комедиях обнажает особые параметры, значимые для представления об индивидуально-стилевой специфике комедий писателя. Диапазон использования игровых стратегий у Крылова достаточно широк. Речь идет не только о внешней театрализации действия и смене масок (хотя игровое начало состоит и в этом тоже), но и о динамике смыслов в пределах одной сцены или эпизода.
Игра в комедиях Крылова полифункциональна: она служит и средством характеристики персонажей, и способом организации действия, и формой осуществления диалога с традицией. Игровая составляющая помогает Крылову создать весьма оригинальные интерпретации традиционных тем и конфликтов. Игра не является для Крылова самоцелью, а служит для реализации определённых задач, которые заключаются в осмыслении проблем современной писателю реальности, в художественном воссоздании мира и выражении авторского отношения к нему. Игровое начало формирует подтекст в пьесах Крылова, способствует оригинальному выражению авторской оценки изображаемых явлений. Наличие игровой составляющей в структуре пьес Крылова становится тем константным качеством, которое обеспечивает единство художественного мира писателя. Присутствие игры в пьесах Крылова является художественной доминантой, формирующей оригинальность авторского почерка драматурга.
Литература
- Гончарова О. «Подщипа» Крылова: игра в письмо или игра письма? / О. Гончарова // Slavica Tergestina. 10. – Литературоведение XXI века. Письмо – Текст – Культура: Материалы IV международной конференции молодых ученых-филологов. – Trieste, 2002. – P. 61 – 79.
- Киселева Л. Н. Загадки драматургии Крылова / Л. Н. Киселева // Крылов И. А. Полное собрание драматических сочинений / Сост., вступ. ст., комм. Л. Н. Киселевой. – СПб. : Гиперион, 2001. – С. III –XXXV.
- Кривко-Антипян Т. А. Мир игры / Т. А. Кривко-Антипян. – Б. м., 1992. – 214 с.
- Крылов И. А. Марфа-Посадница, или Покорение Новаграда // Крылов И. А. Сочинения: В 2 т. – Т. 2 / И. А. Крылов. – М.: Правда, 1969. – С. 434 – 436.
- Крылов И. А. Сочинения: В 2 т. – Т. 2 / И. А. Крылов. – М.: Худ. лит., 1984. – 735 с.
- Лавровский В. Общий обзор драматической деятельности Крылова / В. Перетц, В. Лавровский // Иван Андреевич Крылов. Его жизнь и сочинения. Сб. ист.-лит. статей / Сост. В. Покровский. – Изд. 3, доп. – М. : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1911. – С. 13 – 21.
- Народный театр / Сост., ред. и коммент. А. Ф. Некрыловой, Н. И. Савушкиной. – М. : Сов. Россия, 1991. – 544 с.
- Перетц В. Н. Крылов как драматург / В. Н. Перетц // Ежегодник имп. Театров, сезон 1893 – 1894. – СПб., 1895. – Приложение 2. – С. 17- 32.
- Федосеева Т. В. Развитие драматургии конца XVIII – начала XIX века (русский предромантизм): учебное пособие / Т. В. Федосеева. – Рязань: Ряз. гос. ун-т, 2006. – 200 с.
- Фомичев С. А. Драматургия И. А. Крылова начала ХIХ века / С.А. Фомичев // Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества / АН СССР; Ин-т русск. лит. – Л.: Наука, 1975. – С. 130 – 153.
- Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра / Фрейденберг О. М. – М.: Лабиринт, 1997. – 448 с.
- Хёйзинга Й. Xomo ludens. В тени завтрашнего дня / Й. Хёйзинга; пер. с нидерл.; ред. и послесл. Г. М. Тавризян. – М.: Прогресс, 1992. – 464 с.
- Шкловский В. Б. Искусство как прием // Шкловский В. Б. О теории прозы / В. Б. Шкловский. – М.: Круг, 1925. – С. 7– 20.