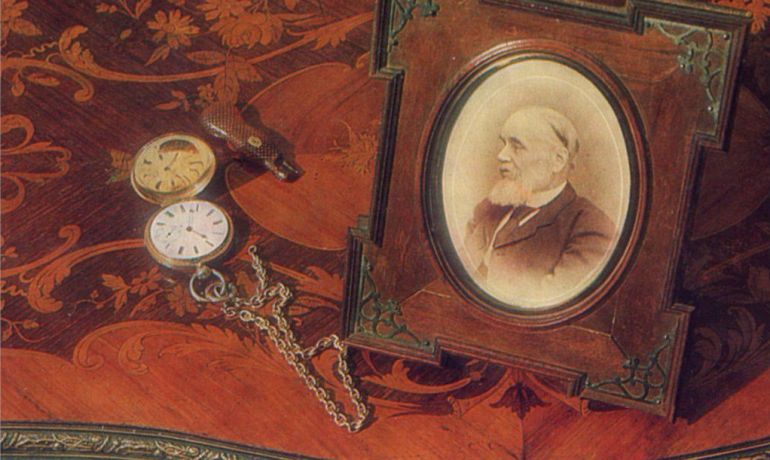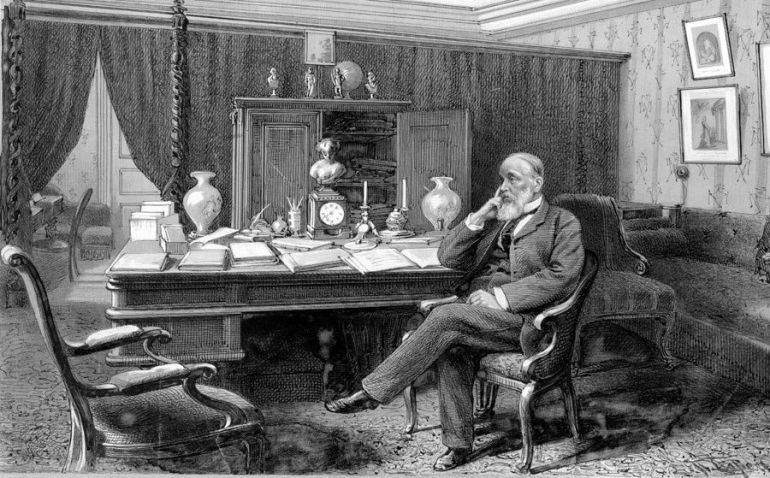Концепт «счастье» в понимании героев романа И. А. Гончарова «Обломов»

Е.И. Пинженина
И.А. Гончаров, романная трилогия, «Обломов», образ Обломова, образ Ольги Ильинской, образ Андрея Штольца, концепт «счастье», концепт «любовь», концепт «страсть».
Романы И.А. Гончарова вслед за самим писателем, обозначившим свою позицию в автокритической статье «Лучше поздно, чем никогда»[1], принято рассматривать как трилогию. Основанием объединения романов становится содержание – последовательное отражение в них трёх эпох русской жизни и эволюция героя от Александра Адуева через Илью Обломова к Борису Райскому, по сути, героя одного типа. На наш взгляд, преемственность от романа к роману прочитывается ещё в одном содержательном аспекте.
Считается, что проблеме соотношения понятий страсти, любви и счастья в жизни человека Гончаров посвятил последний роман «Обрыв» [Краснощёкова 1997 : 415 и далее]. Действительно, в завершённом виде концепция счастья-страсти представлена в теории Бориса Райского. Но думается, что представления Гончарова о счастье-страсти начали формироваться еще в романе «Обломов». Однако в исследованиях, посвящённых этому роману [Недзвецкий 1992; Одиноков 1975; Постнов 1997], о страсти не говорится вообще, что на первый взгляд кажется закономерным. В «Обломове» и героя нет, которому были бы свойственны проявления страсти, – это вовсе не соответствует темпераменту ленивого Обломова, расчетливого Штольца и рассудительной Ольги.
Но мы считаем, что ослепление, «гроза», по выражению Райского, необходимы были еще героям «Обломова», и именно эти моменты переживались ими как наиболее счастливые. В данной работе мы обозначим ряд эпизодов романа «Обломов», закладывающих фундамент гончаровской концепции страсти, тем самым, во-первых, предлагая принципиально новый взгляд на героев «Обломова», во-вторых, расширяя представление о преемственности произведений Гончарова внутри трилогии.
Одно из программных высказываний Бориса Райского, определяющих его представления о страсти, звучит так: «Природа вложила только страсть в живые организмы, другого она ничего не дает. Любовь – одна, нет двух любвей! <…> на остывший след этой огненной полосы, этой молнии жизни, ложится потом покой, улыбка отдыха от сладкой бури, благодарное воспоминание к прошлому, тишина! И эту-то тишину, этот след люди и назвали – святой, возвышенной любовью, когда страсть сгорела и потухла…» (6: 66). Покойное счастье Райский признает только отзвуком промчавшейся ранее над человеком грозы страсти. Не в тишине и покое, но в преодолении границ обычного, обыденного, «среднего» существования, в поиске «другой» жизни видит Райский смысл и полноту человеческого бытия. Счастье в понимании героев «Обломова» имеет те же содержательные характеристики.
В финале романа Илья Ильич так оценивает своё существование: «Вглядываясь, вдумываясь в свой быт и всё более и более обживаясь в нем, он наконец решил, что ему некуда больше идти, нечего искать, что идеал его жизни осуществился, хотя без поэзии…» (4: 479). С одной стороны, существенно здесь признание героем полного счастья. С другой – явно прочитывается «неполноценность полноты» этого счастья. Идеал Обломова действительно ожил, но его реализация не потребовала преодоления, работы, движения – отсюда отсутствие поэзии и «живой жизни» в доме Пшеницыной. Это подтверждается и признаваемой Обломовым завистью к семье Штольца и Ольги: «Боюсь зависти: ваше счастье будет для меня зеркалом, где я всё буду видеть свою горькую и убитую жизнь; а ведь уж я жить иначе не стану, не могу» (4: 440). Поэтому в финале романа счастье Обломова всё-таки ограниченно-условное. Это заметно и в сравнении с тем, какие ощущения рождались в то же время в душе Агафьи Пшеницыной: «…лицо ее постоянно высказывало одно и то же – счастье полное, удовлетворенное и без желаний, следовательно, редкое и при всякой другой натуре невозможное (4: 478). На последнем пассаже необходимо остановиться. Почему Гончаров считает, что при всякой другой натуре такое счастье будет невозможным или неполноценным? Потому что оно порождает в человеке ощущение скуки и неудовлетворенности. Не только Обломов, но и Штольц, и Ольга, казалось бы, обретая абсолютное счастье, понимая, что «некуда идти», чувствуют его недостаточность.
Вообще, открыто декларирует необходимость сильного чувства в следующем романе опять же Борис Павлович Райский. Он будет ждать от жизни страсти, забытья и ослепления: «Зачем гроза в природе?.. Страсть – гроза жизни… О, если б испытать эту сильную грозу!» (6: 106). Но каждый из героев «Обломова» в своё время также ждет не покоя, а, напротив, выхода за пределы обыденного, привычного и среднего, некого ослепления чувством. Так, обратим внимание на эпизод, когда Илья Ильич делает Ольге предложение: «У него шевельнулась странная мысль. Она смотрела на него с покойной гордостью и твердо ждала; а ему хотелось бы в эту минуту не гордости и твердости, а слез, страсти, охмеляющего счастья, хоть на одну минуту, а потом уже пусть потекла бы жизнь невозмутимого покоя! И вдруг ни порывистых слез от неожиданного счастья, ни стыдливого согласия!» (4: 289–290). Гончаров объясняет желание Обломова потребностью самолюбия: «Обломов увлекался потребностью самолюбия допроситься жертв у сердца Ольги и упиться этим» (4: 290). Герой идет дальше и рисует Ольге следующую картину: «Но есть другой путь к счастью <…> Иногда любовь не ждет, не терпит, не рассчитывает… Женщина вся в огне, в трепете, испытывает разом муку и такие радости, каких… Путь, где женщина жертвует всем: спокойствием, молвой, уважением и находит награду в любви… она заменяет ей всё» (4: 290). Заметим, как пафос высказывания Обломова здесь схож с «проповедями» страсти, которыми Райский пытался «разбудить» Софью, Марфеньку, Веру. Обломов знает, что этот путь несет одновременно с упоением, ослеплением любовью и катастрофу, разрушение:
«– Отчего же бы ты не пошла по этому пути, – спросил он настойчиво, почти с досадой, – если тебе не страшно?..
– Оттого что на нем… впоследствии всегда… расстаются, – сказала она, – а я… расстаться с тобой!..» (4: 291).
Хотя отчасти, но минуты ослепления чувством Обломов всё-таки дожидается: «Она остановилась, положила ему руку на плечо, долго глядела на него и вдруг, отбросив зонтик в сторону, быстро и жарко обвила его шею руками, поцеловала, потом вся вспыхнула, прижала лицо к его груди…» (4: 291). Мы приходим к выводу: чтобы поверить в искренность любви Ольги, Обломову нужно почувствовать не столько убежденность героини, сколько силу её страсти и ослепления.
Того же ослепления чувством впоследствии ждёт от Ольги Штольц. Как герой положительный он декларирует уравновешенность, расчетливость во всем, в том числе и в чувстве. Он не только не призывает «грозу», но, напротив, старается её избежать. Гончаров даёт ему такую характеристику: «Так же тонко и осторожно, как за воображением, следил он за сердцем <…> и рад-радехонек был, если не обливалось оно кровью, если не выступал холодный пот на лбу и потом не ложилась надолго длинная тень на его жизнь» (4: 166). Но при том что Штольц стремится соблюдать меру и в любовном чувстве, от Ольги, чтобы поверить её любви, ему нужны признаки того самого ослепления, которого добивался от нее Обломов, которое в общем-то противоречит всей теории Штольца: «Но был ли это авторитет любви – вот вопрос? Входило ли в этот авторитет сколько-нибудь ее обаятельного обмана, того лестного ослепления, в котором женщина готова жестоко ошибиться и быть счастлива ошибкой?..» (4: 408). И далее: «А в любви заслуга приобретается так слепо, безотчетно, и в этой-то слепоте и безотчетности и лежит счастье» (4: 409). Слёзы, хмель и упоение у Обломова и слепота и безотчетность у Штольца – явно категории одного порядка, причем они выходят за пределы привычной логики характера обоих героев.
И Штольц дожидается столь нужного ему ослепления, хотя это и единственный во всем романе эпизод, относящийся к Штольцу и Ольге: «Он не договорил, а она, как безумная, бросилась к нему в объятия и, как вакханка, в страстном забытьи замерла на мгновение, обвив ему шею руками <…> Никогда, казалось ей, не любила она его так страстно, как в эту минуту?» (4: 468).
И, наконец, неслучайность приведенных выше эпизодов подтверждается еще одной сценой – описанием вечера, когда Ольгой овладевает, по словам Гончарова, «лунатизм любви»:
«Она сжимала ему руку и по временам близко взглядывала в глаза и долго молчала. Потом начала плакать, сначала тихонько, потом навзрыд. Он растерялся <…> Он слушал в темноте, как тяжело дышит она, чувствовал, как каплют ему на руку ее горячие слезы, как судорожно пожимает она ему руку <…> Он в дверях обернулся: она всё глядит ему вслед, на лице всё то же изнеможение, та же жаркая улыбка, как будто она не может сладить с нею… <…> Ей было и стыдно чего-то, и досадно на кого-то, не то на себя, не то на Обломова. А в иную минуту казалось ей, что Обломов стал ей милее, ближе, что она чувствует к нему влечение до слез, как будто она вступила с ним со вчерашнего вечера в какое-то таинственное родство…» (4: 274–275).
Особость, несвойственность этого эпизода для поведения Ольги очевидна. Напомним, что это единственная сцена между ней и Обломовым, о которой она умалчивает на своей «исповеди» Штольцу. Эпизод «выламывается» из всей поэмы любви героев, вероятно, являясь прежде всего для самого Гончарова неким открытием, странностью, которую он будет исследовать уже в «Обрыве».
Таким образом, одной из ключевых составляющих концепта «счастье» в романе «Обломов» является ослепление страстью, а полное счастье как конечная величина оказывается скучным, нежизненным и утомительным. Разумеется, этим не ограничивается представление героев Гончарова о счастье.
Счастье и любовь уже в романе «Обломов» связываются у Гончарова с понятием бессознательности, безграничности ощущений, с кратковременным выходом за пределы разумного, привычного. Действительно, вся история любви Обломова и Ольги Ильинской становится для него выходом за границы привычного существования – Обломов как будто прощается с ленью, апатией, неподвижностью и, наконец, символически с любимым халатом. Более того, преодоление границ для Обломова оказывается необходимым, главным условием совместного счастья с Ольгой, а невозможность решительно осуществить выход за пределы собственной личности – причиной их разрыва.
Отметим, что в описании истории любви Обломова и Ольги впервые появляется образ бездны – того, что нужно постоянно преодолевать, выходя за рамки привычного существования: «То, что дома казалось ему так просто, естественно, необходимо, так улыбалось ему, что было его счастьем, вдруг стало какой-то бездной. У него захватывало дух перешагнуть через нее. Шаг предстоял решительный, смелый» (4: 287). Таким образом, любовь к Ольге в представлении Обломова не идиллическое и одновременно среднее, обыденное существование, а счастье, граничащее с бездной, с неудачей, следовательно, счастье «на грани», когда каждый день требует от него напряжения, преодоления среднего «градуса» жизни, покорения, движения, борьбы – иначе возникают упреки, ссора, угроза расставания.
Образ бездны связан и с другими составляющими концепта «счастье». Во-первых, к любви Обломова и Ольги с самого начала примешивается боязнь ошибки. Это справедливо как в отношении Обломова: «Ольга! Пусть будет всё по-вчерашнему <…> я не буду бояться ошибок» ((4: 264). Курсив Гончарова. – Е. П.), – так и Ольги: «…упреки, к которым изредка примешивалась горечь раскаяния, боязнь ошибки» (4: 244).
Во-вторых, у героев присутствует ощущение угрозы их счастью – это выражается, например, в страхе «будущих слёз». Ольга кажется увереннее и поддерживает убежденность Обломова: «У меня счастье пересиливает боязнь. <…> Если ошибусь, если правда, что я буду плакать над своей ошибкой <…> Но я не боюсь за будущие слезы; я буду плакать не напрасно: я купила ими что-нибудь…» (4: 262).
В-третьих, неслучайна в этом ряду суеверная Ольгина просьба не тревожить счастья: «Верьте же мне <…> как я вам верю, и не сомневайтесь, не тревожьте пустыми сомнениями этого счастья, а то оно улетит (4: 248). И сама же Ольга подводит итог этим сопутствующим любви мыслям: «Вы боитесь <…> упасть “на дно бездны”…» (4: 261).
С пониманием счастья у Обломова устойчиво связан образ бездны, которую необходимо перешагнуть, т. е. преодолеть некий средний уровень жизни сердца: «Он смутно понимал, что она (Ольга. – Е. П.) выросла и чуть ли не выше его, что отныне нет возврата к детской доверчивости, что перед ними Рубикон и утраченное счастье уже на другом берегу: надо перешагнуть» (4: 235). В этом смысл неудачи героя: чтобы не окончилась любовь к Ольге, необходимо было преодолеть бездну – характера, привычки, личности – себя, это значило бы для него саморазрушение, изменение, на которое он не мог пойти.
Выход за грань привычного был необходим не только Обломову. Это как раз то, чего не хватает Ольге в семейной жизни со Штольцем. В её мыслях о счастье присутствует ощущение угрозы: «За что мне это выпало на долю?» – смиренно думала она. Она задумывалась, иногда даже боялась, не оборвалось бы это счастье (4: 458). Героиня боится лишиться счастья: «Странен человек! Чем счастье ее было полнее, тем она становилась задумчивее и даже… боязливее. Она стала строго замечать за собой и уловила, что ее смущала эта тишина жизни, ее остановка на минутах счастья» (4: 461). Причем это боязнь, граничащая со скукой. Теперь в связи с Ольгой появляется обломовское «некуда больше идти»: «Что ж это? <…> Ужели еще нужно и можно желать чего-нибудь? Куда же идти? Некуда! Дальше нет дороги… Ужели нет, ужели ты совершила круг жизни? Ужели тут всё… всё…» (4: 462).
Ольга поверяет свои сомнения, порывы Штольцу: «…всё тянет меня куда-то еще» (4: 465), – это, по сути, та же «неполноценность полноты», какая ощущается Обломовым в жизни с Пшеницыной. Боязнь переходит у неё и Штольца в предчувствие, прозрение будущих несчастий. Сначала об этом говорит Штольц: «В словах его звучала грусть, как будто он уже видел вдали и “горе, и труд”» (4: 468). Затем та же мысль поддерживается Ольгой.
Анализируемый эпизод, вообще, кажется мало мотивированным с точки зрения логики романа. Возможно, поэтому он никогда и не интерпретируется исследователями, а как будто упускается. Это некий сон Ольги, возникающий в финале романа:
«Ей стал сниться другой сон <…> там видела она цепь утрат, лишений, омываемых слезами, неизбежных жертв, жизнь поста и невольного отречения от рождающихся в праздности прихотей, вопли и стоны от новых, теперь неведомых им чувств; снились ей болезни, расстройство дел, потеря мужа… Она содрогалась, изнемогала, но с мужественным любопытством глядела на этот новый образ жизни, озирала его с ужасом и измеряла свои силы… Одна только любовь не изменяла ей и в этом сне, она стояла верным стражем и новой жизни; но и она была не та!» (4: 469).
Странный и неожиданный эпизод для гончаровского художественного мира вообще и для романа «Обломов» в частности. Страхи героини переходят в предчувствия бед и несчастий, открывающейся бездны, предвидение катастрофы. Думается, в этом выразились мысли Гончарова о конечности счастья, невозможности вечного сонного покоя. По сути, «полное» счастье Пшеницыной также окончилось со смертью Ильи Ильича, оно окончательно отрицается Гончаровым.
Отметим еще один существенный момент: в ощущениях и словах Штольца и Обломова наблюдаются сходные черты, что странно в отношении героев-антиподов, которыми они являются. Как правило, исследователи вообще не отмечают каких-либо схождений в их характерах. А они есть.
Во-первых, напомним размышления Штольца после того, как его предложение было принято Ольгой: «Ольга – моя жена! – страстно вздрогнув, прошептал он. – Всё найдено, нечего искать, некуда идти больше!» (4: 428). То же, теми же словами «нечего искать» говорил Обломов о своей жизни с Пшеницыной (процитировано выше). Хотя здесь есть отличие: обломовское «нечего искать» – это скорее добровольное сложение с себя желания движения; у Штольца – это исчерпанность движения изнутри личности.
Второе: Обломов оказался неспособен перешагнуть бездну, чтобы встать, быть рядом с Ольгой. Прочитаем о характере Штольца: «…сам он шел к своей цели, отважно шагая через все преграды, и разве только тогда отказывался от задачи, когда на пути его возникала стена или отверзалась непроходимая бездна. Но он неспособен был вооружиться той отвагой, которая, закрыв глаза, скакнет через бездну или бросится на стену на авось. Он измерит бездну или стену, и если нет верного средства одолеть, он отойдет, что бы там про него ни говорили» (4: 167–168). Получается, что возникни перед Штольцем необходимость преодолеть бездну – необходимость, равная по степени затрагивания личности той, что предстояла Обломову, – Гончаров не даёт ответа, справился бы он. Возможно, что и нет. Его завоевание Ольги было расчетливым, хотя и безусловно искренним. Напомним хотя бы его размышление: «Остаться! <…> ходить по лезвию ножа – хороша дружба!» (4: 419). «Ходить по лезвию ножа» для Штольца – это угроза сорваться в бездну. Он и предложение делает Ольге, чтобы избавиться от мучительного вопроса – любит или нет: «Я знаю, что вам со мной не скучно, но мне-то с вами каково?» (4: 419).
Таким образом, нам кажется, что в романе есть эпизоды, выявляющие существенные сходства в характере Обломова и Штольца, которых привыкли воспринимать как во всём противоположных персонажей. И это свидетельство реализации единого размышления Гончарова о счастье. Уже из анализа некоторых эпизодов романа «Обломов» становится ясно, что конечное счастье, по Гончарову, невозможно для человека. Если оно возникает, то влечет за собой скуку, мыслится неполным, неполноценным. Для наполнения счастья необходимы хотя бы кратковременные ослепление, обман, упоение – смотря по ситуации и характеру, т. е. в общем виде – преодоление обычного, среднего уровня эмоционального напряжения, чувствования. Ищущие герои Гончарова даже в счастье предчувствуют возможные беды, препятствия, стремятся к дальнейшему движению. В «Обломове» размышления Гончарова о счастье отразились всё-таки эпизодически, гораздо позже, в романе «Обрыв» и автокритических статьях о нём, они оформятся в концепцию. Нам важно было проследить истоки этих размышлений. Кроме того, существенен и вывод о том, что сами отношения Ольга – Обломов и Ольга – Штольц в некоторых моментах обнаруживают непосредственные сходства.
Наконец, отметим, что работа над двумя романами велась фактически параллельно: задуманы оба ещё в конце 40-х гг. – даже будучи всецело поглощённым дописыванием «Обломова», Гончаров не забывает свой роман о Художнике, о чем пишет друзьям из Мариенбада[2]. Неудивительно, что мировоззренчески «Обломов» и «Обрыв» оказались близки.
Библиографический список
- Гончаров, И.А. Собр. соч. В 8 т. / И.А. Гончаров. – М.: Худ. лит., 1972–1980.
- Краснощекова, Е.А. Иван Александрович Гончаров: Мир творчества / Е.А. Краснощекова. – СПб.: Пушкинский фонд, 1997. – 442 с.
- Недзвецкий, В.А. И.А. Гончаров – романист и художник / В.А. Недзвецкий. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 176 с.
- Одиноков, В.Г. Психологическое и социологическое в романе И.А. Гончарова «Обломов» / В.Г. Одиноков // Одиноков В.Г. Типология русского романа: Гоголь, Гончаров, Чернышевский, Достоевский: курс лекций для студентов-филологов. – Новосибирск: НГУ, 1975. – С. 64–80.
- Постнов, О.Г. Эстетика И.А. Гончарова / О.Г. Постнов. – Новосибирск: Наука. Сибирское издательско-полиграфическое и книготорговое предприятие РАН, 1997. – 240 с.
- Старосельская, Н.Д. Роман И.А. Гончарова «Обрыв» / Н.Д. Старосельская. – М.: Худ. лит., 1990. – 224 с.
- Холкин, В.И. Русский человек Обломов / В.И. Холкин // Рус. лит. – 2000. – № 2. – С. 26–63.
- Чемена, О.М. Создание двух романов. Гончаров и шестидесятница Е.П. Майкова / О.М. Чемена. – М.: Наука, 1966. – 159 с.
[1] «Я <…> вижу не три романа, а один. Все они связаны одною общею нитью, одною последовательною идеею – перехода от одной эпохи русской жизни, которую я переживал, к другой…» (8: 107; курсив Гончарова. – Е.П.). Здесь и далее произведения Гончарова цитируются по изданию: Гончаров, И.А. Собр. соч. В 8 т. / И.А. Гончаров. – М.: Худ. лит., 1972–1980, с указанием в скобках номера тома и страницы. Кроме особо оговорённых случаев, везде курсив наш. – Е.П.
[2] В письме к И. И. Льховскому от 2/14 августа 1857 г.: «Меня тут радует на столько надежда на новый успех (после публикации «Обломова». – Е.П.), сколько мысль, что я сбуду с души бремя <…> Тогда года через два <…> можно приехать вторично сюда, с художником (Гончаров имеет в виду программу романа «Обрыв». – Е. П.) под мышкой…» (8 : 246)