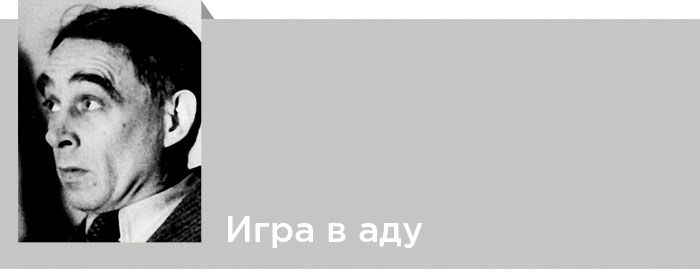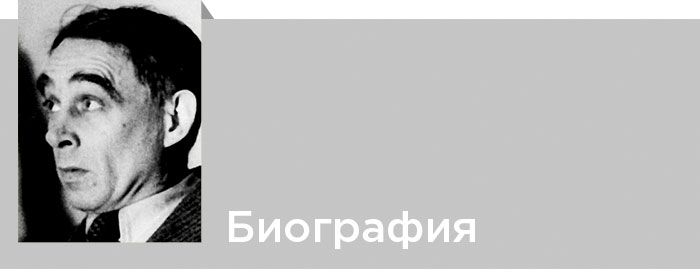Маленькая лениниана Алексея Крученых (в контексте ранней советской мифологии)

М.Ю. Маркасов
Новосибирск
В 1924 году Алексей Крученых публикует два стихотворения – отклик на смерть В.И. Ленина – “На смерть вождя” и “Из жизни вождя”. Тексты характерны тем, что в них отсутствуют привычные для “дичайшего” из футуристов заумь и сдвиг. Кроме того, включенность Крученых, поэта, снискавшего себе славу радикала и маргинала, в официальную лениниану также может показаться странной.
Однако вспомним, что начало 20-х годов – это попытка вернувшегося из Тифлиса Крученых работать с московскими авангардистами, в частности с ЛЕФом, и приспособиться к новым художественным и политическим реалиям. Это во многом не увенчалось успехом. В 1923 году Алексей Крученых пишет социально ориентированные “Рур радостный” и “1-ое мая”, однако доля ангажированных текстов в объеме всего написанного поэтом крайне невелика, кроме того, как утверждает С.Красицкий, “социально-политические темы (антирелигиозная, антивоенная или, например, тема смерти Ленина) <…> в большинстве случаев <…> лишь внешний повод для решения литературно-языковых задач: возможно, рурские события действительно волновали Крученых, но, думается, более соблазнительным для него при обращении к этой теме <…> была возможность, отталкиваясь от самой фонетической фактуры слова “Рур” …” [1].
Вынужденный отказ поэта от публикации своих текстов и умолчание о нем в советской критике сделало футуриста нелигитимной фигурой на протяжении нескольких десятилетий существования социалистической поэзии: об этом может говорить тот факт, что, насколько нам известно, в последующих изданиях стихотворений поэтов, посвященном памяти Ленина, текстов Крученых не появлялось, несмотря на то, что его “лениниана”, во-первых, и структурно, и системой художественных приемов, и фонетически имитирует стих В.Маяковского, в то время ставшего относительным эталоном “советскости”; во-вторых, автор не использует, как говорилось выше, радикальных авангардистских стратегий, в-третьих, тексты “дичайшего” отвечают многим идеологическим концептам только начинающего формироваться соцреалистического канона.
В системе ленинианы нас будет интересовать лишь отдельный темпоральный аспект, а именно 1924 год, так как стихотворения Крученых встраиваются, безусловно, именно в этот временной промежуток и отвечают художественным требованиям эпохи. Данные два текста можно рассматривать как соцзаказ, как графоманию, которой Крученых был отнюдь не чужд, а можно предположить, что ощущение поэтом трагедии было искренне и нашло отражение в этих текстах. На самом деле, как нам видится, все три версии имеют право на существование.
В ранней лениниане 1924 года превалируют стихотворения откровенно графоманские, но довольно обширный корпус текстов не лишен художественных изысков. Преобладание некачественной литературы обусловлено, конечно, не темой и объектом описания, но идеологической подоплекой компоновки и соцзаданием. Важной составляющей траурной ленинианы стало включение в поток “скорбных элегий” стихотворений непрофессиональных поэтов. И такое включение было сознательной политикой государства. Так, например, наряду с известными поэтами Н.Асеевым, С.Третьяковым, Д.Бедным, В.Каменским, В.Брюсовым, М.Светловым и многими менее популярными поэтами, печатались рабочие, красноармейцы, крестьяне: “Филюков, рабочий Гостреста “Северолес””; “Злотин, красноармеец”; “Ал.Мушникова, работница Почтамта”; “Брюнчугим, безработный” [2]. Привлечение к писательскому труду непрофессионалов было тенденцией 1920-х годов, “формовкой советского писателя” (Добренко).
Также составляющей государственной политики в области литературы [3] было создание “коллективных” авторов. Один из примеров – стихотворение “Склони главу”, подписанное так: “Рабочие фабрики Высоковской мануфактуры Клинского уезда”:
Покойся вечным сном, наш гений,
И знай, что мы в душе храним
Уроки всех твоих учений
И верим в то, что победим [4].
Текст изобилует поэтическими штампами XIX века, ставшими в массовом сознании эталоном правильной поэзии: “склони главу”, “почивший”, “покойся вечным сном”, “в душе храним уроки”, а также отличается простейшей рифмовкой. Поистине шедевром спонтанного примитивизма, на наш взгляд, является стихотворение неизвестного крестьянина:
Спи мой Ленин, спи прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо светит месяц ясный
В мавзолей твою [5].
Е.Добренко отмечает, что “если бы, например, балладу “Кузьма” написала не работница ткацкой фабрики О.Канунова, а Даниил Хармс, мы бы сегодня говорили об абсурдизме и особом поэтическом видении автора” [6].
В этом контексте Алексей Крученых сознательно избегает радикальных приемов поэтики примитива. Наоборот, имитация разговорной речи, многоточия, полифония, монтажное построение событийных сегментов текста, элементы “потока сознания”: Бежать…позвать…- / но куда?/ Кругом пустота …/ Горько у горла…помощь где?../ Замешалася голова…, визуальные метафоры, имитирующие кинематографические кадры: Бежит комсомолец Сергей / слезы – глаза, / руки – дрожь; И вот – / весть облетела / станции, / города, / селения, / скорбь кипятком поползла, / и дальше / и дальше, / крепом шурша... / Застыли веселые рты, / танцы, / театры, / бывшие зрелища…[7], - делают текст семантически сложно организованным. “Опрощение” проявляется, скорее, не в особенностях художественной формы текста, а в системе атрибутики культового образа. Так, простота Ленина подчеркивается информацией о его якобы крестьянском происхождении и внимание читателя акцентируется на элементах одежды: Был у Ленина костюм не новый, / - нет, не совсем так! - / Кепка фабричного, улыбка, / в работе веселой / три года один и тот же пиджак! / Был Ленин крестьянского рода / - нет. И еще не так! (304).
Особое значение в мифологическом портрете Ленина имеют отдельные части тела: многие поэты настойчиво изображают лоб (реже глаза и руки), а также метонимически соотносимые с ним “мозг”, “голову” и “череп”: “За весь мир размышлял этот лоб”, “За мудрую лысину / Гениальной его головы”, “Наш зоркий вождь, наш большелобый гений”, “Белый задумчивый лоб”, “Мильоноглавый Ленин” [8]. В стихотворении Александра Жарова “На смерть Ленина” (последняя цитата) вождь предстает перед нами как некое хтоническое чудовище с бесконечным количеством “нужных” частей тела. М.Вайскопф говорит о поэме В.Маяковского “Владимир Ильич Ленин”: “Сравнительно незадолго до поэмы о Ленине Маяковский в черновиках “V Интернационала” наделил его, как подметил Якобсон, приметами чудовищного Вия: ”Ленин / медленно / поднимает вечища. / Разжимаются губ чугуны“” [9]. Крученых не избегает официальной гиперболической “головографии”: Был у Ленина лоб огромный, / Чтобы думать за весь земной шар, / из разбросков всесветных / проклятий и стонов / новую жизнь построить / резким ударом!.. (304), и Ленин, в согласии с ритуальной символикой, обретает статус божества, демиурга, семиотизирующего мир. Гиперболичность эта идеально воплощается в религиозной поэме Маяковского: “Он / в черепе / сотней губерний ворочал, / людей / носил / до миллиардов полутора” [10]. Ср. также в стихотворении 1920 года “Владимир Ильич!”: “Металось / во все стороны / мира безголовое тело. / Нас / продавали на вырез. / Военный вздымался вой. / Когда / над миром вырос / Ленин / огромной головой” [11].
Во всех контекстах безусловна экспликация символики мыслительного, интеллектуального в противовес физическому, телесному [12], однако лоб и голова имеют и сугубо карнавальную семантику – это “гротескный образ смешанного тела”, хотя смысловые возможности связи изображаемой культовой фигуры со смеховой стихией многими из поэтов не привлекались, более того, вообще не осознавались, так как задача авторов заключалась в создании героико-патетического и трагического образа. Однако именно здесь спонтанно происходят смещения в сторону комического.
Так, например, обратимся к стихотворению С.Третьякова “Мы помним”, в котором использованы футуристические графические приемы (имя и фамилия вождя в черной рамке):
Цехи, конторы, трюмы
Свел один паралич:
| Владимир Ленин умер |
Кончился старый Ильич [13].
Во-первых, обращает на себя внимание глагол “кончился”, в данном контексте звучащий как грубое просторечие в силу сочетания со словом “старый”. Во-вторых, определенный эффект создает и рифма “паралич – Ильич” (хотя слово “паралич” не соотносится в данном стихотворении конкретно с образом Ленина): телесная немощь категорически не входила в мифологическую парадигму Ленина, к тому же и в реальности степень болезни главы государства старались особо не афишировать.
В стихотворении Сергея Минина “Над могилой” читаем: “Замолк и затих он, великий мертвец” [14]. Если принять за константу идеологический миф о божественной сути вождя, то из этого следует, что гениальным Ленин может быть не только во всех областях общественной жизни, но и в сверхъестественных свершениях. И, действительно, посмертное существование, то есть форма ленинского погребения в мировой истории уникальна, потому что “Ленин с самого начала был одновременно и закопан и выставлен. Ленинский мавзолей есть синтез пирамиды с музеем. <… > раньше тело умершего почиталось в его абсолютном инобытии, то тело Ленина почитается <… > именно потому, что ему не соответствует более никакая духовная реальность [15].
Наконец, в потоке ранней ленинианы привлекает внимание несоответствие траурной тематики и выбранного автором стихотворного размера – 4-хстопного хорея, как известно, передающего “мажорный”, “плясовой”, инфантильно-детский ритм:
Мы, казахи и киргизы,
Прежде пасынки земли,
Мы, казахи и киргизы,
Счастье жизни обрели.
Никогда еще, киргизы,
Не сияла так звезда!
Мудрецов таких киргизы
Не знавали никогда! [16].
Напомним, что сам текст называется “Плач [sic!] о Ленине”. Национальная политика – один из краеугольных камней в официальной лениниане. Н.Тумаркин пишет, что “претензии на интернационализм свидетельствовали как о стремлении поощрить “национальную гордость великороссов” за своего вождя, так и о попытках сделать Ленина символом политической легитимности в глазах нерусского населения бывшей империи. Последнее обстоятельство приобрело особое значение для ленинского культа после 1924 г., когда в каждой республике лениниана хлынула широким потоком, вкупе с клятвенными заверениями, что Ленина обожает то или иное национальное меньшинство” [17].
Вообще, опознавательным знаком ранней ленинской мифологии являются слова “траур”, “плач”, “скорбь”, “тоска”, “печаль”, “горе”, “стон”, “страдание”, “рыдание” и т.д.По сути дела, всяотечественная лениниана представляет собой причудливое жанровое смешение оды, панегирика и плача. После 1924 года “траурная” символика практически исчезает, что, безусловно, закономерно, но внутри нее формируется мысль о советском лидере как о новом мессии, потому что “… смерть Ленина в январе 1924 года резко активизировала в официальной литературе и публицистике религиозные импульсы, обретавшие для себя выражение в привычной и понятной всем системе панихидно-одических жанров и новозаветных ассоциаций. Именно <…> в аппаратных кругах вырабатывается столь эффективно использованное потом Сталиным представление о партии как новой Церкви, наделенной, так сказать, соборной ленинодухновенностью. Уже 22 января 1924 года, в обращении ЦК РКП “К партии. Ко всем трудящимся”, учение ап.Павла о Церкви как Теле Христовом <…> было бодро приспособлено к советским условиям: “Ленин живет в душе каждого члена нашей партии. Каждый член нашей партии есть частичка Ленина. Вся наша коммунистическая семья есть коллективное воплощение Ленина” [18]. Религиозная (или псевдорелигиозная) основа ленинского культа, а именно две ее составляющих: констатация бессмертия и присутствия Ленина в каждом из индивидуумов – проявляется в той или иной форме у каждого из поэтов практически без исключения. В некоторых случаях эта основа выражается в прозрачных церковных символах, как, например, у Демьяна Бедного: “святыня”, “алтарь”, “ковчег завета” или в трансформированных идиомах: “…он в каждом из нас”, “…Ленин живет в нас”, “Ильич в тебе” (ср.: “Христос в каждом из нас” и т.д.), “везде живые Ильичи” “Посевом взойдет его слово” (ср. библейские метафоры зерна и сеятеля)[19].
Алексей Крученых сохраняет общий скорбный настрой, избегая откровенно религиозного подтекста [20] и компонуя свой “цикл” по принципу оппозиции “смерть/жизнь”: первое стихотворение называется “На смерть вождя”, второе – “Из жизни вождя”. Первый текст соответственно строится автором на основе “траурной” лексики: “горько”, “слезы”, “скорбь”, “траур”, “печаль”; во втором полностью отсутствует упоминание о смерти большевистского правителя, кроме, разве что, рефрена Был у Ленина… (вариант: Был Ленин…), который скорее служит темпоральным показателем, наоборот, “следы” хореической инерции и повтор ключевой фразы нет, и еще не так придают тексту довольно бодрый и динамичный ритм. Жанр “Из жизни вождя” определен автором как плакат. Плакат предполагает, на наш взгляд, как минимум два признака (если это не короткий текстподпись): наличие относительно статичной визуальности, передаваемой средствами языка, и пропагандистской риторики. Но текст решен Крученых не в визуальном варианте: только элементы внешнего облика Ленина: пиджак, кепка, костюм, голос громовый - могут интерпретироваться в качестве “картинки”. В “На смерть вождя” преобладание звука: ударило, гул, весть облетела, слышали, слышно, шурша, звал, - являющегося в тексте основным маркером скорбной темы, и изображения (бегущий комсомолец и особенно панорама воздвигаемого миллионами / рабоче-крестьянских рук гигантского памятника, развертываемая поэтом в последней строфе) более очевидно. Скорее всего, Крученых, следуя футуристическому художественному “произволу”, сознательно не стремится к точному соответствию своего текста заявленному жанру. Пропагандистско-панегирическая же дискурсия в стихотворении налицо: герой “одического” словословия номинируется как вождь, герой, пахарь, воин, которого не было лучше.
Первый текст состоит из четырех частей, в трех из которых так или иначе представлен факт смерти Ленина или обыгрывается мотив плача, в последней же части трижды повторяется слово “памятник”: поэт располагает количество повторов по принципу градации – памятник достигает в конце стихотворения гиперболических размеров: Руками рабочих / памятник грозный / в честь Ильича / на Красной площади / закрасуется! / А за ним / и в других городах / СССР! / Миллионы / рабоче-крестьянских рук / памятник / Ильичу / день и ночь / куют!.. / Памятник Ленину – вся земля! / И видит вражье, / сквозь страх и визг, / надпись на нем / краснеется: Коммунизм!.. (304). Буквально маниакальное стремление материализовать память о вожде, идея создания грозного идола, реализованная в тексте в примитивистской манере, обусловлены не только предсоцреалистической идиоматикой и эстетикой, выстроенной на философии “общего дела” Николая Федорова, но и авангардистской стратегией материализации принципиально нематериального.
Два стихотворных текста Алексея Крученых, которые позволяют считать поэта-авангардиста одним из официальных панегиристов [21], включившим свое творческое “я” в систему тоталитарных жанров, добавляют к его поэтическому портрету еще один штрих и погружают в контекст традиции и эпохи.
Примечания
- Красицкий С.Р. О Крученых. Вступительная статья // Крученых Алексей. Стихотворения. Поэмы. Романы. Опера. СПб., 2001. С.32.
- Ленин в советской поэзии. Л., 1970.
- “Фабрики по производству поэтической продукции”, идея коллективного творчества – этот проект генетически восходит, безусловно, к авангардистским художественным стратегиям, получая свое развитие в соцреализме.
- Ленин в советской поэзии. Указ. соч. С.169.
- Цит. по: Добренко Е. Формовка советского писателя. СПб.,1999. С.360.
- Там же. С. 356.
- Крученых Алексей. Стихотворения. Поэмы. Романы. Опера. СПб., 2001. С.302 303. Далее тексты Крученых цитируются по этому изданию. Номер страницы указан в круглых скобках после цитаты.
- Ленин в советской поэзии. Указ. соч. С.131; 123; 160; 201; 117.
- Вайскопф М. Птица тройка и колесница души: Работы 1978 – 2003 годов. М., 2003. С.445.
- Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 12 т. М., 1978. Т.3. С. 303-304.
- Маяковский В. Указ.соч. Т.1. С. 193.
- См. также у М.Вайскопфа: “…в старой традиции соматическая аллегорика неизменно подчиняла исполинское отечественное “тело” (город, страну) “голове” - монарху” (Вайскопф М. Указ. соч. С. 423). Наиболее частотно в панегирической поэзии сравнение Ленина с Солнцем (слово нередко написано с большой буквы). В 1920-е годы “солнечный демиург” Ленин становится и электрическим Прометеем: вспомним идиому “лампочка Ильича”.
- Ленин в советской поэзии. С.133.
- Там же. С.147.
- Гройс Б. Утопия и обмен. М., 1993. С.64-65. Интересно заметить, что ритуал традиционного европейского погребения (в земле) подсознательно реализован в некоторых текстах ранней ленинианы. Например (выделено нами – М.М.):
В этот миг на площади московской,
У подножия стены Кремлевской,
Опускают в землю Ильича… Или:
Кто-то скорбно рыдал навзрыд.
Кто-то молча упал на колени:
Был в могиле друзьями зарыт
Владимир Ильич Ленин (Ленин в советской поэзии. С.150 – 151). - С точки зрения современного читателя, в сознании которого Ленин прочно ассоциируется с особой формой посмертного “существования”, данный контекст (в землю, зарыт) может показаться более чем абсурдным.
- Ленин в советской поэзии. Указ. соч. С.203.
- Тумаркин Н. Ленин жив. Культ Ленина в советской России. СПб., 1997. С.95. Знаменательна в этом смысле поздняя лениниана, в некоторых своих образцах порождающая соцартовский гибрид патетики и знаменитых советских анекдотов про чукчу: “Ходит сказка в народе, / будто был у нас Ленин, / Будто чукчи с ним встретились, / словно с родным отцом. / И жива эта сказка / уже не одно поколенье, / И об этом Вуквол / на клыке нам поведал резцом”. (Тынескин В. Ленин на Чукотке // Ленин в поэзии народов Советского Крайнего Севера. Л., 1970. С.67).
- Вайскопф. Указ. соч. С.447.
- Ленин в советской поэзии. Указ. соч. С.177; 168; 190; 192; 124; 187. В радикальности своего неприятия церковной атрибутики и “богохульстве” Крученых порой превосходит Маяковского; разница заключается лишь в объемах написанного на эту тему. См., например, “Мороженицу богов”.