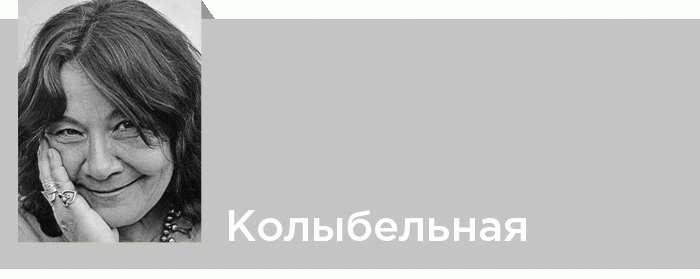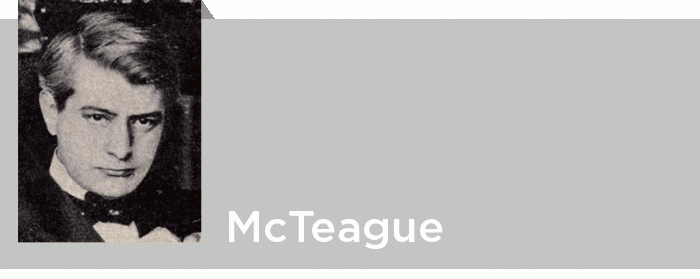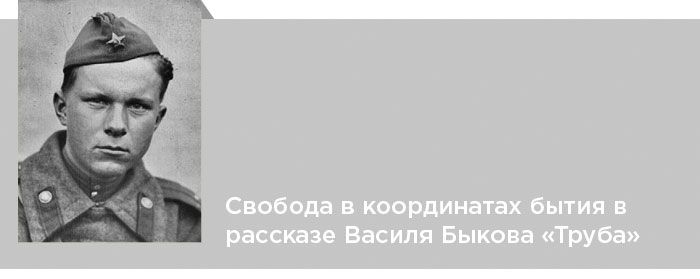«Обелиск» В. Быкова в аспектах исторической поэтики

УДК 82-31
В. В. Максимов
Томский политехнический университет
На основании теоретико-литературной гипотезы о наличии трех типологических форм эпического героя в статье предлагается анализ поэтики военной повести В. В. Быкова «Обелиск». Определяются особенности художественной модели, созданной в рамках рассматриваемого произведения, а также своеобразие ее повествовательной структуры; большое внимание уделяется способам организации эпической ситуации, конфликта и системы персонажей. Несмотря на то что авторская стратегия определяется как комплексная, т. е. одновременно ориентированная на «легенду», «сказание» и «предание», доминирующей оказывается средняя позиция – образ подлинного героя в данном случае вырастает на основе сказания, т. е. множества способов повествования о нем.
Ключевые слова: историческая поэтика, повествовательная структура, эпический герой, система персонажей, легенда, сказание, предание, Быков.
V. V. Maksimov
«Obelisk» by V. Bykov in the aspects of historical poetics
Based on the theoretical literary hypothesis abut three typological forms of an epic hero the author of the paper proposes an analysis of the poetics of the war story by Vasil’ Bykov «The Obelisk». He determines the features of the artistic model created in the framework of the work under consideration as well as the peculiarity of its narrative structure. Particular emphasis is placed on the methods of arranging an epic situation, a conflict and a system of characters. Despite the fact that the author’s strategy is determined as an integrated one, i.e. oriented simultaneously at «legend», «story» and «tale», the second position is a dominating one. Thus, the image of the real hero is formed on the basis of a story, i.e. of a great variety of ways of narration about him.
Keywords: historical poetics, narrative structure, epic hero, system of characters, legend, story, tale, Bykov.
Военная проза В. Быкова исследовалась в разных аспектах: биографическом [Лазарев, 1979], литературно-критическом [Дедков, 1980], историко-литератур- ном [Шагалов, 1989]. Думается, в настоящее время необходимо сделать следующий шаг и попытаться рассмотреть повести В. Быкова в рамках исторической поэтики. В качестве конкретной задачи предлагаемого исследования видится осмысление оригинальной формы эпического героя, представленной в военной повести «Обелиск» (1971).
Исходя из контекста исторической поэтики [Бройтман, 2001], необходимо учитывать три типологические формы эпического героя, так как последние рождаются и живут влегендах, сказаниях и преданиях.
Герой легендарного типа [Аверинцев, 1983, с. 278–284], или «гений места» (Генис), всегда эстетически определяется по имени, месту и событию, как правило, связанному с оборванным действием, сила которого уходит и живет-помнится в выси горной гряды, бурном течение рек, шуме лесов и безмерной сини небосвода. Легендарный герой отприроден и соприроден, в ценностно-смысловом плане он располагается на границе природы и рода и находится в истоке того, что позже становится народом [Гачев, 2008], обжившим природное и имеющим своих патриархов, мудрецов, воинов и вождей.
Герой эпического сказания [Стеблин-Каменский, 1984] размещается уже не только в неком пространственном, природно-вещественном, материально-телес- ном ареале сообщества (роде и племени), но и в контексте устной речи старших, стремящихся передать младшим ряд историй о том, кто был лучшим в «своей группе». Здесь сама фигура эпического героя опосредуется позицией сказителя. В то время как в легенде доминирует квазиязыковая установка, осуществляющаяся в стремлении все судьбоносные места рода снабдить особым именем (стратегия мифосимволической номинации), в сказании, наряду с позицией местного героя, уходящего в природное присутствие и обстояние, возникает частичнорефлексивная позиция, обусловленная особым правом о нем рассказывать. Кто это может делать? Каждый или избранные и назначенные, чей опыт владения словом соответствует деянию героя? Этот момент удвоения повествовательной ткани и разведения воли воина и сознания сказителя позволит создать более широкий круг различных конфигураций, объединяющих действующего на поле брани и рассказывающего об этом другим в послевоенной ситуации. Легенда может быть только условно-поэтической, патетической. Ее цель – воспевать мир локального своего: эту землю, это небо, эти горы, леса и поля; а также тех лучших представителей рода, благодаря деяниям которых единство своего мира сохраняется навечно. Даже поражения в войнах не способны вычеркнуть из родовой памяти имена героев, ставшие названиями мест и среды обитания рода. Это доминирование пространственных смыслов, ценностей и значений является для легендарной эпики определяющим. Легенда еще не знает ни разрушительной, ни созидательной силы времени. Основное легендарно-допустимое событие заключается в синкретизме условного человеческого деяния (подвига или подвижничества) и реальной причастности этого действия к более широкому природно-родовому обстоянию. Подлинная забота легендарного героя и истинный смысл его поступка не в победе, а в обосновании связи природно-родового континуума. По сути дела, последнее мифосимволическое слово о нем принадлежит не певцу, сказителю или поэту, а земле, ветру, лесу, дождю, небу и т. д. Он рождается из природного мира и уходит в него, не умирая даже после того, как погиб. Это он говорит на языке природных стихий (семантический строй которого образуют «солярная» или «вегетативная» мифосимволика (О. М. Фрейденберг). На этом этапе знание еще внедискурсивно и внерационально, оно может существовать только в мифосимволической форме как ведание, т. е. весть, вестничество [1]. Легенда – это форма чистой вести от природного по направлению к человеческому роду благодаря опорной фигуре местного героя, который совершает как бы встречное фабульное движение, уходя в своем деянии из рода в природное. Сказание предполагает фигуру сказителя. Главным остается герой, но его начинает теснить фигура негероического плана, тот, кто рассказывает о герое, уже не являясь им и даже не стремясь им быть по своей сути и задаче. Что делает герой? Воюет и живет. Что делает сказитель? Рассказывает и воспитывает тех, кому еще только предстоит воевать. Но разве может не воевавший рассказать о воюющем? Эта диспозиционная интрига может иметь много различных культурно-исторических сценариев, но в конечном счете она распределяет военное повествование на две основные позиции, принципиальная разница между которыми проходит между действием в пространстве (героем) и языком во времени (сказителем). Носитель сказания решает иную по своей сложности задачу: здесь событийная история подвига эпического героя дополняется событием рассказывания об этом подвиге другим, которые живут в другое время, в другом пространстве и заняты пока другими делами.
Героическое предание соответствует такому социокультурному опыту, когда из народа рождается нация [Гачев, 2008], нуждающемуся в определенных типах стратегической риторики, в том числе и военной. Автор предания – аутентичный представитель коллектива формирующейся нации, но не условный повествователь-сказитель рода, клана, семьи, кастовой или периферийной группы и уж точно не локальный рассказчик пространственно-именных легенд. После того, как были намечены основные направления освоения пространства, времени и языка, внимание переключается на идеологические возможности эпического слова. Если в легенде эпическое знание представлено в форме вести, или прямой передачи ценностей и смыслов из мира природно-духовного синкретического единства своего рода в единичное место подвига героя, то в сказании и еще полнее в предании возникает рефлексивное удваивание этой вести, благодаря позициям рассказывающих, которые должны создавать свое высказывание поверх вести природного плана, т. е. двигаться в творческом плане по вести,старясь соединить послание из природного и из духовного. Несложно заметить, что в аспекте исторической поэтики, именно здесь и находится формально-смысловой узел будущего уникального жанра русской национальной литературной словесности – повести.
Предание является фактом предельно развитой фазы эпической архаики [Бахтин, 2000, с. 194–232]. Кто попадает в предание? Только преданные преданию или его предавшие. Здесь всегда должны быть две границы опыта: апологетические и критические. В этом направлении диспозиция сказителя и героя отменяется, вместо нее в текст военного произведения вводится рядом с героем воли персонаж самосознания. Иногда эти проекции образа воюющего человека объединяются на материале одного персонажа-героя как соответствующие абсолютно разным модусам его включения в ситуацию «война и мир» или «мир и война». Таким образом, предание следует осмыслять как конечную фазу архаики культурной деятельности. Если легенда безусловно традиционна, а сказание безудержно проектно, то предание системно. Задача легенды – упрочить прошлое, предназначение сказания – найти будущее, цель предания – создать мост и перекресток по отношению к любым ситуациям культурно-исторического развития и становления, соединить расходящееся. Такое видение места предания в процессах культурноидеологического и художественно-эстетического творчества национальной литературной словесности предполагает поиск ценностно-смысловых границ русского военного предания, или осевого социоисторического военного события национального сопряжения войны и мира, в рамки которого вписываются все военноисторические события. Где же следует искать это золотое время русского оружия и какое предание формируется на его основе? Ответов на этот вопрос много [2], но все они нуждаются в серьезном обосновании. Специфика национальной культуры и словесности проявляется в рассредоточенности эпического предания как семантической парадигмы, а следовательно, в большей неопределенности форм эпического героя. Возобновление интереса к подлинной фигуре эпического героя в рамках повествовательной субтрадиции, посвященной войне 1941-1945 гг., и могло ориентироваться на три основные формы. Какое из этих направлений оказалось для Быкова более привлекательным?
Повесть «Обелиск» (1971) [3] не принадлежит к мононаррациям [Максимов, 2014], хотя на первый взгляд в ее центре находится судьба одного персонажа – сельского учителя Олеся Мороза. Отвлекаясь от фабульно-сюжетной основы произведения, сосредоточим свое внимание на способах организации повествовательной перспективы [Шмид, 2003, с. 67–71], так как поэтику повестей Быкова в целом определяют не сюжетопорождающие, а перспективологические факторы, т. е. способы введения в произведения различных точек зрения.
В настоящее время можно в качестве аксиоматического оптимума для анализа литературного произведения сформулировать следующие положения. Совокупность актуальных точек зрения включает в себя восемь основных разновидностей. Они подразделяются на внешние и внутренние. Первую группу образуют пространственная, казуальная, идеологическая и языковая; вторую – временная, казуальная, призматическая и речевая. Внешние точки зрения репрезентируют позицию объективного повествователя, внутренние – субъективного рассказчика. На основании первой группы формируется образ эпико-поэтического героя, на основе второй – образ эпико-прозаического персонажа. В рамках легендарной формы актуальной является пространственная точка зрения, для сказания определяющей становится языковая, а для предания – идеологическая выступает в качестве доминанты.
В повести Быкова «Обелиск» рассказ начинается и ведется от лица журналиста, который узнает о смерти своего знакомого (сельского учителя Миклашевича), которому он обещал помочь в каком-то запутанном деле, но не успел, откладывая встречу на потом. Повествование начинается с переживания (в дальнейшем курсивом и подчеркиванием мы будем отмечать моменты включения разных точек зрения, организующих повествование) героем-рассказчиком опредмеченного в границах его кругозора времени. Оно становится для него упущенным, укользнувшим, не принадлежащим ему. Он чувствует свою вину и торопится успеть хотя бы на похороны. Оказавшись в небольшом белорусском местечке, деревне Сельцо, он попадает на поминки и становится свидетелем какого-то не совсем понятного спора и конфликта, завязавшегося вокруг имени Мороза.
Возвращаясь поздно вечером в город, он оказывается попутчиком одного из спорящих и пытается узнать причину и суть спора. Историю о жизни и смерти сельского учителя ему рассказывает его случайный попутчик, который, завершая свой рассказ, говорит, что Мороз и был подлинным героем, так как он «положил себя на плаху», т. е. пожертвовал собой ради своих учеников, а то, что на придорожном обелиске появилась его фамилия, является высшим актом справедли- вости.
С какой из трех ранних форм эпики в большей степени связана повествовательная установка автора в данной повести? То обстоятельство, что перед нами герой конкретного локального места, свой, позволяет предположить ориентацию автора на легенду. Но по отношению к легенде не может возникать тонов сомнения, отрицания, недоверия и т. п. Легендарный герой родного места безупречен в ценностно-смысловом отношении. В то время как деятельность сельского учителя постоянно сопровождается критическим отношением к нему со стороны многих обитателей Сельца (старой учительницы, местного священника, представителей власти и даже отца одного из учеников). То, что он делает, и то, как он ведет себя в качестве учителя и человека, вызывает у многих непонимание и враждебность. Хотя со временем односельчане начинают к нему относится иначе, он для них становится мудрым советчиком и помощником в трудных жизненных ситуациях. Особенно любят его ученики, для которых он становится безупречным образцом во всем.
Усиливающиеся аллюзии на апостольский археосюжет взаимосвязи Учителя и учеников отрывают ситуацию от локального пространства и переводят ее в план большого культурного времени, благодаря чему представленную историю следует ориентировать в большей степени не на легенду, а на предание. То, что рассказано в этом произведении, происходило, произошло и будет происходить в разных местах как самопожертвование учителя ради будущего своих учеников. Кстати, крайне важно, что единственный спасенный Морозом ученик после войны становится учителем, продолжая в своих делах деяния наставника и восстанавливая осознание его жизни в светлой и вечной памяти о нем. Почему последнее оказалась таким сложным? Дело в том, что добровольный приход Мороза в полицейскую управу, так как фашисты обещали в этом случае освободить арестованных учеников, был действительно поступком самопожертвования, одновременно духовным и нравственным деянием, хотя Мороз понимал возможную фальшивость обещания врагов, но не мог оставить свих учеников. Позднее партизаны, в отряде которых он пробыл несколько дней, и полицаи составили документы, бросающие тень на этот подвиг Мороза. По одним бумагам, он просто попал в плен, по другим был в плен захвачен. Восстановить справедливость и доказать, что все было иначе, стало делом жизни Миклашевича. Для этого нужно было собрать по крупицам различные факты и свидетельства, перепроверяя домыслы и кривотолки, поэтому на самом деле в создании подлинной истории жизни Мороза принимали участие многие, кто его знал или что-то слышал о нем. Эта позиция одного из персонажей (Миклашевича) повторяется по сути и в позиции двух основных случайных попутчиков – Ткачука и журналиста, а стихия разноречия и многоязычия по поводу жизни и судьбы Мороза становится основным моментом всего повествования. Никто из персонажей не обладает единственным авторитетным словом, позволяющим завершить биографию не Учителя, а учителя Мороза. В таком случае, если в качестве сюжетной основы возможного предания оставлять архетипическую модель апостольского мифа, то композиционная среда произведения больше соответствует сказанию и многообразию способов речеведения. Апостольская модель повести постоянно осложняется многообразием участников, которым принадлежит право дополнить, уточнить саму историю, которая, благодаря этому перестает восприниматься как простая вариация военного апокрифа об Учителе, пожертвовавшем собой ради учеников. Это рассказ не только об одном, но и о тех, кто был с ним рядом и тоже погиб.
В связи с этим большое значение приобретает для анализа список имен на обелиске. Здесь мы встретим фамилии двух братьев-близнецов, двух однофамильцев, старшего помощника Мороза и Спасшегося и наконец фамилию самого учителя. Нельзя не заметить, что этот список в семантическом плане отличается рядом особенностей.
Во-первых, он по-разному помнится главными героями-рассказчиками. Так, персонаж, рассказывающий историю о сельском учителе, говорит о том, что фамилия Мороза стоит первой на обелиске, в то время как его спутник, подходя к обелиску, замечает эту фамилию написанной в самом конце. Предположим, что этот факт двойного статуса имени героя не является опиской и ошибкой автора. Что стоит за двумя различными возможностями вписывания новой фамилии? Кроме формального алфавитного порядка перечня имен погибших, остаются действительно еще только две возможности. В том случае, когда фамилия открывает перечень, ее носителю присваивается особый статус главного, основного в рамках события подвига и в контексте памяти о нем. Именно так помнит обелиск геройрассказчик, для которого Мороз является подлинным героем. В том случае, когда новая фамилия дописывается внизу и тем самым завершает перечень погибших, необходимо руководствоваться формальной эстетикой дописывающих. Последним вписывается последний по факту обнаружения и доказательства его причастности к произошедшему. Таким образом, за различными способами восприятия списка угадывается конфликт между двумя перспективами и кругозорами, которые в первом случае больше руководствуются внешними кодами, а во втором – внутренними.
Во-вторых, семантическое удвоение имен (близнецы и однофамильцы) с точки зрения обыденного читательского восприятия может оцениваться как факт простого совпадения. Но в кругозоре аналитического осмысления момент удвоения удвоенного обладает определенной выразительной силой. В этой микросистеме персонажей, погибших в годы войны подростков, наряду с парой, объединенных на семейно-родовой основе (братья-близнецы), отмечена пара носителей совпадающих имен, но не родных по крови. Эти четыре персонажа уравновешивают в событиях своего безрассудного деяния и мученической смерти моменты наличной природно-родовой и заданной духовно-именной связей.
В-третьих, из этой системы усиленной эквивалентности выпадают еще два персонажа: самый старший из учеников и самый младший, спасшийся и поэтому не имеющий своего места на обелиске. Но именно старший из них и был инициатором дела, закончившегося арестом и казнью почти всех участников, нарушившим предостережение Учителя, тем самым как бы вышедшим за круг его авторитетного слова и знания, учеником, отпавшим от учителя, обреченно вступившим в круг искушения самовольным действием. В таком случае негласным опровергателем его действия оказывается младший из группы подлинно преданных, а не предавших.
В итоге сама система персонажей (учеников) и способы их номинаций уточняют апостольский сюжет. В его порождающей основе находится событийный момент отступления учеников от слова и воли Учителя, раскол в рамках своего мира, спровоцированный поспешным искусительным желанием отомстить чужим. В чем заключалась моральная цель и задача Мороза по отношению к своим ученикам? В стремлении подготовить их к серьезным испытаниям и возможностям самореализации после войны. Почему дело учеников следует осмыслять как искушение? Потому что они предпочли миру войну, поэтому и погибли, по сути, не достигнув смысла и ценности нравственного урока. Этот сюжетный мотив одновременно трагической, а не героической, и случайной, но не обоснованной смерти детей, вовлеченных в военную ситуацию, оказался в рамках военной повести Быкова одним из опорных. Он тоже затруднял ориентацию автора на архетипические повествовательные модели легенды и предания, так как здесь в одну из ключевых повествовательных позиций перемещался ребенок (как правило, подросток, юноша), обладающий крайне определенным типом кругозора и достаточно ограниченным жизненным опытом.
Завершая анализ способов организации повествовательной среды и перспективы, представленной в повести «Обелиск», необходимо обратить внимание еще на один момент, связанный с тем, что рассказ об Учителе осуществляется в ситуации совместного пути двух персонажей из села в город, из события поминовения и смерти в ситуацию продолжающейся обыденной жизни двух случайно встретившихся людей. Здесь фабульная ситуация пути вдвоем постоянно соотносится с концептуально-семантическим мотивом духовного Пути общающихся и понимающих друг друга, который тоже должен иметь начало, середину и конец. А следовательно, момент предметного перемещения в пространстве осложняется пространственной и идеологической перспективами самого рассказа. В фабульном плане оба персонажа изображаются как возвращающиеся с похорон и поминок, т. е. из ситуации смерти в ситуацию жизни, в сюжетном же аспекте они представлены не как возвращающиеся каждый в свое личное реальное настоящее, а больше как возвращающиеся в общее прошлое и опыт, объединяющий учителя и учеников в их совмещенном подвиге, в рамках которого одним удалось выдержать испытания, а у других не получилось справиться с искушением неподготовленного действия. В перспективологическом смысле возведение смысла рассказанной истории к апостольскому архетипу постоянно осложняется многообразием позиционных точек зрения, изнутри которых можно собрать возможность сложного рассказа о произошедшем тогда и достроенном сейчас. Далеко неслучайно, что в финале повести снова возникает три различных способа осмысления и оценки истории сельского учителя и его учеников: патетической, критической и ме- диальной, что создает альтернативный удвоенный финал (раскол позиций Ксендзова и Ткачука) и вовлекает уже читателя в ценностно-смысловые рамки поведанного.
Можно ли повесть отнести к области военной мононаррации, т. е. произведениям, обладающим только одной повествовательной историей и перспективной? Например, видеть в этом произведении рассказ об учителе / Учителе? Вряд ли. Эпический принцип создания системы персонажей военно-эпического произведения как формы «коллективно-распределенного героя» (А. Ф. Лосев) в данном случае объединяет учителя и учеников в достаточно сложное ценностно-смы- словое единство. Мы уже обращали внимание на то, что в списке погибших следует выделять 4 позиции: семейно-родовую, духовно-тезоименную, отступническую, помнящую. Все они значимы не сами по себе, а только в соотношении с образом и духовной ролью Учителя, деятельность которого и привела к такому четырехкратному распаду малой группы своих. Его учительство достигало таких пределов, как семейно-родовые связи, духовно-именные соотношения, право старшего отступить и нарушить запрет и стремление младшего восстановить истину и правду о произошедшем. Здесь возможная форма эпического героя военноэпической прозы пребывает в сложном, непредрешенном и переходном, процессе, который проявляется в том, что на позиции Учителя и на роли учеников отбрасывается тень неопределенности, а следовательно, первый не может стать предметом легендарного воспевания или наследуемого предания. Он – объект сказания, т. е. находится как возможная форма в кругозорах рассказывающих о нем, благодаря только возможностям вечно меняющегося слова и желания собеседников хотя бы понять или выслушать; здесь художественная сложность проблемы эпического героя утяжеляется эстетической проблемой статуса повествующего о нем героя-рассказчика и встречной рецептивной ролью выслушивающего этот рассказ случайного персонажа-попутчика, героя-рассказчика и актуального читателя.
В целом в рамках персональной художественной системы Быкова проблема «героя военного времени» нашла свое достаточно оригинальное воплощение. Она интересовала Быкова только на фазах возникновения (1940–1950-е гг.) и становления (1950–1960-е гг.) персональной художественной системы. В контексте диахронологических периодов утверждения (1970-1980-е гг.) и завершения (1980–2000-е гг.) внимание автора последовательно переключалось сначала на проблему «герой и предатель», а затем и на образы предавших и отсутствующих. Смещая свое внимание с позиции героев на образы предателей [4], Быков опережал формирующийся контекст повествований о войне 1941–1945 гг. Безучастность вовлеченного в войну человека интересовала автора в онтологическом, феноменологическом, идеологическом, техническом и критическом аспектах, т. е. как факт системного воздействия войны на человека. Эта «стратегия эпической перверсии» отличала Быкова от других писателей-фронтовиков. Дело в том, что если эпический герой в любых формах его представления принадлежал в большей степени не войне, а единомирию, то фигура предателя оставалась приуроченной только к разномерной реальности войны с ее всегда разделяющей и враждебной стихией. Миссия героя – сохранять и защищать свой мир в его единстве и целостности, позиция предателя в том, чтобы выискивать закраины, складки и щели безмерного безмирия, в которых нет ничего, кроме ненависти, страха, вражды ко всем, и прежде всего к самому себе, и стремления навсегда исчезнуть от суда и возмездия.
Список литературы
- Аверинцев С. С. Древнееврейская литература // История всемирной литературы: В 9 т. М., 1983. Т. 1. С. 271–302.
- Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб., 2000.
- Бройтман С. Н. Историческая поэтика: Учеб. пособие. М., 2001.
- Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. 2-е изд. М., 2008.
- Дедков И. А. Василь Быков. Очерк творчества. М., 1980.
- Гумилев Л. Н. Древняя Русь и великая степь. М., 2008.
- Лазарев Л.И. Василь Быков. Очерк творчества. М., 1979.
- Максимов В. В. Военная повесть В. Быкова (опыт нарратологической типологии) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 1 (31), ч. 2. C. 128–130.
- Неклесса А. И. Север и Юг в преддверии новой эры // Русский архипелаг. 2012.
- Стеблин-Каменский М. И. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984.
- Цымбурский В. Л. Россия – Земля за Великим Лимитрофом: цивилизация и ее геополитика // Русский архипелаг. 2012.
- Шагалов А. А. Василь Быков. Повести о войне. М., 1989.
- Шмид В. Нарратология. М., 2003.
[1] «Агелация» (В. И. Тюпа), или повествовательная стратегия, построенная на основе «вестничества», соответствует тому этапу развития эпической традиции, когда жанровая форма легенды была смещена в контекст процессов христианизации русской культуры.
[2] Поход князя Игоря, битва на Куликовом поле, Полтава, Бородинское сражение и т. д. [Гумилев, 2008; Цымбурский, 2012; Неклесса, 2012].
[3] Быков В. В. Обелиск // Военная литература. URL: http://militera.lib.ru/prose/russian/ bykov3/index.html (дата обращения 10.10.2013).
[4] Эта тема намечается во второй «фронтовой» повести Быкова («Журавлиный крик») и достигает предельной отчетливости в партизанских повестях («Мертвым не больно», «Пойти и не вернуться, «Сотников»), где эпический конфликт организован как прямое столкновение двух центральных персонажей – героя и предателя.
*Максимов Владимир Владимирович – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного Томского политехнического университета (ул. Усова, 4а, оф. 446, Томск, 634050, Россия; v_v_maksimov@rambler.ru)
Сибирский филологический журнал. 2015. № 1