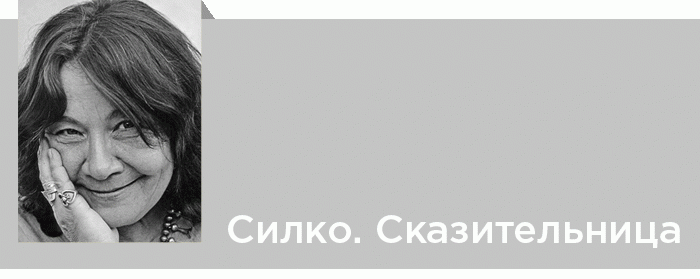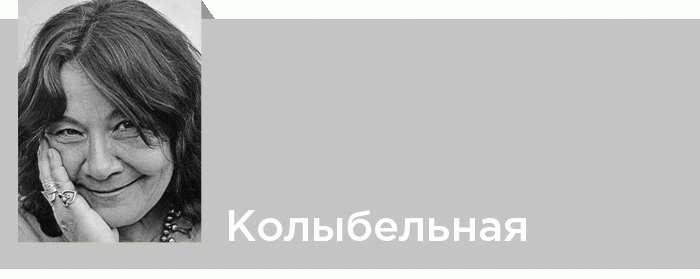Фрэнк Норрис. Спрут

(Отрывок)
ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Магнус Деррик («Губернатор») - владелец ранчо Лос-Муэртос
Энни Деррик - жена Магнуса Деррика
Лаймен Деррик
Хэррен Деррик - сыновья Магнуса Деррика
Бродерсон
Остерман - приятели и соседи Магнуса Деррика
Энникстер - владелец ранчо Кьен-Сабе
Хилма Три - помощница на сыроварне Кьен-Сабе
Дженслингер - редактор боннвильской газеты «Меркурий»,
финансируемой железной дорогой
С. Берман - агент ТиЮЗжд
Пресли - молодой поэт, которому покровительствует Магнус Деррик
Ванами - пастух и объездчик на ранчо
Анжела Вэрьян
Отец Саррия - священник в миссии
Дайк - машинист, внесенный в «черный список» железной дороги
Миссис Дайк - мать Дайка
Сидни Дайк - дочь Дайка
Карахер - содержатель питейного заведения
Хувен - арендатор Магнуса Деррика
Миссис Хувен - его жена
Минни Хувен - его дочь
Сидерквист - фабрикант
Миссис Сидерквист - его жена
Гарнетт
Дебни
Кист
Четтери - фермеры в долине Сан-Хоакин
КНИГА ПЕРВАЯ
I
Не успел Пресли миновать питейное заведение Карахера на шоссе, идущем от Боннвиля к югу и отделяющем ранчо Бродерсона от ранчо Лос-Муэртос, как ухо по уловило едва слышный паровозный гудок, долетевший, несомненно, из железнодорожных мастерских, которые находились неподалеку от станции Боннвиль. Уезжая утром с ранчо, он оставил дома часы и теперь гадал - то ли это двенадцатичасовой гудок, то ли часовой. Надеялся, что двенадцатичасовой. Еще ранним утром он задумал предпринять дальнюю прогулку по окрестностям - частью пешком, частью на велосипеде,- но вот уже полдень, а он, можно сказать, еще и не начинал своего путешествия. Когда после завтрака он уходил из дому, миссис Деррик попросила его забрать в Боннвиле почту, и как же было ей отказать.
Пресли крепче сжал пробковые рукоятки велосипедного руля - шоссе было в плачевном состоянии после того, как недавно вывозили урожай,- и прибавил ходу. Пне зависимости от времени, он решил нигде не задержи ваться - поедет прямо в Гвадалахару и съест там, как у него было первоначально задумано, какое-нибудь испанское блюдо в ресторанчике Солотари.
Не очень-то большой урожай пришлось вывезти в мом году. На ранчо Бродерсона половина пшеницы погибла на корню, а Деррик убрал так мало, что ему должно было только-только хватить семян на озимый сев. Но дажe такие скромные перевозки пагубно сказались на состоянии здешних дорог; к тому же, в результате бездорожья последних месяцев, слой пыли на дорогах значительно утолщился, так что Пресли неоднократно прись слезать с велосипеда и тащиться пешком, толкая велосипед впереди себя.
Шла вторая половина сентября, самый конец засушливой поры, и вся земля в округе Туларе, все бескрайние просторы долины реки Сан-Хоакин - в сущности весь юг Центральной Калифорнии - насквозь высохли, запеклись и потрескались после четырех месяцев, за которые не выпало ни капли дождя, когда весь день казался полднем, и солнце, раскаленное добела, заливало жаром всю долину от Берегового хребта на западе до предгорий Сьерра-Невады на востоке.
Когда Пресли подъехал к месту, где проселок, носивший здесь название Нижней дороги, пересекал по пути на Гвадалахару ранчо Лос-Муэртос, перед ним возникла одна из водонапорных башен округа - огромное деревянное сооружение, перехваченное железными обручами, неуклюже высившееся на своих четырех подпорках у обочины дороги. Боннвильские лавочники с момента ее постройки пользовались ею, как тумбой для объявлений. Она служила ориентиром. На огромном пространстве равнинных полей объявления, написанные белой краской, видны были чуть ли не за милю. Поблизости стояла колода для воды, и так как Пресли давно томила жажда, он решил остановиться здесь и напиться.
Он подкатил к башне и, соскочив с велосипеда, прислонил его к изгороди. Двое мужчин в белых комбинезонах, сидя в люльках, свисающих на крючьях с крыши башни, выводили букву за буквой новое объявление. Работа близилась к концу, и уже можно было прочесть: «С. Берман. Агент по продаже недвижимого имущества. Ссуды под закладные. Боннвиль, Главная улица, напротив почты». На стоявшей в тени башни колоде, из которой поили лошадей, виднелась другая свеженамалеванная надпись: «С. Берман имеет вам что-то сказать».
Напившись из крана, Пресли распрямил спину и на повороте Нижней дороги увидел приближающуюся водовозку. Пара мулов и пара лошадей, белые от пыли, уныло тащили дроги, лениво потряхивая в такт черепашьему шагу понуренными ушами. А на высоких козлах под желтым парусиновым тентом восседал Хувен, один из арендаторов Деррика, немец, по прозвищу «Бисмарк»,- маленький человечек, приходивший в возбуждение от любого пустяка, вечно произносящий негодующие речи на ломаном английском языке.
- Здорово, Бисмарк! - приветствовал Пресли Хувена, как только тот остановил свою упряжку у самой башни, чтобы набрать воды.
- Как раз шелёвек, который мне нушен, мистер Пресли,- закричал Хувен, наматывая вожжи на ручку тормоза.- Айн момент. Мистер Пресли, одна только минутка?! Поговорить нушно.
Пресли не терпелось ехать дальше. Еще немного, и у него весь день пойдет прахом. В конце концов он не имеет к управлению фермой никакого отношения, и если Хувену нужен какой-то совет, все равно ничего путного он ему не посоветует. Он не желал иметь ничего общего с этим грубым мужичьем - батраками и мелкими арендаторами, всю жизнь копавшимися в земле, которая забивала им все поры. Ни малейшей симпатии к ним он не испытывал. Его нимало не интересовали ни их жизнь, ни их обычаи, ни свадьбы, ни ссоры, ни похороны, ничто в их жалком, безрадостном существовании.
- Ну, раз так, тогда давай поживей, Бисмарк! - сказал Пресли не слишком любезно.- Я и так опаздываю к обеду.
- Я мигом. Два минутка и все.
Он подтянул свисавший с башни рукав к отверстию в бочке, дернул за цепочку и пустил воду. Затем поднялся, спрыгнул на землю и, взяв Пресли за локоть, отвел его в сторонку.
- Послюшайте,- начал он.- Послюшайте, я хочу беседовать с вам. Как раз тот шеловек, который я искаль. Слюшайте, Карахер говорил мне нынче утром, будто мистер Деррик в будущем году собирается сам работать на раншо. Мол, никаких больше арендаторов! Карахер говорит, будто мистер Деррик сказал - всех арендаторов в шею! Сам будет обрабатывать все свое окаянно раншо. И меня тоже в шею! Каково, а? Я, может, на этой земле зибен яре - семь лет. Так неушели и меня…
- Лучше поговори об этом с самим Дерриком или с Хэрреном, Бисмарк,- прервал Хувена Пресли, пытаясь поскорее улизнуть.- Меня это совершенно не касается.
Но отделаться от Хувена было не так-то просто. Он, видимо, все утро готовил свою речь, подбирал слова, составлял фразы.
- Еще чего! - продолжал он, будто его и не перебивали.- Может, я не шелаю уходить,- семь лет я тут шил. Как это мистер Деррик меня вдруг возьмет да про-
гонит. А канал как? Об этом он думаль? Послюшайте, скажите ему, пусть Бисмарк на месте оставаться. Хозяин вас уфашайт. Замолвить за меня словечко.
- Хэррен - вот кого он послушает, Бисмарк,-сказал Пресли.- Попроси Хэррена за тебя похлопотать, и все будет в порядке.
- Семь лет шиву тут,- не унимался Хувен,- кто за канал будет смотреть, кто за скотина ходить?
- Вот я и говорю, обратись к Хэррену,- повторил Пресли, готовясь сесть на велосипед.
- Послюшайте, а вы слихаль это?
- Я ничего не слыхал, Бисмарк. Я понятия не имею, как управляется ранчо.
- А трубы чинить кто будет?- воскликнул Хувен, припомнив вдруг еще один довод. Он взмахнул рукой.- За трубами от ручья до водопоя кто смотреть будет? По
слюшайте, он ше не мошет ве сам делать. Я так не думайт…
- Ну так поговори с Хэрреном.
- Послюшайте, он же не мошет все сам да сам. Без меня он пропадайт.
Со звонким плеском вода вдруг полилась через край бочки. Хувен вынужден был переключить внимание на нее. Пресли вскочил на велосипед.
- Я буду говорить с Хэррен! - крикнул ему вслед Хувен.- Мистер Деррик все равно сам везде поспевайт не смошет! Нет, нет! Я остаюсь на раншо за скотина
смотреть.
Он снова забрался на козлы, под тент, и когда под резкое хлопанье длинного бича телега тронулась, повернулся к малярам, все еще возившимися с объявлением, и выкрикнул с каким-то вызовом в голосе:
- Зибен яре, да, сэр, семь лет я на этом раншо!.. А ну-ка, мулы, пошевеливайтся!
Пресли тем временем свернул на Нижнюю дорогу. Теперь он ехал по земле Деррика, по сектору номер один; сектор этот назывался «центральной усадьбой» и входил в состав огромного ранчо Лос-Муэртос. Дорога здесь была получше, пыль от телеги Хувена успела осесть, и через несколько минут Пресли подкатил прямо к господскому дому с его белым забором, немногочисленными клумбами и эвкалиптовой рощей. На лужайке у дома он увидел Хэррена, который возился с поливальной машиной. У веранды в тени лежали две-три борзые из своры, которую держали для охоты на кроликов, и красавица Годфри - премированная шотландская борзая.
Пресли подкатил к подъезду, соскочил с велосипеда и подошел к Хэррену. Хэррен, младший сын Магнуса Деррика, очень красивый молодой человек лет двадцати пяти. Он отличался прекрасным телосложением - в отца, еще большее сходство с которым ему придавал фамильный нос, крупный, горбатый, вроде как у герцога Веллингтона на поздних портретах. Был светловолос, и даже постоянное пребывание на солнце не покрыло его лицо загаром, а лишь сгустило румянец. Золотистые волосы слегка курчавились на висках.
Пресли был ему полной противоположностью. Рядом с Хэрреном он казался натурой незаурядной, с характером значительно более сложным. Личностью куда более яркой, чем Хэррен Деррик. Лицо Пресли было темно от загара. Глаза темно-карие, а лоб, высокий и широкий, указывал на то, что перед вами человек интеллектуальный, причем не в первом поколении. Тонкогубый, чуть приоткрытый рот и несколько срезанный подбородок говорили о характере мягком и чрезвычайно чувствительном. Можно было предположить, что свою изысканность Пресли приобрел в ущерб физической силе; что он человек, нервный, склонный к копанью в себе; выяснялось, однако, что окружающий мир он воспринимал умом, а уж потом только эмоциями. И, при своей болезненной чувствительности к любым внешним изменениям, никогда не действовал сгоряча, избегая опрометчивых поступков, и не от нерасторопности, а просто потому, что ому не хватало решительности, не представлялось случая и вообще он был для этого слишком хорошо воспитан. Словом, это был прирожденный поэт. Он обольщался, когда говорил себе, что мыслит,- обычно и таких случаях его мысли просто витали где-то далеко.
Года за полтора до этого у Пресли заподозрили чахотку, и потому, воспользовавшись любезным приглашением Магнуса Деррика, он приехал пожить у них в ухом, мягком климате долины Сан-Хоакин. Ему было тридцать лет, он с отличием окончил курс обучения и аспирантуру в одном из колледжей на востоке страны, где самозабвенно изучал литературу и в особенности поэзию.
Пресли во что бы то ни стало хотел стать поэтом.Но пока что его творчество исчерпывалось стихами, написанными к случаю, однодневками, встреченными с энтузиазмом, расхваленными и тут же забытыми. У него пока не было темы. Он сам еще точно не знал, что собственно ему надо - что-нибудь эдакое грандиозное, потрясающее, героическое и грозное, такое, что естественно прозвучало бы в величавом чередовании гекзаметров.
Но что бы и как бы Пресли ни писал, он твердо знал, что поэма его будет о Западе, об этом овеянном романтикой крае света, где строили свое государство ново-пришельцы - крепкие, мужественные, неистовые; где бурно кипит жизнь, с утра до вечера и с вечера до утра - жизнь дикая, жестокая, правдивая и отважная. Кое-что (на его взгляд, маловато) было уже сделано для того, чтобы запечатлеть эту жизнь, однако ее бард еще не заговорил в полный голос. Пока что все эти разрозненные попытки только-только задали тон. Он мечтал о голосе широчайшего диапазона, достойном великой песни, которая вместила бы всю эпоху, целую эру, песни народа, его танцы, его легенды, все его творчество, все людские проявления - ссоры и споры, любовь и похоть, грубый, беспощадный юмор, стойкость пред лицом невзгод, похождения, богатства, добытые за один день и спущенные за одну ночь, прямая, резкая речь, великодушие и жестокость, героизм и бесстыдство, набожность и нечестивость, жертвенность и непотребство - одним словом, он будет искренен и бескомпромиссен, нарисует откровенно и смело картину данного отрезка истории; каждую группу людей даст в надлежащей среде: на равнинах, в горах, на ранчо, на пастбище, в шахте. Он опишет все черточки и типы каждой общины - от Северной Дакоты до Мексики, от Виннипега до Гваделупы - и все это будет собрано, объединено, слито воедино в могучей песне. Гимн Западу. Вот о чем он мечтал, в то время как образы, не имеющие названия, мысли, которые невозможно выразить словами, страшные бесформенные призраки, неясные фигуры, огромные, чудовищные и искаженные, ураганом проносились в его воображении.
Подойдя к Хэррену, Пресли вытащил из кармана выгоревшего охотничьего плаща пачку писем и газет и протянул ему:
- На, возьми почту. А я, пожалуй, поеду.
- Да что ты, обед на столе,- сказал Хэррен.
Пресли покачал головой:
- Спасибо, я спешу. Может, перекушу в Гвадалахаре. Сегодня я и так проезжу весь день.
Он задержался на минутку, чтобы подвернуть ослабевшую гайку на переднем колесе, а Хэррен тем временем, узнав на одном из конвертов почерк отца, вскрыл письмо и быстро пробежал его.
- Старик возвращается! - воскликнул он.- Завтра. Утренним поездом! Хочет, чтобы я встретил его с экипажем в Гвадалахаре… И еще,- прибавил он сквозь зубы, не отрывая глаз от письма,- мы проиграли дело.
- Какое?.. Ах, да, дело о тарифах.
Хэррен кивнул. Глаза его сверкнули, и лицо вдруг побагровело.
- Олстин вчера вынес решение,- продолжал он читать письмо.- Он, Олстин то есть, считает, что тариф на перевозку зерна, предложенный фермерами, это верное разорение для железной дороги, что, согласившись на такие условия, она останется без законной прибыли. Поскольку он не располагает законодательной властью, то рассудил так: вернуть тариф, существовавший до того, как комиссия снизила расценки,- чем дело и кончилось. Опять этот Берман старается,- прибавил Хэррен и даже скрипнул зубами.- Он торчал в городе все время, пока вырабатывалась новая тарифная сетка; он и Олстин так спелись с железнодорожной комиссией, что их водой не разольешь. Берман пробыл там всю прошлую неделю, творил пакости во славу железной дороги. И, как умел, поддерживал Олстина. «Законная прибыль, законная прибыль!»- негодовал Хэррен.- А мы разве не останемся без законной прибыли, если, получая восемьдесят семь центов за бушель пшеницы, станем платить по четыре доллара с тонны, чтобы подвезти зерно к морскому порту, на расстояние каких-нибудь двухсот миль? Проще сразу приставить револьвер к виску, крикнуть: «Руки вверх!», и дело с концом.
Он повернулся на каблуках и пошел к дому, ругаясь себе под нос.
- Да, между прочим,- крикнул вслед ему Пресли. - Хувен хотел с тобой поговорить. Он спрашивал, правда ли твой отец решил обойтись в этом году без арендаторов? Он, видишь ли, хотел бы остаться надзирать за каналом и ходить за скотом. Я сказал, чтобы он обратился к тебе.
Хэррен, чьи мысли были заняты совсем другим, лишь кивнул головой: мол, все понял. Чтобы не быть заподозренным в черствости, Пресли подождал, пока Хэррен скрылся за дверью, затем вскочил на велосипед и быстро покатил к воротам; от ворот он свернул на Нижнюю дорогу и поехал в сторону Гвадалахары.
Все эти тяжбы, эти вечные свары между фермерами долины Сан-Хоакин и Тихоокеанской и Юго-Западной железной дорогой - ТиЮЗжд - надоели ему до черта. Они мало его трогали и совершенно не касались. В картину огромного романтического Запада, сложившуюся в его воображении, эта борьба никак не вписывалась, нарушая гармонию его великого замысла, внося что-то материалистическое, низменное, невыносимо пошлое. Но как ни закрывал он глаза, ни затыкал уши, уйти от нее возможности не было. Романтика Запада? Да, это прекрасно, но лишь до первого соприкосновения с реальной действительностью. Тут романтика кончалась, рассыпалась в прах, становилась реальностьюц, грубой, неприглядной, непреодолимой. И если уж быть правдивым,- а он давно решил всегда придерживаться правды в своих стихах,- игнорировать это было нельзя. Все благолепие, вся поэтичность жизни на ранчо - в долине - на его взгляд, омрачалась, обезображивалась некими неумолимыми фактами. Пресли едва ли мог точно сказать, чего именно он хочет. С одной стороны, он стремился изобразить жизнь такой, какой видел ее,- открыто, честно, нелицеприятно. С другой же, ему хотелось смотреть на жизнь сквозь розовые очки, которые смягчали бы резкие контуры, грубые и мрачные краски. Пресли постоянно твердил себе, что, являясь частицей народа, любит этот народ, что ему близки его надежды и страхи, радости и горести; и в то же время вечно жалующийся Хувен, грязный, потный и ограниченный, ничего, кроме отвращения, в нем не вызывал. Он задался целью написать правдивую, абсолютно правдивую, поэму, изображающую сельскую жизнь, а вместо этого вновь и вновь напарывался на железную дорогу - неодолимый железный барьер, о который вдребезги разбивались его благие порывы. Всей душой он был за народ, а протянутая рука встречала руку какого-то несчастного немца, грязнулю и разгильдяя, и неужели он мог всерьез считать его народом? Душой он парил в облаках, а вокруг только и было разговоров, что о ценах на пшеницу и о несправедливых железнодорожных тарифах.
- Но ведь то, что мне нужно, находится где-то здесь,- бормотал он, проезжая по мосту через Бродерсонов ручей.- Романтика, истинная романтика где-то здесь. Вот ухватить бы ее!
Пресли огляделся вокруг, словно в поисках вдохновения. Он еще не проехал и половины северного, самого узкого, сектора ранчо Лос-Муэртос, имевшего в этом местe восемь миль в ширину, и все еще находился на территории господской усадьбы. В нескольких милях к югу едва различалась проволочная изгородь, отделявшая эту часть ранчо от сектора номер 3, а на севере, вдоль полотна железной дороги, чуть видимый в голубом мареве и блеске полуденного солнца, тянулся длинный ряд телеграфных столбов, обозначавший северо-восточную границу владений Деррика. Дорога, по которой ехал Пресли, была почти идеально прямой. Впереди, но на небольшом расстоянии, виднелся исполинский вечнозеленый дуб и красная крыша Хувеновского амбара.
Вокруг, куда ни глянь, расстилалась гладкая равнина. Урожай только что сняли. На много миль простирались одни лишь сжатые поля. Если не считать виргинского дуба на участке Хувена, нигде не видно было ни клочка зелени. Пшеничная стерня была грязно-желтого цвета; земля сухая, выжженная, потрескавшаяся, уныло бурая. По обочинам дороги толстым серым слоем лежала пыль, и в обе стороны уходили, теряясь за горизонтом, нескончаемые линии проволочной изгороди. Вот и все; да еще выгоревшая голубизна неба и дрожащий от зноя воздух.
А кругом мертвая тишина. Убрав урожай, как бы мал он ни был, фермы словно погрузились в спячку; казалось, земля, отмучившись и отдав людям плоды чрева своего, уснула крепким сном.
Это была пора межсезонья, когда все работы уже закончены, когда все в природе на время словно замирает. Нет ни дождя, ни ветра, ни роста, ни жизни; даже у стерни, казалось, не хватает сил на то, чтобы начать гнить. Лишь одно солнце продолжает свое движение.
К двум часам Пресли добрался до фермы Хувена, состоявшей из двух-трех закопченных деревянных строений, вокруг которых вертелась целая свора собак; да еще пара свиней бесцельно слонялась по двору; под навесом у сарая валялась сломанная сеялка, которую доедалa ржавчина. А надо всем высился огромный вечнозеленый дуб, самое большое дерево во всей округе, могучий и величественный. Пучки омелы и гирлянды мха свисали с его ствола. На нижнем суку висел «сейф» Хувена - квадратный ящик из проволочной сетки для хранения мяса.
Форма Хувена была на редкость удачно расположена. Здесь Нижняя дорога пересекала главный оросительный канал Деррика - широкую канаву, еще не совсем готовую, которую совместно сооружали Деррик с Энникстером - арендатором ранчо Кьен-Сабе. Канал перерезал дорогу под прямым углом, отделяя ферму Хувена от земель, принадлежащих городу Гвадалахара, находившемуся в трех милях отсюда. Кроме того, канал служил естественной границей между двумя секторами ранчо Лос-Муэртос - первым и четвертым.
Теперь перед Пресли лежали на выбор два пути. Целью его поездки был родник, прятавшийся среди холмов в восточной части Кьен-Сабе, откуда брал свое начало Бродерсонов ручей. Кратчайшим путем туда был Проселок. Когда он проезжал мимо фермы, в дверях дома показалась миссис Хувен; ее маленькая дочка Хильда, в мальчишеском комбинезоне и неуклюжих ботинках, держалась за ее юбку. В окно было видно Минну, старшую дочь, занятую стиркой. Это была очень красивая девушка, чьи любовные похождения предоставляли на ранчо Лос-Муэртос неисчерпаемую тему для пересудов. Миссис Хувен, немолодая, увядшая, бесцветная женщина, не обладала ни одной характерной чертой, которая выделяла бы ее из тысячи других женщин того же типа. Она равнодушно кивнула Пресли, заслонив локтем глаза от солнца.
Пресли как следует нажал на педали, и велосипед его понесся стрелой. Он решил все-таки доехать до Гвадалахары. Переехав по мостику через канал, он быстро покатил по последнему отрезку Нижней дороги, отделявшей ферму Хувена от города. Сейчас Пресли находился в секторе номер четыре - единственном секторе ранчо, где пшеница удалась, несомненно, благодаря протекавшей здесь Монастырской речке. Но он больше не отвлекался пейзажем. Ему хотелось одного: поскорее добраться до места. Он так мечтал провести весь день в поросших лесом холмах северной окраины Кьен-Сабе - почитать на свободе, побездельничать, покурить трубку. А теперь оказалось, что если он попадет туда часам к трем, то и на том спасибо. Через несколько минут Пресли доехал до проволочной изгороди, знаменовавшей границу фермы. Здесь же проходила линия железной дороги, а чуть подальше виднелось нагромождение крыш и отдельные глинобитные домишки, разбегающиеся по сторонам. То была Гвадалахара - небольшой городок. Поближе, прямо у Пресли перед глазами, находились вокзал и товарная станция ТиЮЗжд, крашенные в два цвета - серый и белый - по-видимому, общепринятая расцветка для всех административных зданий этой корпорации. На станции не было ни души. Утренний поезд давно прошел, дневной ожидался не скоро. Со стороны кассы до Пресли доносился неравномерный стрекот телеграфного аппарата. Громадная рыжая кошка весовщика, подобрав под себя лапки, спокойно спала в тени под багажной тележкой. Три платформы со сверкающими яркими красками сельскохозяйственными машинами стояли на запасном пути, а чуть подальше, у стрелки, тяжело пыхтел под равномерное постукивание поршня огромный тяжеловоз, не оснащенный предохранительной решеткой.
Но, очевидно, судьбе было угодно, чтобы Пресли в этой его поездке то и дело что-то задерживало: перетаскивая велосипед через пути, он услышал, к своему удив-лению, что кто-то его окликнул:
- Приветствую вас, мистер Пресли! Что новенького?
Пресли растерянно вскинул глаза и увидел Дайка, знакомого машиниста, который высунулся из бокового окошка паровоза, навалившись грудью на сложенные руки. Но в данном случае задержка не вызвала у Пресли досады. С Дайком они были знакомы давно и находились в самых дружеских отношениях. Лишенная оседлости жизнь машиниста казалась ему на редкость заманчивой, и Пресли не раз проделывал с Дайком путь от Гвадалахары до Боннвиля. А раз так даже прокатился с ним от Боннвиля до самого Сан-Франциско.
Дайк жил в Гвадалахаре, в одном из домиков, переделанных из глинобитных хижин; жил он там с матерью, жена Дайка умерла лет за пять до того времени, к которому относится наш рассказ, оставив ему маленькую дочку, Сидни, которую он и воспитывал, как умел. Сам Дайк был крепкий, видный малый, с широкими плечами, мощными волосатыми руками и необычайно громким голосом. Рядом с ним Пресли выглядел заморышем.
- А-а, здорово! - отозвался Пресли, подходя к паровозy. - Что это ты здесь делаешь в такой час? Я думал, в этом месяце ты в ночную смену работаешь.
- Да мне тут в расписании кое-что поменяли,- сказал Дайк. - Давай-ка иди сюда. Сядь, чем на солнце стоять! Нас тут задержали впредь до особых распоряжений, - пояснил он, когда Пресли, прислонив велосипед к колесам тендера, поднялся на паровоз и сел на место кочегара, обтянутое потертой зеленой кожей.- Они там меняют график и один из своих лучших паровозов собираются перевести на линию Фресно. А тут случилось какое-то столкновение в Бейкерсфилдском секторе, и он куда-то к черту запропастился. Теперь, наверное, будет нестись сломя голову. Путь ему открыт аж до самого Фресно. Вот и я стою тут, его пропускаю.
Он достал из кармана джемпера глиняную трубку, почерневшую и отполированную временем, и, набив ее, закурил.
- Но ты, я думаю, против этой задержки не возражаешь,- заметил Пресли.- По крайней мере, своих навестишь.
- Да они, как назло, сегодня в Сакраменто отправились,- ответил Дайк.- Такое уж мое везенье. Решили, видишь ли, семью брата проведать. Между прочим, мой брат собирается переехать сюда насовсем и заняться выращиванием хмеля. Ему тут, прямо на окраине города, участок предлагают в пятьсот акров. Он находит, что разводить хмель - дело прибыльное. Не знаю, может, и я с ним в пай войду.
- А чем тебе железная дорога не хороша?
Дайк пыхнул пару раз трубкой и посмотрел на Пресли тяжелым взглядом.
- А тем не хороша,- сказал он,- что меня уволили.
- Уволили? Тебя? - воскликнул Пресли, повернувшись к Дайку всем корпусом.
- Вот именно,- сказал Дайк угрюмо.
- Не может этого быть! За что, Дайк?
- Это я у тебя хочу спросить,- пробурчал тот в ответ.- Я пошел работать на железную дорогу чуть ли не с детства, и за десять с лишним лет хоть бы одно замечание. Они, черти, отлично знают, что надежней человека на всей дороге у них нет. И мало того, мало того - я ведь даже в союзе не состою. Во время стачки я на их стороне
был, на стороне корпорации. Ты сам это знаешь. И ты знаешь - да и они тоже,- что тогда в Сакраменто я с револьвером в каждой руке водил поезда точно по графику, хотя в любую водопропускную трубу могла быть подложена мина; тогда даже поговаривали, что нужно бы меня золотыми часами наградить. К черту их золотые часы! Я одного только хочу: элементарной справедливости и честного да доброго отношения. И вот теперь, наступили трудные времена и им пришлось снижать жалованье, как со мной обошлись? Разве они сделали для меня хоть какое-нибудь исключение? Вспомнили человека, который служил им верой и правдой, жизнью своей ради них рисковал? Нет! Они урезали мне жалованьe, посчитались со мной не больше, чем с любым смазчиком. Урезали, как и тем - нет, ты только послушай! - как и тем, кто у них в черных списках значился, забастовщикам, которых они приняли обратно на работу из-за нехватки рабочих рук! - Дайк яростно пыхнул трубкой.- Я обращался к ним, да, я спрятал свою гордость и пошел в главную контору, и меня там мордой об стол встретили. Я им говорю, я, мол, человек семейный, и мне не прожить на жалованье, какое мне теперь назначили; напомнил о своих заслугах во время стачки. А эта скотина, к которой я пошел, мне в ответ, что они для одного человека делать исключение никак не могут - это, видишь ли, было бы несправедливо, уж если жалованье снижать, так поровну всем рабочим и служащим. Справедливо! - воскликнул он с усмешкой.- Справедливо! Уж кому-кому, только не ТиЮЗжд о справедливости говорить. Меня это вывело из себя. Может, и глупо, но я им сказал, что я себя слишком уважаю, Чтобы выполнять первоклассную работу за третьесортную плату, а мне на это ответили: «Ну что ж, мистер Пайк, вы сами знаете, как в таких случаях поступают». Еще бы не знать. Я тут же потребовал расчет, и они сразу согласились,- будто только и мечтали, как бы отделаться от меня. Вот так-то, Пресли. Вот что такое Калифорнийская компания ТиЮЗжд! Это мой последний рейс.
- Позор! - воскликнул Пресли в сердцах, искренне возмущенный, поскольку дело касалось близкого ему человека.- Просто позор! Но, Дайк,- прибавил он,- по-видимому, что-то пришло ему в голову.- Ведь это еще не значит, что ты остался без работы. Ведь в штате есть и другие железные дороги, не контролируемые Тихоокеанской и Юго-Западной.
Дайк стукнул кулаком себя по колену.
- Назови хоть одну!
Пресли молчал. Ему нечего было сказать в ответ. Разговор их заглох. Пресли барабанил пальцами по ручке сиденья, душа его восставала против несправедливости; Дайк, нахмурив лоб и закусив чубук, устремил взор за пределы города, минуя поля, куда-то вдаль. В дверях станции, зевая.и потягиваясь, показался весовшик. Сверкающие на солнце рельсы, убегая от паровоза к горизонту, отбрасывали видимые невооруженным глазом волны горячего воздуха. Неумолчно стрекотал телеграфный аппарат.
- В общем, и рад бы, да не могу остаться,- сказал Дайк после паузы, немного поостыв.- Буду разводить с братом на ферме хмель. За последние десять лет я кое-что поднакопил, ну и хмель должен кое-какой доход принести.
Пресли снова сел на велосипед и медленно покатил по пустынным улицам пришедшего в ничтожество, умирающего мексиканского городка. Настал час сиесты - полуденного отдыха, и кругом не было ни души. Никакой деловой жизни здесь не наблюдалось; уж очень близко находился он от Боннвиля. До того как здесь проложили железную дорогу, в те времена, когда скотоводство было основным промыслом этих мест, жизнь в городке била ключом. Теперь он тихо умирал. Непременная аптека, два трактира, гостиница на углу старой площади и несколько лавчонок, торговавших мексиканской «стариной» и существовавших стараниями случайных туристов, которые приезжали с востока страны, чтобы побывать в старинном монастыре - Сан-Хуан-ской миссии: этим исчерпывалась деятельность городка.
В ресторанчике Солотари, находившемся наискосок от гостиницы, Пресли заказал себе обед - омлет по-мексикански, фасоль, кукурузные лепешки, салат и бокал белого вина. В одном из углов залы все время, пока он обедал, двое молодых мексиканцев - один из них на редкость красивый, с ярко выраженными национальными чертами лица, и древний старик, дряхлый до невозможности,- тянули под гитару с аккордеоном нескончаемую серенаду.
Эти обнищавшие мексиканцы испанского происхождения,- колоритное, порочное и романтичное племя,- вызывали у Пресли постоянный интерес. Несколько таких экземпляров еще оставалось в Гвадалахаре. Они кочевали из харчевни в трактир, из трактира на площадь; незадачливые осколки некогда славного племени, живущие вчерашним днем, а в сегодняшнем ничего не ищущие - была б сигара, да гитара и к ним стакан мескалы, ну и, конечно, неизменная сиеста. Древний старец помнил и Фремонта, и губернатора Альварадо, и знаменитого бандита Хесуса Тохедо, и те дни, когда Лос-Муэртос была огромным поместьем - настоящим княжеством, даром испанской короны, и когда от Висейлии до Фресно не встретить было ни одного забора. Пресли поставил старику стакан мескалы и навел на рассказ о том, что еще сохранилось в его памяти. Разговаривали они по-испански, поскольку Пресли хорошо знал этот язык.
- О ту пору правил Лос-Муэртосом де ла Куэста,- начал старец.- Знатная была персона. Все боялись его, Потому что он имел власть казнить и миловать и слово его было законом. Веришь ли, в то время еще никто и не думал о пшенице. Все скотоводством были заняты - овец разводили, лошадей, быков - этих, правда, поменьше,- и, хоть денег выручали маловато, зато еды всем хватало, и одежды, и вина - пей, не хочу,- и масла оливкового, хоть залейся - его монахи у себя в миссии делали. Конечно, была и пшеница, как я припоминаю, но куда как меньше, чем теперь. Сеяли на участке к северу от миссии, где сейчас цветочное хозяйство находится, там же были и виноградники - все на землях миссии. Пшеница, оливковые деревья и виноградные лозы; все это разводили миссионеры,- чтобы иметь все, что нужно для святых таинств,- хлe6, вино и елей, ну, сам небось знаешь. Вот оно Как было - все, чем славна Калифорния, от церкви пошло. А теперь,- старик гордо задрал бороду,- что сказал бы отец Олливари, посмотрев на наши пшеничные поля! Сколько засевает сеньор Деррик? Десять тысяч акров! Одна пшеница от Сьерра-Невады до Берегового хребта!..
А как женился-то де ла Куэста! Своей невесты он до самой свадьбы ни разу не видал, только портретик,- он приподнял одно плечо,- маленький такой, на ладони мог уместиться. Уж не помню, кто его написал, только как посмотрел де ла Куэста на него, так и влюбился, и решил жениться на ней во что бы то ни стало. Ну, ударили они с ее родителями по рукам, договорились обо всем и назначили день свадьбы. И надо же, в самый тот день, как ему ехать в Монтерей встречать невесту и венчаться с ней, неожиданно объявился Хесус Тохедо со своей шайкой и разграбил несколько мелких ферм близ Тарабеллы. Куда же было де ла Куэсте в такое время отлучаться, и вот он велит своему брату Эстебану ехать в Монтерей, отстоять на брачной церемонии вместо него и доставить ему его молодую жену в целости и сохранности. Эстебан позвал меня ехать с ним. Нас было сто, не меньше, де ла Куэста послал невесте коня, чтоб въехать в замок - как снег белого, седло красной кожи, а уздечка, удила и пряжки - все чистого серебра. Венчались в Монтерейской миссии - от имени брата Эстебан повел невесту к алтарю. Когда мы возвращались домой, де ла Куэста выехал нам навстречу. Его отряд повстречался с нашим в Агата Дос-Палос. Вовек мне не забыть лица де ла Куэсты, когда он впервые увидел свою молодую супругу. Быстренько так зыркнул в ее сторону и отвел глаза. Вот так,- старик щелкнул пальцами.- Никто не заметил, кроме меня. А я стоял совсем рядом и потому видел: де ла Куэста не того ожидал.
- А невеста? - спросил Пресли.
- Она так в неведении и прожила всю жизнь. Он же рыцарь был, де ла Куэста наш. И всегда он с ней как с королевой. Второго такого мужа было не сыскать, такого преданного, такого почтительного, такого галантного. Одно слово - рыцарь! А что касается любви,- старик выдвинул вперед подбородок и прикрыл глаза со всезнающим видом,- какая там любовь! Это я вам говорю. Их повенчали заново в Сан-Хуанской миссии в Гвадалахаре - в нашей миссии,- и целую неделю в Гвадалахаре не прекращались торжества. Бои быков шли на глав
ной площади - вот на этой самой - пять дней подряд, и каждого из своих крупных арендаторов де ла Куэста пожаловал конем, кадушкой сала, унцией серебра и полунцией золотого песка. Да, славные были времена! Весело жили, ничего не скажешь! А теперь,- последовал выразительный жест левой рукой,- так, бестолочь одна!
- Да уж,- сказал Пресли, поскучнев от рассказа старика. И опять на него напали сомнения и неуверенность в себе. Где ему найти сюжет для великой поэмы в теперешней серенькой жизни? Романтика умерла. Он опоздал родиться. А писать о прошлом его не устраивало. Реальная жизнь, вот что его привлекало, то, что он сам видел и слышал. Увы, то, что он видел вокруг себя, с романтикой сочеталось плохо.
Он встал, надел шляпу и протянул старику сигарету. Тот принял ее с исполненным достоинства поклоном и в ответ протянул свою роговую табакерку. Пресли покачал головой.
- Слишком поздно я родился на свет,- сказал он. - Для этого и для многого другого. Adios!
- Пустились сегодня в странствие, сеньор?
- Да вот решил прокатиться по окрестностям, а то засиделся совсем,- ответил Пресли.- Думаю проехать до Кьен-Сабе и дальше, в горы по ту сторону миссии.
- А, на фермы Кьен-Сабе. Там всю эту неделю пасутся овцы.
Солотари, владелец харчевни, пояснил:
- Молодой Энникстер запродал свое пшеничное жнивье во-он тамошним овцеводам,- он махнул рукой в направлении восточных предгорий.- С прошлого воскресенья там пасется отара. Башковитый парень, молодой Энникстер. Получает деньги за жнитво, которое иначе ему пришлось бы выжигать, да вдобавок овцы бродят по полю и удобряют его землю. Истинный янки, этот Энникстер, настоящий англосакс.
Покончив с обедом, Пресли снова сел на велосипед и, оставив позади ресторанчик и площадь, поехал по главной улице сонного городка; улица эта постепенно перешла в проселочную дорогу, которая, круто свернув на север, устремилась к Сан-Хуанской миссии мимо плантаций хмеля и ранчо Кьен-Сабе.
Усадьба Кьен-Сабе расположилась в небольшом треугольнике, который образовывали на юге железная дорога, на севере - Бродерсонов ручей и на востоке - поля хмеля и монастырские земли. Пространство это пересекалось во всех направлениях где проселком, идущим от фермы Хувена, где оросительным каналом - тем самим, через который Пресли раньше пришлось переехать, а где дорогой, по которой он сейчас ехал. Усадебный дом с прилегающими к нему службами находился в центре, и над ним высилась напоминавшая скелет башня артезианского колодца, питавшего оросительный канал. Немного поодаль, повторяя излучины Бродерсонова ручья, протянулась кайма серебристых ив, и по мере того, как Пресли продвигался дальше, на север, в сторону невысоких гор, над верхушками старых грушевых деревьев стали вырисовываться колокольня и красная черепичная кровля старинного Гвадалахарского монастыря - как его называли, Сан-Хуанской миссии.
Подъехав к дому Энникстера, Пресли увидел на веранде, затянутой от комаров сеткой, молодого хозяина, который, разлегшись в гамаке, читал «Дэвида Коппер-филда», одновременно поглощая чернослив.
После того как они обменялись приветствиями, Энникстер пожаловался на ужасные колики, мучившие его всю предыдущую ночь. Опять он маялся животом, но к докторам он больше не ходок, уж как-нибудь сам справится, а то, когда в последний раз у него приключилась такая штука, он обратился к какому-то лекарю в Боннвиле, и этот старый болтун влил в него какой-то гадости, от которой ему только хуже стало,- да и что эти доктора вообще смыслят! У него болезнь особенная. Он-то знает! Ему чернослив нужен и, чем больше, тем лучше!
Энникстер, арендовавший ранчо Кьен-Сабе - примерно четыре тысячи акров плодородной суглинистой почвы,- был совсем еще молод, моложе даже чем Пресли, и, как и тот, окончил колледж. Ни на один день не выглядел он старше своих лет. Он был худощав и всегда чисто выбрит. При всем том лицо его было безошибочно мужественно - нижняя губа слегка оттопырена, подбородок тяжелый, с глубокой ямочкой. Университетское образование скорее закалило, нежели отшлифовало его. Он по-прежнему оставался простолюдином, грубым, прямым до дерзости, не терпящим возражений, полагающимся только на себя; в то же время он обладал незаурядным умом и поразительной деловой сметкой, граничившей с гениальностью. Неутомимый работник, которого можно было назвать как угодно, но только не сибаритом, он требовал и от своих подчиненных такого же истового отношения к труду, какое проявлял сам. Все его единодушно ненавидели и столь же единодушно верили ему. Все осуждали его за тяжелый, непокладистый характер - не отрицая, однако, его дарований и изобретательности. Выжига, каких мало, упрямый, несговорчивый, придирчивый - но голова! Еще не родился человек, который бы его в каком-то деле обскакал. Два раза в него стреляли - раз из засады на ранчо Остермана, в другой - его собственный рабочий, которому он дал за какое-то упущение пинок под зад и прогнал с площадки, где ссыпали зерно в мешки. В колледже он изучал финансы, политическую экономию и сельскохозяйственные науки. Окончив курс одним из первых, Энникстер поступил на другой факультет и получил диплом инженера-строителя. Потом ему вдруг пришло в голову, что современному фермеру не мешало бы иметь хотя бы общие сведения о законах. За восемь месяцев он прошел трехгодичный курс, что дало ему право держать экзамен на звание адвоката. У него был свой метод заучивания. Все содержание учебников он сводил к кратким записям. Вырывая листы с записями из тетрадей, он расклеивал их по стенам своей комнаты; затем, сняв пиджак и сунув руки в карманы, начинал кружить по комнате с дешевой сигарой в зубах, сурово вглядываясь в свои записи, запоминая, поглощая, усваивая. А в перерывах между занятиями глотал чашку за чашкой черный кофе без сахара. Экзамен он выдержал лучше всех и заслужил похвалу от экзаменатора-судьи. И тут же тяжело захворал на почве нервного переутомления; желудок у него пришел в полное расстройство, и он чуть было не отдал Богу душу в пансионе в Сакраменто, упрямо отказываясь обращаться к докторам, которых называл не иначе как шайкой шарлатанов, а потому лечился какими-то патентованными лекарствами и поглощал невероятное количество пилюль от печени и чернослив.
Чтобы как следует восстановить здоровье, Энникстер решил съездить в Европу. Он предполагал прожить там год, но возвратился через шесть недель, изрыгая хулу на тамошних поваров. Почти все это время он провел в Париже, а привез с собой на память о поездке всего два поразившие его воображение предмета: садовые ножницы и пустую птичью клетку.
Он был богат. Отец его, давно овдовевший и наживший состояние на спекуляциях землей, умер за год до того, и Энникстер, единственный сын, вступил в права наследства.
На Пресли Энникстер смотрел с искренним восторгом, испытывая к нему глубокое почтение, как к человеку, умеющему слагать стихи, и в вопросах, касающихся литеpaтуры и искусства, всегда полагался на его мнение. Поэзия его привлекала мало, что же касается прозы, то тут он признавал одного Диккенса. Все остальное считал дребеденью. Но не отрицал, что стихи писать тоже не каждому дано. Не так-то просто рифмовать «битву» и «бритву» так, чтобы получался смысл.
Но Пресли вообще был исключением. Энникстер по своему характеру был просто не способен согласиться с чужим мнением без каких-либо оговорок. В разговоре с ним было почти невозможно высказать какую бы то ни было мысль - подчас простейшую - без того, чтобы он не перекроил ее по-своему, а то и просто отверг. Он обожал спорить до хрипоты и готов был завести спор по любому вопросу в пределах человеческих познаний - от астрономии до железнодорожных тарифов, от учения о неотвратимости судьбы до определения роста лошади. Он никогда не признавал своих ошибок и, припертый к стене, обычно заслонялся фразой: «Все это очень хорошо в некоторых отношениях, но вот в других - это уж вы оставьте!»
Как ни странно, они с Пресли были в прекрасных отношениях. Во всяком случае, Пресли не переставал этому удивляться, считая, что у них с Энникстером нет ничего общего. Из всех знакомых Энникстера Пресли был единственным, с кем он ни разу не поссорился. По характеру эти два человека были прямой противоположностью друг другу. Пресли - добродушный и беспечный, Энникстер - всегда начеку; Пресли - неисправимый мечтатель, нерешительный, не предприимчивый, склонный к меланхолии; молодой фермер - человек деловой, решительный, боевой, которого ничто не беспокоило, кроме работы собственного желудка. Но они всегда бывали рады встрече, проявляли искренний интерес к делам друг друга и готовы были на любые усилия, лишь бы иметь возможность оказать хотя бы маленькую услугу один другому.
И еще один, последний, штрих - Энникстер считал себя женоненавистником только потому, что, попадая в женское общество, становился неуклюжим, как медведь. Женщины? Да ну их! Будто не на что больше мужчине времени и денег просаживать, кроме как на интрижки со всякими бабенками. Нет уж, это не для него, коли на то пошло. Один-единственный раз имел он роман. С девушкой, которую каким-то образом подцепил в Сакраменто, робким, миниатюрным существом, работавшим в заведении, которое занималось чисткой замшевых перчаток. Когда Энникстер вернулся к себе на ранчо, между ними завязалась переписка, причем он из осторожности печатал свои письма на пишущей машинке и, на всякий случай, никогда их не подписывал. Мало того, он оставлял себе копии всех писем, храня их в одном из отделений сейфа. В общем, поймать такого было бы под силу не всякой женщине; для этого требовался ум незаурядный. Перепугавшись вдруг, что зашел слишком далеко и дал своей даме право на что-то претендовать, он тут же порвал с ней раз и навсегда. Это было его единственное увлечение, в дальнейшем Энникстер с женщинами уже иязывался. Никакая юбка его к себе не привяжет! Будьте покойны!
Когда Пресли, подталкивая перед собой велосипед, подошел к веранде, Энникстер извинился, что не может встать, сообщив, что как только он поднимается, у него опять начинаются боли.
- Каким ветром тебя сюда занесло? - спросил он.
- Да вот, надумал прокатиться,- ответил Пресли. - Как дела на ранчо?
- Скажи-ка,- продолжал Энникстер, пропустив вопрос мимо ушей,-что это я слыхал, будто Деррик решил разогнать всех арендаторов и обрабатывать все свои земли собственными средствами?
Пресли нетерпеливо махнул свободной рукой.
- Я только об этом и слышу весь день. Вероятно, так оно и есть.
- Гм! - хмыкнул Энникстер и выплюнул косточку чернослива.- Передай Магнусу Деррику привет и скажи ему, что он дурак.
- Что это ты его?
- Деррик, видимо, воображает, что до сих пор правит своим рудником и что выгонять из земли пшеницу можно, действуя по тому же принципу, что и вырывая из нее золото. Ну что ж, пусть попробует, а мы посмотрим, что получится. Вот вам, пожалуйста, наш замечательный фермер с запада! - воскликнул он с презрением. - Выпотрошить свою землю, взять от нее все, что только можно, не давать ей отдыха, не заботиться о севообороте, а когда земля истощится вконец, клясть тяжелые времена!
- Надо полагать, Магнус думает, что земля достаточно отдохнула за последние два засушливых лета,- ответил Пресли.- В эти два года он ни одного стоящего урожая не снял. Уж его-то земля хорошо отдохнула.
- Так-то оно так,- возразил Энникстер, не желая сдаваться.- С одной стороны, земля как будто и отдохнула, с другой - пожалуй, и нет.
Не имея охоты вступать в спор, Пресли промолчал и собрался двинуться дальше.
- Если не возражаешь, я оставлю здесь ненадолго велосипед,- сказал он.- Хочу побывать у источника, а дорога туда очень уж ухабистая.
- Заходи пообедать на обратном пути,- сказал Энникстер. - У нас как раз сегодня жаркое. Один мой работник на прошлой неделе подстрелил в горах оленя. Правда, сейчас не охотничий сезон, ну да ладно. Я же мяса не могу есть. У меня живот сегодня даже прованского масла не приемлет. Возвращайся к шести.
- Спасибо, может, и зайду,- сказал Пресли, собираясь уходить.- Надо же,- прибавил он,- я смотрю, амбар у тебя почти готов.
- А ты думал,- ответил Энникстер.- Недельки через две все будет закончено.
- Большой получился! - проговорил Пресли, заглянув за угол дома, туда, где высилось внушительное строение.
- Пожалуй, прежде чем водворять туда скотину, придется устроить там танцы,- сказал Энникстер.- Таков уж в наших краях обычай.
Пресли пошел своей дорогой, но когда он был уже у ворот, Энникстер с полным чернослива ртом окликнул егo:
- Послушай, взгляни на овец, когда будешь подниматься на холмы. Они пасутся влево от дороги, примерно в полумиле отсюда. Ты такой большой отары, пожалуй, в жизни не видел. Можешь стишки о них сочинить: овечка - далечко, овцы в полях - свет в небесах. Что-нибудь в таком роде?
По мере того как Пресли подвигался вперед, теперь уже пешком, по ту сторону Бродерсонова ручья снова открылись широкие просторы бурой земли, покрытой щетинкой стерни, точно такой, как и на ранчо Деррика. Если смотреть на восток,- гладкая, унылая равнина в знойном мареве казалась беспредельной; подобно гигантскому свитку, она развертывалась вплоть до чуть мреющего вдали горизонта, и только разбросанные там и сям вечнозеленые дубы нарушали это унылое однообразие. Однако, если посмотреть через дорогу на запад, открывался совсем другой вид - поверхность земли теряла свою гладкость, она поднималась взгорьями к вершине самого высокого холма, где в гуще грушевых деревьев отчетливо виднелось здание старой миссии.
Произведения
Критика