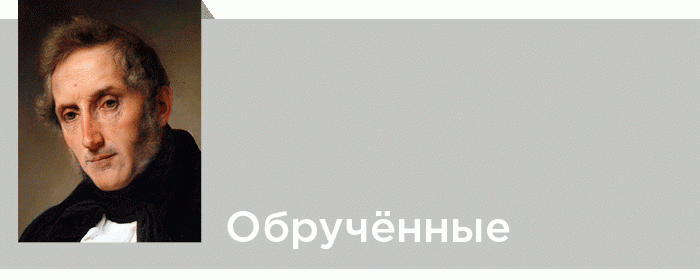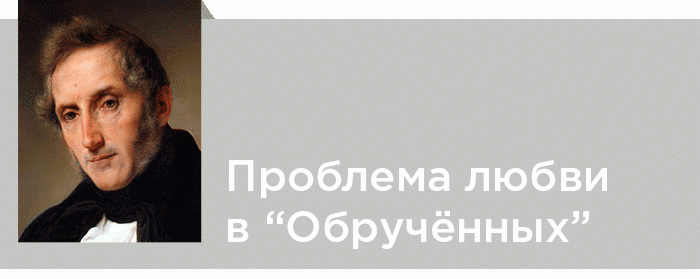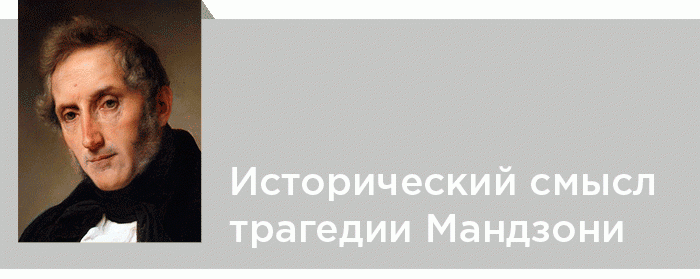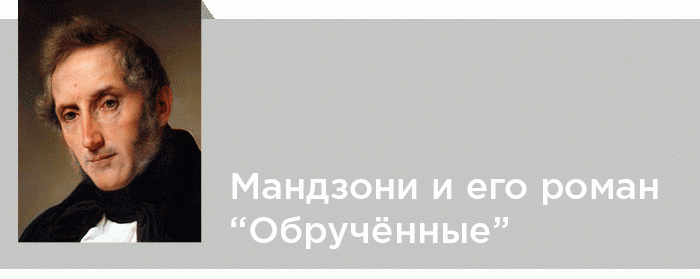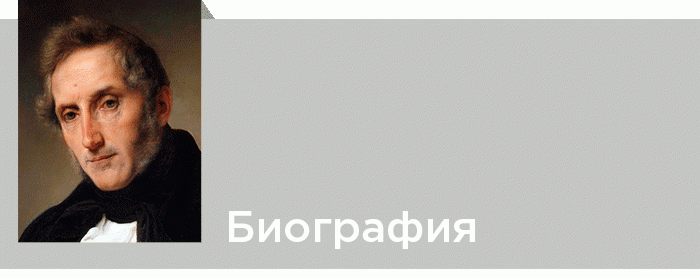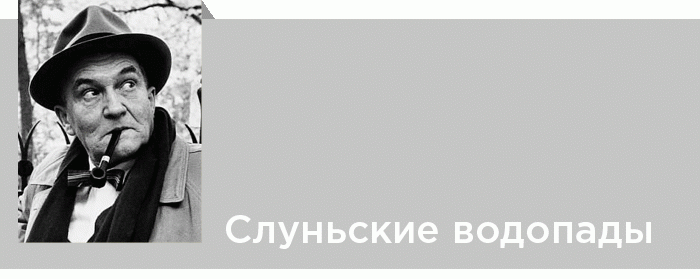Эдён фон Хорват. Юность без Бога

(Отрывок)
Негры
На моем столе стоят цветы. Приятно. Подарок славной хозяйки квартиры, у меня сегодня день рождения. Только стол сейчас мне понадобится, и я отодвигаю в сторону и цветы, и письмо от моих стареньких родителей. Мать пишет: «Милый сыночек, желаю тебе в день твоего тридцатичетырехлетия всего самого хорошего. Дай, Всемогущий Боже, тебе счастья, здоровья и довольства!» И отец пишет: «Дорогой сын, желаю тебе в день твоего тридцатичетырехлетия всего самого наилучшего. Дай тебе, Всемогущий Боже, здоровья, довольства и счастья!»
Ладно, думаю я себе, счастье нам всегда пригодится, да и здоров ты, слава Богу! Стучу по дереву. А вот доволен ли? По правде говоря, нет. Да ведь и никто же, в конце-то концов! Сажусь за стол, раскупориваю пузырек красных чернил и, испачкав пальцы, злюсь. Давно пора наконец изобрести такие чернила, чтоб не пачкались!
Да нет, однозначно, я не доволен.
Брось, не дури! — стараюсь приструнить себя. Ведь ты при стабильной должности с гарантированной пенсией, и это в наши-то дни, когда никто не знает, будет ли завтра Земля вообще вращаться. Еще чего! Да многие б пальчики себе облизали, окажись они на твоем месте! Как низок процент выпускников-педагогов, которым удается стать учителями? А ты, Бог милостив, принадлежишь к преподавательскому составу муниципальной гимназии и можешь позволить себе состариться и выжить из ума без больших материальных проблем. Можешь дожить хоть до ста лет и сделаться старейшим жителем отечества. На свой юбилей попадешь в газеты, а под фотографией будет стоять: «Он бодр еще духом». И это все еще при наличии пенсии! Окстись, не гневи Бога!
Ну да я не гневлю, а начинаю работать. Двадцать шесть голубых тетрадок лежат передо мною. Двадцать шесть мальчишек четырнадцати лет от роду писали вчера сочинение на уроке географии. Я, собственно, преподаю географию и историю.
А за окном солнышко. Эх, здорово наверное сейчас в парке! Но работа — долг, и я проверяю тетрадки, помечая у себя в блокноте, кто как справился.
Спущенная сверху тема звучит: «Почему нам необходимо иметь колонии?» Да, действительно, почему? Что ж, послушаем.
Первый ученик в списке начинается на Б, фамилия Бауэр, звать Франц. В этом классе нет никого на А, зато целых пять на Б. Редкость, столько Б на всего 26 учеников. Хотя двое Б — двойняшки, ладно. Автоматически пробегаю в своем блокноте весь список. Устанавливаю, что только количество С почти догоняет Б, точно, четыре на С, три на М, по два на Е, Г, Л и Р, по одному на В, К, Н, Т, Ф и Ц. И ни одного мальчика с фамилией на А, Д, Ж, З, И, О, П, У, X, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я. Ну, Франц Бауер, так для чего же нам колонии?
Мы нуждаемся в колониях, — пишет он, — поскольку нам необходимы природные ресурсы, без которых невозможно обеспечить нашу высокоразвитую промышленность, как того требует ее назначение и суть, вследствие чего наш отечественный труженик рискует снова остаться безработным.
И правда, дорогой Бауэр! Но дело тут не только и не столько в трудящихся, — да? а в чем же? — а, скорее, во всенародной целостности, потому что кто такие, в конце концов, трудящиеся как не народ.
Потрясающее открытие! Вне всякого сомнения. И тут мне приходит в голову, как часто в наше время старые истины подаются под видом свеженьких лозунгов. Или так было всегда? Не знаю. Сейчас я знаю только, что мне нужно прочитать 26 сочинений, в которых ложные предпосылки приводят к извращенным выводам. И хорошо б еще передергивание и ложь взаимоисключали друг друга. Ан нет, они идут рука об руку, распевая пустые фразы. И мне как государственному служащему уж лучше воздержаться от критики этого волшебного пения. Как ни обидно, но что ж я тут один против всех? Можно только втихомолку злиться. А злиться не хочется! Ладно, давай, давай проверяй скорей, ты ведь еще в кино хотел попасть.
Так, что у нас тут пишет Н.? «Все негры трусливы, лживы и испорчены». Это что за чушь? Я это перечеркиваю и хочу написать на полях красным: «Бессмысленное обобщение!» — но тут вдруг замираю. Стоп! Разве этой фразы о неграх я где-то уже не слышал? Вот только где? А, точно, она гремела в кафе из радиоприемника, чуть не испортила мне аппетит.
Значит так, оставляем фразу, как было, то, что сказано по радио, ни один учитель не смеет перечеркнуть в ученической тетради. И, читая дальше, я все еще продолжаю слышать радио. Оно сюсюкает, лает, завывает, воркует, грозит… а газеты перепечатывают, а дети переписывают все это себе в тетради.
Ну вот, заканчиваю букву Т и наконец Ц. А куда подевался Ф.? Я что, потерял тетрадку? Да нет же, Ф. вчера болел, простудился в воскресенье на стадионе, у него воспаление легких. Точно, отец же меня предупредил запиской. Бедняга Ф.! И понесло ж тебя на стадион в ледяной ветер и дождь?
Это ты себя спроси, вдруг доходит до меня. Ты же тоже там был в это воскресенье и проторчал вплоть до заключительного свистка судьи, хотя игра, которую показали обе команды, была далеко не первоклассной. Так почему ж, даже при явно скучной игре — почему ты остался? И ты, и еще тридцать тысяч таких же раскупивших билеты зрителей?
…Когда правый крайний обходит левого полузащитника и передает мяч в центр, когда центральный нападающий пасует на выход, а вратарь ловит мяч в падении, левый полусредний обходит защитника и устремляется по флангу, когда защитник выбивает мяч с линии ворот, идет жесткая силовая борьба, когда арбитр плох, хорош, пристрастен или беспристрастен, тогда ничего в мире, кроме футбола, не существует для болельщика, снег ли, дождь ли… Он обо всем забывает.
О чем это «обо всем»?
Не могу сдержать улыбки: видимо о неграх…
Дождь
Когда на следующий день я пришел в гимназию, то, поднимаясь по лестнице в учительскую, вдруг услышал со второго этажа страшный шум. Я поспешил наверх и увидел, как пятеро мальчиков, то есть Е., Г., Н., Р. и Т., избивают одного, то есть В.
Вы что? — заорал я на них. — Уж если приспичило метелиться, хоть деритесь один на один. А то пятеро на одного!
Они уставились на меня в недоумении. И даже В., на которого навалились
— Что он вам сделал? — спросил я, но герои помалкивали, и побитый тоже.
Для начала я выяснил, что В. не причинил этим пятерым никакого вреда, наоборот, это они стащили у него булочку с маслом, и не для того чтобы съесть, а просто чтобы отнять. Ее выкинули в окно, во двор. Выглядываю наружу. Вон она белеет на мокром темно-сером камне.
А может, у тех пятерых нет булочек, и их разозлило, что у В. есть? Да нет, у всех у них есть по своей булочке, а у Г. так даже две. И тогда я спрашиваю еще раз: «Почему вы это сделали?» Они и сами не знают. Стоят передо мной и смущенно ухмыляются. Да, похоже, человек по природе своей зол. Так ведь и сказано в Библии. Когда дождь перестал и воды Потопа спали, сказал Господь: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его.
Сдержал ли Бог свое обещание? Я пока не знаю. Но больше не спрашиваю их, почему они выкинули булочку. Я только спрашиваю себя, неужели они не слышали, что с начала времен возник неписаный закон: если уж дерешься, дерись один на один. Будь рыцарем.
И снова обернувшись к тем пятерым, я вопрошаю:
— Не стыдно вам?
Нет, не стыдно. Я говорю на чужом для них наречии. Таращатся на меня, и только побитый улыбается.
— Закройте окно, — говорю им. — Дождь.
Закрывают.
И что за поколение растет? Суровое или просто грубое?
Не сказав больше ни слова, я иду в учительскую. На лестнице останавливаюсь и прислушиваюсь: не дерутся ли снова? Нет, тихо. Удивительно.
Богатые плебеи
С десяти до одиннадцати у нас география. На этом уроке мне нужно раздать проверенную вчерашнюю работу о колониальном вопросе. Согласно предписаниям, возражения по содержанию сочинения не допускаются. Поэтому, раздавая тетрадки ученикам, я говорил лишь об орфографии, стилистике и других формальностях. Так, я сказал Б., чтобы он не заезжал на поля, P. — что абзацы надо делать побольше, а Ц. — что колонии пишутся через «о», а не калонии — через «а». Только возвращая тетрадь Н., не смог удержаться. «Ты пишешь, что мы, белые, по культуре и развитию стоим выше негров, и это, должно быть, правда. Но ты не имеешь права писать, что от негров не должно зависеть, жить им вообще или нет. Негры тоже люди».
Он посмотрел на меня упрямым взглядом, и по его лицу скользнуло неприятное выражение. Или мне почудилось? Он взял свою тетрадь с хорошей оценкой, поклонился, как полагается, и вернулся на свое место за партой.
Очень скоро выяснилось, что мне не почудилось.
Уже на следующий день отец Н. появился в моем кабинете в час еженедельных родительских посещений. Родители интересовались успехами своих чад, старались быть в курсе различных, по большей части незначительных, проблем воспитания. Это были почтенные бюргеры, чиновники, торговцы, офицеры. Ни одного рабочего.
Иной раз у меня возникало такое чувство, что родители думают о сочинениях своих отпрысков то же, что и я. Но, глядя друг на друга, мы только улыбались и говорили о погоде. Большинство отцов были старше меня, а один был и вовсе старик. Младшему через две недели должно было исполниться двадцать восемь. В семнадцать этот элегантный мужчина обольстил дочь промышленника. К гимназии он подъезжает в спортивной машине. Жена остается внизу, и мне ее видно сверху. Ее шляпку, руки, ноги. Больше ничего. Но она мне нравится. У тебя тоже мог бы быть сын, думаю я тогда. Но я не позволю себе произвести на свет ребенка. Только для того, чтобы его застрелили на войне?
Вот передо мной отец Н. У него уверенная походка, прямо смотрит в глаза.
— Я отец Отто Н.
— Рад с вами познакомиться, господин Н., — ответил я, поклонившись, как надлежит, и предложил ему сесть, однако садиться он не стал.
— Господин учитель, — начал он, — мое появление здесь имеет причиной крайне важное происшествие, которое, вероятно, может иметь серьезные последствия. Вчера вечером мой сын Отто рассказал мне в большом волнении, что вы позволили себе совершенно неслыханное замечание.
— Я?
— Так точно, вы.
— Когда?
— В ходе вчерашнего урока географии. Ученики писали сочинение по колониальному вопросу, и вы сказали моему Отто, что негры тоже люди. Вы понимаете, о чем я говорю?
— Нет.
Я действительно не понимал. Он смотрел на меня испытующе. Господи, подумал я, похоже, он идиот.
— Мое присутствие, — начал он снова, возвысив голос, — имеет причиной тот факт, что с самой ранней юности я стремлюсь к справедливости. Итак, я вас спрашиваю: это опасное высказывание о неграх с вашей стороны в такой форме и таком контексте действительно имело место или нет?
— Да, — сказал, я не сдержав улыбки. — И, таким образом, ваше присутствие здесь вполне оправданно.
— Мне очень жаль, — резко перебил он, — но я не расположен к шуткам. Вы до сих пор себе не уяснили, что подобное высказывание о неграх означает? Это вредительство Родине! Нет, меня вам не провести. Я знаю слишком хорошо, какими скрытыми путями, какими коварными лазейками проникает яд сентиментальной гуманности, разъедая невинные детские души.
Ну, это уж слишком.
— Позвольте, — вспылил я, — ведь еще в Библии написано, что все люди — люди.
— Когда писалась Библия, колоний в нашем смысле еще не было, — долдонит твердокаменный булочник. — Библию следует понимать фигурально. Вы верите, господин учитель, что Адам и Ева жили в реальности? Ну вот! Вам не свалить все на доброго боженьку, уж об этом я позабочусь!
— Ну, обо всем не позаботитесь! — сказал я, указывая на дверь. Просто его выставил.
— Встретимся у Филиппи! — крикнул он в дверях и исчез.
Два дня спустя я стоял перед Филиппи. Директор сам меня вызвал.
— Слушайте, тут пришла бумага из органов надзора. Некий булочник Н. жалуется, что вы позволили себе обронить замечание. Ну, я понимаю, как бывает, знаю, как срываются такие замечания, мне вы можете не объяснять. И все же, дорогой коллега, моя обязанность поставить вам на вид, чтобы подобное не повторялось. Вы позабыли о секретном предписание 5679 У/33! Мы должны оградить юношей от всего, что может отрицательно сказаться на формировании у них боевого духа, — это означает, что морально мы должны готовить их к войне. Точка!
Я смотрел на директора, а он улыбался и видел меня насквозь. Потом поднялся и заходил взад вперед. Славный он старик, подумал я.
— Вот вы удивляетесь, — сказал он вдруг, — что я трублю военные марши. И правильно удивляетесь! Вы сейчас, наверно, думаете: что за человек! Всего несколько лет назад еще подписывал пламенные воззвания к миру, а теперь? Готовит юное поколение к бойне.
— Я понимаю, вы вынуждены так говорить, — попытался я его успокоить.
Он прислушался, остановился передо мной, пристально на меня глядя.
Молодой человек, — сказал он серьезно. — Заметьте себе, я мог бы пойти наперекор духу времени и позволить господину булочнику засадить меня в тюрьму. Да, и мог бы пойти туда, но не хочу, прошу покорно, не хочу. А все оттого, что мне хочется дожить до пенсии и эту пенсию получать. В полном объеме.
Куда как понятно, подумал я.
— Вот вы считаете меня циником, — продолжил он, посмотрев на меня уж совсем по-отечески. — Но ведь мы все, мы, которые стремились к высотам гуманизма, забываем одно: время! Время, в которое мы живем. Дорогой коллега, кто повидал с мое, понемногу начинает проникать в суть вещей.
Легко тебе говорить, опять подумал я, ты-то жил еще в предвоенное время. А я? В последний год войны первый раз влюбился и не спрашивайте меня во что.
— Мы живем в мире плебеев, — грустно кивает он мне. — Вспомните хотя бы древний Рим, 287 год до Рождества Христова. Исход борьбы между патрициями и плебеями еще не был решен, но плебеи уже занимали ключевые государственные посты.
— Позвольте, господин директор, — осмелился возразить я, — насколько я знаю, нами правят не бедные плебеи. Правят деньги, одни только деньги.
Он опять взглянул на меня значительно, скрывая улыбку.
— А сейчас вы, не сходя с этого места, получите у меня «неуд» по истории, господин профессор! Вы совсем забыли, ведь есть и богатые плебеи. Ну же, вспомните!
И тут я вспомнил. Ну конечно! Богатые плебеи отделились от народа и составили вместе с выродившимися патрициями новую бюрократическую аристократию, так называемый «Оптимат».
— Больше не забывайте!
Нет, не забуду.
Хлеб
Войдя на следующем уроке в класс, в котором я позволил себе тогда высказаться о неграх, я сразу почуял что-то неладное. Не измазали ли господа учащиеся мой стул чернилами? Нет. Но почему же они тогда смотрят на меня так злорадно?
И тут один поднимает руку. Что такое? Он идет ко мне, слегка кланяется, вручает конверт и усаживается обратно.
Что бы это могло быть?
Вскрываю конверт, пробегаю письмо глазами, хочу было вскочить, сдерживаюсь и все-таки встаю. Да, все подписались, все двадцать пять, Ф. пока болеет.
«Мы больше не хотим, — говорится в письме, — чтобы вы нас учили, потому что после случившегося мы, нижеподписавшиеся, потеряли к вам доверие и просим дать нам другого преподавателя».
Я смотрю на нижеподписавшихся. Они молчат и прячут глаза.
Подавив волнение, спрашиваю как бы между прочим:
— И кто это написал?
Никто не вызывается.
— Ну же, не бойтесь!
Не двигаются.
— Хорошо, — говорю я, поднимаясь. — Меня больше не интересует, кто это написал. Вы же все подписались. У меня тоже нет ни малейшего желания преподавать в классе, у которого нет ко мне доверия. Я считаю, уж лучше с чистой совестью… — И тут я запинаюсь, заметив, как один из них пишет что-то под партой. — Ты что там пишешь?
Он пытается спрятать написанное.
— А ну-ка, дай сюда.
Отбираю у него запись, он глумливо ухмыляется. Записал каждое мое слово.
— Ах, вы будете за мной шпионить?
Он улыбается.
Я иду к директору, рассказываю ему, что произошло, и прошу дать мне другой класс. Он усмехается: «Вы думаете, другие будут лучше?» Потом провожает меня обратно в класс. Он бранится, он кричит, он неистовствует — великолепный актер!
— Какая наглость, — грохочет он, — что за гнусность, болваны, какое право имеете вы требовать другого учителя и что вам в голову взбрело, с ума вы посходили, и т. д. — А потом опять оставляет меня одного.
Вот они сидят передо мною. И как же они меня ненавидят! Уничтожили бы меня только потому, что невыносимо им слышать, что негр тоже человек. Да сами вы нелюди!
Ну погодите, друзья! Чтобы я из-за вас получил взыскание? Лишился своего куска хлеба? Чтобы мне стало нечего жрать? Обуть, надеть? Чтобы я потерял крышу над головой? Нет, этот номер у вас не пройдет! Впредь я вам буду рассказывать, что людей вообще нет, никого, кроме вас, и буду говорить так, пока негры вас не зажарят! Только этого вы хотите, и ничего другого!
Чума
Вечером того же дня мне не хотелось ложиться спать. Я пересматривал стенограмму своей речи и понимал — да, они хотят меня уничтожить. Будь индейцами, они привязали б меня к шесту и скальпировали, и, главное, — с чистой совестью.
Убеждены в своей правоте.
Жуткая банда!
Или я их не понимаю? Неужели в свои тридцать четыре я стал уже слишком стар? Или разрыв между нами больше, чем обычно между поколениями?
Сейчас мне кажется, что его не преодолеть. То, что эти ребята отвергают все, что для меня свято, даже еще не так страшно. Хуже, как они это отвергают, — ведь ничего не знают. Не знают — и знать не хотят.
Всякое размышление им претит.
Им плевать на людей! Они хотят быть машинами: винтами, колесами, колбочками, ремнями. А еще охотнее, чем машинами, они стали бы боеприпасами: гранатами, бомбами, шрапнелью. А с каким удовольствием они издохли бы где-нибудь на поле боя! Имя, высеченное на памятнике павшим, — мечта их юных лет.
Стоп! Но разве такая их готовность к самопожертвованию — не величайшая из добродетелей? Конечно, если за правое дело…
А тут, за что?
«Справедливо то, что полезно твоему племени», — вещает радио. А что нам без пользы, то, значит, и несправедливо. И тогда все дозволено: убийство, грабеж, поджег, клятвопреступление. И не просто дозволено; преступление не считается преступлением, если совершено оно в интересах твоего племени. А это что? Позиция преступника.
Когда богатые плебеи в Древнем Риме перепугались, что народ добьется-таки облегчения налогового бремени, они снова спрятались в крепость диктатуры. Они осудили патриция Манлия Капитолийского, который хотел вызволить должников-плебеев из долговой кабалы, осудили его на смерть как государственного изменника и сбросили с Тарпейской скалы. С тех пор как существует общество, оно не может отказаться от преступлений из самосохранения. Но раньше преступление замалчивалось, затушевывалось, его стыдились.
Теперь им гордятся.
Это — чума.
Мы все больны — и друзья, и враги. Наши души — налившиеся черные бубоны, скоро мы умрем. И будем жить дальше, но уже мертвыми.
Я тоже слаб душою. Когда читаю в газетах, что кого-то из них не стало, думаю: мало, слишком мало!
А разве не ты сегодня думал: да пошло оно всё? Нет, больше не могу, хватит уже думать! Все, умываю руки, иду в кафе. Там всегда кто-нибудь да сидит, с кем можно сыграть в шахматы. Только вон из комнаты! На воздух!
Цветы, подаренные хозяйкой в честь дня рождения, завяли. Выхожу в туман. Завтра воскресенье.
В кафе нет знакомых, никого.
Что делать?
Иду в кино.
Смотрю кинохронику про богатых плебеев. Они самим себе ставят памятники, закладывают мемориалы и принимают парады своей лейбгвардии. Потом маленькая мышка побеждает больших кошек, далее следует детектив, в котором много убивают для того, чтобы добро смогло, наконец, восторжествовать.
Когда я выхожу из кино, на улице уже ночь.
Но домой я не иду. Там страшно, у меня в комнате.
Неподалеку есть бар, можно бы выпить, если там дешево.
Тут недорого.
Захожу. Барышня, хочет составить мне компанию.
— Вы совсем один? — спрашивает.
— Да, — улыбаюсь я, — к сожалению…
— Можно к вам подсесть?
— Нет.
Обиженно отодвигается. Я не хотел ее обидеть. Не сердитесь на меня, фройляйн, но я один.
Эпоха Рыб
Заказав шестой шнапс, думаю: надо бы изобрести такое оружие, с помощью которого любое другое оружие можно было б выводить из строя, то есть некоторым образом противоположность оружию. Ах, если б я только был изобретателем, чего бы я ни наизобрел! Как счастлив стал бы мир!
Но я не изобретатель, и что, спрашивается, мир бы потерял, если б я вообще не появился на свет? Что сказало бы на это солнце? Кто жил бы в моей комнате?
Не задавай дурацких вопросов, ты пьян. Ведь ты уже есть. Да может, не родись ты, твоей комнаты и вовсе бы не было. И даже твоя кровать была бы, может, еще деревом. Так вот! Стыдно, старый осел, допытываешься с метафизическим рвением, как допотопный школяр, не переваривший еще первый любовный опыт. Не лезь в сокровенное, уж лучше пей свою седьмую рюмку. Я пью, пью. Дамы и господа, ох не люблю я мира! И всем нам желаю погибели! Но не просто гибели, а поизощренней, надо бы снова ввести пытки, да, пытки! Просто выбивать признание вины недостаточно, потому как человек по натуре своей зол.
Пропустив восьмую рюмку шнапса, я уже дружески кивал пианисту, хотя еще до седьмой рюмки его музыка изрядно меня раздражала. И я не замечал, что кто-то передо мной стоит и во второй уже раз ко мне обращается. Только с третьего раза его разглядел. Тут же узнал.
Это был наш Юлий Цезарь.
Уважаемый некогда коллега, преподаватель античной литературы в женской гимназии, он попал в дурную историю. Спутался с несовершеннолетней гимназисткой и был судим. Потом долго о нем не было ни слуху ни духу, потом я слышал, он торгует всякой дрянью вразнос. Он носил неимоверных размеров булавку для галстука — миниатюрный череп, в который вставлялась крошечная лампочка, подсоединенная к батарейке у него в кармане. Он надавливал пуговицу и глазницы черепа вспыхивали красным. Это такая была у него шутка. Потерянный человек.
И тут вдруг, уж не знаю, как так вышло, но он сел рядом со мной и между нами завязался горячий спор. Да, я был сильно пьян и помню только обрывки разговора.
Юлий Цезарь говорил: Почтенный коллега, все ваши рассуждения ломаного гроша не стоят. Самое время положиться на того, кому не на что больше надеяться, — такой человек способен непредвзято наблюдать смену поколений. Мы с вами, коллега, — два поколения, и юные паршивцы из вашего класса — еще одно, вместе, стало быть, — три поколения. Мне шестьдесят, вам около тридцати, этим паршивцам вашим по четырнадцати. Глядите! Определяющим моментом всей жизни человека являются переживания периода полового созревания, в особенности это касается мужского пола.
— Не вгоняйте меня в тоску, — отозвался я.
— Даже если и так, слушайте меня внимательно, не то взбешусь. Итак, главной, общей и единственной проблемой пубертата моего поколения была Женщина, то есть женщина, которой мы не добились. Потому что в те времена с этим было не так просто. Вследствие этого знаменательнейшим переживанием тех дней был для нас онанизм. И все наши последующие старомодные решения связаны с совершенно беспочвенным — о чем мы, увы, узнали слишком поздно, — страхом за его последствия для здоровья. Иначе говоря, мы споткнулись о Женщину и скатились в мировую войну. Во времена вашего полового созревания, коллега, война шла полным ходом. Мужчин не было, и женщины стали податливей. Вы были к этому не готовы, и, не дав вам опомниться, изголодавшиеся женщины набросились на вас, на юную поросль. Для вашего поколения женщина уже не была святыней, и потому вам подобные никогда полностью не удовлетворены, так как в глубине души вы тоскуете по чистоте, по святости, по недоступному. Одним словом, по онанизму. В этом случае уже женщины споткнулись о вас, юношей, и скатились к эмансипации.
— Коллега, вы эротоман.
— То есть?
— Для вас картина мира — это прежде всего отношения полов. Это отличительная черта вашего поколения, особенно в вашем возрасте. Но сколько можно валяться в постели! Вставайте, раздвиньте шторы, пустите внутрь свет и давайте выглянем в окно.
— И что же мы там увидим?
— Ничего хорошего. И все таки…
— Все с вами ясно — вы скрытый романтик. Попрошу больше меня не перебивать. Сядьте! Мы переходим сейчас к третьему поколению. То есть к сегодняшним четырнадцатилетним, для которых женщина вообще уже не проблема, ибо настоящих женщин просто не осталось. Есть только обученные, делающие гимнастику, марширующие и машущие веслами чудовища. Вы не обращали внимания, что женщины делаются все непривлекательней?
— Вы однобоки!
— Ну, скажите, кто может восхищаться таскающей рюкзак Венерой? Я — нет! Да-да, несчастье современных юношей в том, что у них не было пубертата — эротического, политического, морального. Все шиворот-навыворот, все в одной кастрюльке. Слишком много поражений празднуются как победы, слишком часто самые искренние чувства юности используются как пешки в игре. А с другой стороны, им же самим это удобно, нужно только переписать то, что болтают по радио — и вот уже получен высший балл. Но, слава Богу, есть единицы…
— Какие такие единицы?
Он боязливо оглядывается кругом, наклоняется ко мне.
— Я знаю одну даму, у нее сын ходит в реальное училище. Роберт его зовут, ему пятнадцать лет. Недавно он прочел одну книгу, тайно, нет, не эротическую, — нигилистическую. Называется она «О достоинстве человеческой жизни». Строжайше запрещена.
Мы посмотрели друг на друга и выпили.
— И вы верите что кто-то из них потихоньку читает?
— Не верю, а знаю! У той дамы собирается тесный кружок, и она уже вне себя. Мальчики читают всё. Но читают лишь затем, чтобы над этим поиздеваться. Они живут в раю глупости. Их идеал — насмешка. Холодные наступают времена. Эпоха Рыб.
— Рыб?
— Как астролог я всего лишь любитель, но Земля-то сейчас вступает в эпоху Рыб. И душа человеческая теперь застынет, как лик рыбы.
Это все, что сохранила моя память из длинного диспута с Юлием Цезарем. Помню только, что он, когда я говорил, все включал и выключал свой череп, чтобы как-нибудь меня сбить. Но я не терялся, несмотря на то, что был в стельку пьян.
Потом просыпаюсь я в незнакомой комнате. Лежу в чужой кровати. Темно, слышно чье-то ровное дыхание. Женщина. Спит. Блондинка ты, брюнетка, шатенка, рыжая? Не вспомнить. Как же ты выглядишь? Может быть, включить лампу? Да нет. Спи уж.
Осторожно встаю и подхожу к окну. Еще ночь, и ничего не видно. Ни улицы, ни дома. Везде один туман. И свет фонаря пробивается сквозь туман, как сквозь воду. Как будто окно мое выходит прямо под водой в море. И я больше уже не смотрю наружу. А то приплывут рыбы и заглянут внутрь.
Вратарь
Когда я утром вернулся домой, хозяйка меня уже ждала.
— Там господин, — сказала она, — он вас уже двадцать минут ждет. Я усадила его в гостиной. Вы-то, где же были?
— У знакомых. Они живут за городом, а я опоздал на последний поезд, и у них заночевал.
Я вошел в гостиную. Там у пианино стоял скромный человечек небольшого роста. Он листал ноты, и я не сразу узнал его. У него воспаленные глаза. Не выспался, пронеслось у меня в голове. Или плакал?
— Я отец Ф., — сказал он. — Господин учитель, вы должны мне помочь, происходит что-то ужасное. Мой сын умирает.
— Что?!
— Да. Он же страшно простудился, уже восемь дней как, на стадионе, на матче. Врач считает, спасти его может только чудо, но чудес не бывает, господин учитель. Мать еще не знает, я пока не стал ей говорить, сын только иногда приходит в себя, а так он все время в своих горячечных видениях, но, когда сознание к нему возвращается, он постоянно зовет одного человека…
— Меня?
— Нет, не вас, господин учитель, он мечтает встретиться с вратарем, с футболистом, тем, который, видно, так хорошо играл в прошлое воскресенье, он для него просто идеал! И я подумал, может, вы знаете, где бы мне найти этого вратаря.
— Я знаю, где он живет, — сказал я, — поговорю с ним. Идите сейчас домой, я приведу вратаря.
Он ушел.
Я быстро переоделся и тоже вышел. К вратарю. Он живет недалеко, у них магазинчик спортивных товаров, за прилавком его сестра.
Было воскресенье, магазин был закрыт. Но живет вратарь в том же доме, на третьем этаже.
Он как раз завтракал. В комнате полно наград. Он вызвался идти сразу же. Даже не доел завтрак и сбежал за мной вниз по лестнице. Взял такси и не позволил мне заплатить.
Отец встречал нас в дверях. Теперь он казался еще меньше ростом.
— Он не в себе, — сказал отец тихо, — и врач там. Заходите же, господа! Я вам так благодарен, господин вратарь!
В комнате была полутьма, в углу стояла разобранная постель. Там он и лежал. На подушке рыжая шевелюра, и до меня вдруг дошло, что он самый маленький в классе. И мать у него тоже небольшого роста.
Высоченный вратарь остановился в смущении. Вот он лежит перед ним, его преданнейший поклонник. Один из многих тысяч тех, кто приветствовал его с трибун, кричал громче всех, наизусть знал его биографию, просил автограф, кто с таким удовольствием сидел у него за воротами и кого служащие гнали прочь.
Вратарь тихонько сел у кровати и стал смотреть на Ф.
Мать наклонилась над постелью.
— Генрих, — позвала она, — вратарь пришел.
Мальчик открыл глаза, увидел вратаря.
— Здорово! — улыбнулся он.
— Ты меня звал, вот я и пришел.
— Когда вы играете с Англией? — спросил мальчик.
— А Бог его знает, — пустился рассуждать вратарь, — они там все перессорились в лиге, думаю, мы вряд ли уложимся в сроки. Нам надо ведь еще сначала сыграть с Шотландией.
— С шотландцами-то легче…
— Ну не скажи! Шотландцы бьют по воротам из любой позиции…
— Расскажи, расскажи!
И вратарь стал рассказывать. О славных победах и незаслуженных поражениях, о строгих третейских судьях и продажных лайнсменах. Он встал, взял два стула, разметил ими ворота и продемонстрировал, как отбил однажды одно за другим два пенальти, показал у себя на лбу шрам, заработанный во время отважного вратарского броска в Лиссабоне. Рассказывал о дальних странах, где он защищал свою цитадель, и об Африке, где среди болельщиков сидят вооруженные бедуины, и о прекрасном острове Мальта, где футбольное поле на беду вымощено камнем…
И пока вратарь рассказывал, маленький Ф. заснул. С блаженной улыбкой, спокойный и радостный.
Похороны состоялись в среду, днем, в половине второго. Светило мартовское солнце, до Пасхи было недалеко.
Мы стояли над свежевырытой могилой. Гроб был уже опущен.
Присутствовали директор, почти все учителя, не было только нелюдима физика. Священник произносил надгробную речь, родители и немногие родственники стояли не шевелясь.
А напротив нас полукругом расположились одноклассники усопшего, весь класс в полном составе, двадцать пять человек.
Рядом с могилой лежали цветы. Великолепный венок, на зеленой с золотом ленте, и надпись: «Последний привет! Твой вратарь».
И пока священник говорил о цветке, который сломался, едва распустившись, я отыскал глазами Н.
Он стоял за В., Г. и Л.
Я начал наблюдать за ним.
Его лицо ничего не выражало. Вдруг он взглянул на меня. Вот твой смертельный враг, подумалось мне. За падаль тебя держит. Берегись, когда вырастет. Тогда он все сокрушит, даже и саму память о тебе.
Как хотелось бы ему сейчас, чтобы там внизу лежал ты. Он и могилу бы твою сровнял с землей. Чтобы никто не узнал, что ты жил на свете.
Виду не подай, что знаешь, о чем он думает, вдруг пронеслось у меня в голове. Свои скромные идеалы держи при себе. За И. придут другие, придут следующие поколения, и не надейся, друг Н., что ты переживешь то, во что я верю. Меня, — может быть, но не мою веру.
И пока я так размышлял, я вдруг почувствовал на себе еще чей-то взгляд. Это был Т.
Он улыбался тихо, высокомерно и насмешливо.
Неужели угадал, о чем я думаю?
А он все улыбался, странно и неподвижно.
Два круглых прозрачных глаза не отрываясь глядят на меня. Без выражения, без блеска.
Рыба?
Тотальная война
Три года назад Министерство просвещения выпустило распоряжение, которым отменило обычные пасхальные каникулы. То есть вышло предписание, обязывающее все средние школы выезжать на пасхальные каникулы в палаточные лагеря. Под «палаточным лагерем» подразумевались допризывные военные учения. Учащиеся должны были классами выехать на «природу» и под руководством классных руководителей в течение десяти дней стоять лагерем, как солдаты. Должны были обучаться под руководством отставных унтер-офицеров, заниматься строевой подготовкой, маршировать, а также, начиная с четырнадцати лет, стрелять. Дети, понятно, были в восторге, ну и мы, учителя, тоже радовались, что поиграем в индейцев.
В пасхальный вторник жители одной захолустной деревни могли видеть подъезжающий мощный автобус. Водитель сигналил, будто едет на пожар, куры и гуси разлетались в панике, собаки лаяли, сбежались жители. «Вон, вон те ребята! Ребята из города!» В восемь утра мы отправились от нашей гимназии, а сейчас, когда остановились перед зданием местного совета, была половина третьего.
Бургомистр приветствует нас, начальник жандармерии отдает честь, деревенский учитель естественно тоже тут, и, немного погодя, появляется священник, — полный, приятный с виду господин.
Бургомистр показывает мне карту местности, где находится наш лагерь. Отсюда пешком — не меньше часа. «Фельдфебель уже там, — говорит инспектор. — Двое саперов уже разгрузили палатки. С самого утра!» Пока мальчики высаживаются и раскладывают по рюкзакам снаряжение, я изучаю карту: деревня располагается на высоте 761 метр над уровнем моря, мы поблизости от большой горной цепи, горы от 2000 и выше. А за ними горы еще более высокие и темные, с вечными снегами на вершине.
— А вот это что? — спрашиваю я бургомистра и показываю на карте строения на краю деревни.
— Это наша фабрика, — отвечает он, — самая большая лесопилка во всей округе. Но, к сожалению, в прошлом году она остановилась. Из-за нерентабельности, — поясняет он. — Теперь у нас на беду много безработных.
В разговор вступает учитель, он рассказывает, что лесопилка принадлежит концерну; он явно не симпатизирует акционерам и совету директоров. Я — тоже.
— Деревня бедна, — объясняет он, — половина народу — надомники, получают гроши, треть детей недоедает…
— Да-да, — улыбается инспектор жандармерии, — и это на фоне таких красот природы!
Прежде чем отправиться в лагерь, священник отзывает меня в сторону и говорит:
— Уважаемый господин учитель, мне бы хотелось обратить ваше внимание на одну мелочь: в полутора часах ходьбы от вашего лагеря находится замок, купленный государством, там сейчас поселили девушек приблизительно возраста ваших мальчиков. Присмотрите за своими питомцами, чтобы потом не было жалоб. — И он улыбается.
— Да, хорошо, прослежу.
— Не подумайте плохого, просто для того, кто тридцать пять лет оттрубил в исповедальне, полтора часа пешком — не расстояние, — смеется он. — Заглядывайте ко мне, господин учитель. Мне как раз привезли отличное молодое вино!
В три часа отправляемся. Сначала идем ущельем, держимся правее, расселина остается сзади, пахнет смолой, лес все тянется. Наконец он становится реже, перед нами поляна, там и становимся лагерем. Горы близко. Фельдфебель и оба сапера сидят на палатке и режутся в карты. Заметив наше приближение, они вскакивают, и фельдфебель рапортует мне по-военному. Лет пятидесяти, офицер запаса. В простых очках, лицо радушное.
Начинается работа. Саперы и фельдфебель показывают мальчикам, как ставятся палатки, я ставлю их вместе с учениками. В центре оставляем площадку, потом мы установим там знамя. Через три часа палаточный городок готов, саперы отдают честь и спускаются обратно в деревню. Около флагштока стоит большой ящик, в нем сложены винтовки. Мишени уже установлены, фанерные солдаты в иностранной форме. Наступает вечер, мы разводим костер, готовим ужин. Едим с аппетитом, поем солдатские песни. Фельдфебель выпил шнапсу, охрип. Вот со стороны гор начинает дуть ветер.
— Это с ледников, — кашляя, говорят мальчики.
Я вспоминаю умершего Ф.
Да, ты был самым маленьким в классе. И самым добрым. Наверное ты единственный, кто не сказал бы ничего плохого о неграх. Потому и ушел. Где-то ты теперь?
Забрал ли тебя ангел, как в сказке? Взял с собой и унес в те места, где играют в футбол блаженные? Где вратарь тоже ангел, и судья, он свистит, когда кто-нибудь летит за мячом на крыльях. Там, на небесах, это считается положением вне игры. Хорошее у тебя место? Еще бы! На тех трибунах все сидят в первом ряду, прямо по центру, а злые служители, вечно отгонявшие тебя от ворот, торчат за последними скамьями, и ничего им оттуда не видно.
Наступает ночь. Мы отправляемся спать. «Завтра начнем уже всерьез!» — роняет фельдфебель. Ему спать в седьмой палатке, вместе со мной.
Захрапел.
Я в очередной раз включаю карманный фонарик, чтобы взглянуть на часы, и обнаруживаю на стенке палатки рядом с собой красно-бурое пятно. Это что?
Я думаю: завтра начнется всерьез. Да, всерьез. У флагштока в ящике притаилась война. Да, война.
Мы стоим в поле.
А я все думаю. Об обоих саперах и фельдфебеле в запасе, которому все еще приходится командовать, о фанерных солдатах, на которых тренируются стрелять. Я вспоминаю директора гимназии, Н. и его отца, как назвал его Филиппи, — господина булочника, я думаю о лесопилке, которая больше не пилит, акционерах, которые, несмотря на это, продолжают получать дивиденды. О жандарме, который улыбается, священнике, который пьет, неграх, не имеющих права на существование, надомных рабочих, у которых нет к существованию средств, Министерстве образования и недоедающих детях. И о рыбах…
Мы в поле. Но где же фронт? Дует ночной ветер, фельдфебель храпит. Что это за красно-бурое пятно? Кровь?
Произведения
Критика