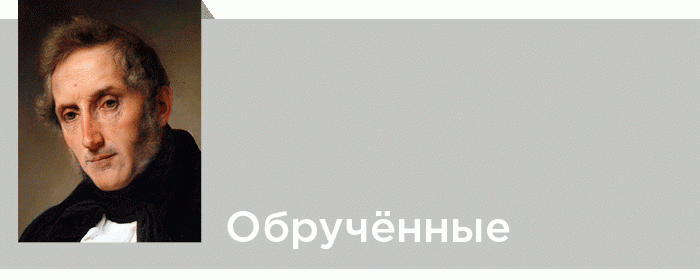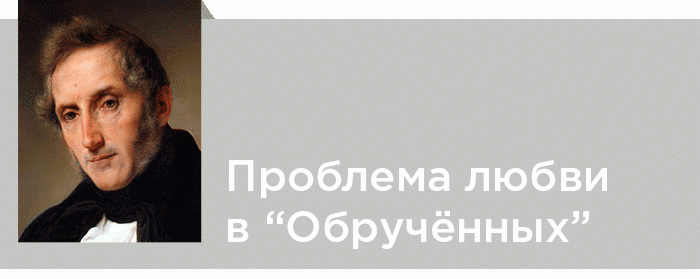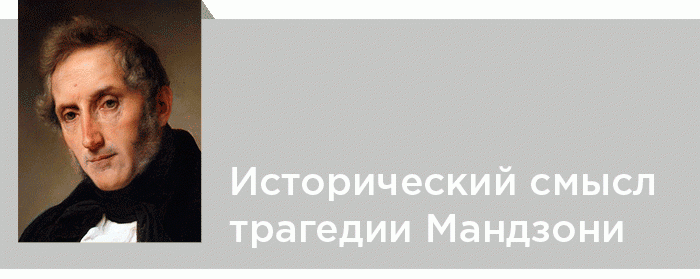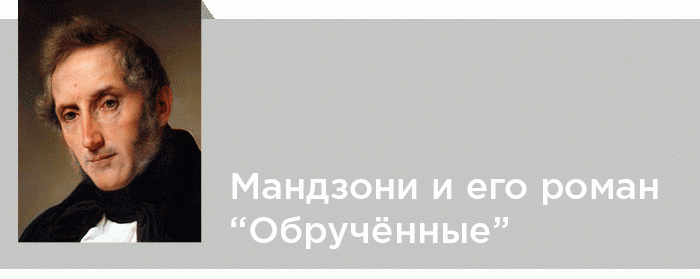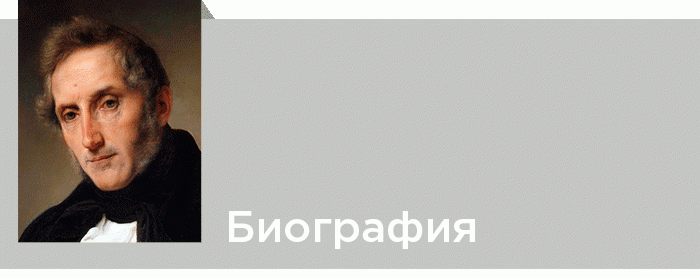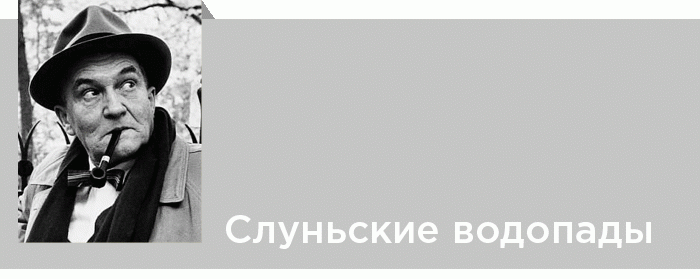Возвращение Эдёна фон Хорвата

Ю. Архипов
1961 году гамбургский издатель Эрнст Ровольт выпустил два сборника пьес своих ровесников и друзей, погибших в годы антифашистской эмиграции, — немца Вальтера Газенклевера и австрийца Эдена фон Хорвата (ödön von Horvath). То были книжки-близнецы в одинаковых серийных глянцевитых обложках. И назначение у них, казалось, было одинаковое: отчасти мемориальное, отчасти историко-литературное. Но у этих книг оказались разные судьбы.
«Поминки по Газенклеверу» не вышли за пределы чинного академического интереса. Не то Хорват. После двадцатилетнего забвения его имя вновь замелькало — сначала в статьях и исследованиях о европейском театре XX века, затем — на театральных афишах. В Австрии и ФРГ появились теле- и киноэкранизации его пьес, одна задругой стали выходить многочисленные диссертации о творчестве писателя; в 1972 году было завершено четырехтомное собрание его сочинений. И главная посмертная радость для драматурга — его пьесы уверенно и дружно вернулись в живую театральную жизнь нашего времени. В последние годы Хорват перешагнул границы немецкоязычных стран, завоевывая подмостки Франции, Италии, Скандинавии. Интересные постановки пьес Хорвата осуществлены в Польше и Венгрии.
И еще один важный штрих «возрождения» Хорвата: о нем восторженно отзываются молодые, но уже именитые драматурги Австрии и ФРГ, и притом такие разные, как Петер Хандке и Франц Ксавер Крёц, называющие Хорвата своим учителем.
В чем же причины такой теперешней популярности Хорвата? Что делает его столь «современным» в глазах зрителей и читателей наших дней? Думается, раньше, чем отвечать на этот вопрос, логичнее разобраться в том, что за писатель был Эден фон Хорват, обратившись к вершине его драматургического творчества — триаде пьес начала 30-х годов: «Итальянская ночь» (1931), «Сказки Венского леса» (1931) и «Казимир и Каролина» (1932).
Но прежде — несколько необходимых слов о биографии писателя. Эден фон Хорват (1901-1938) родился в семье австрийского дипломата и в детстве исколесил всю Европу. В начале 20-х годов он изучал германистику в Мюнхенском университете. С 1924 по 1933 год жил в Берлине. После фашистского переворота вернулся — в числе многих других австрийских писателей, живших в Германии,— на родину. «Аншлюсе» заставил его эмигрировать по политическим соображениям в Швейцарию.
В силу особенностей биографии и творчества Хорват — один из тех писателей, которые принадлежат и австрийской и немецкой литературе и театральной культуре. Об этом следует помнить, не удивляясь «чисто немецкой» проблематике, нередкой у австрийца Хорвата. Пример его хорошо показывает, что справедливую мысль о самостоятельности австрийской литературной традиции нельзя доводить до абсурда, создавая искусственный водораздел там, где его не было в действительности.
Пьесы Хорвата – это пьесы из народной жизни, и писатель по праву назвал их «фольксштюками» — народными пьесами. Сознательно относя себя к традиции Нестроя, то есть к традиции венского народного театра, в одном письме драматург признавался, что самым заветным его желанием всегда было «давать имя тому, что безымянным встречается в жизни, как это делал Нестрой».
Однако в изображении людей из народа у Хорвата нет и тени слащавости бидермайера. Циничная власть денег, развязывающая настоящую вакханалию низменных страстей, как это особенно выпукло и страшно показано в «Сказках Венского леса», проникает и в пролетарскую толщу.
Хорват показывает, что крайняя нужда может лишить человека человеческого лица, сделать его потенциальным преступником. Или — восприемником нацистской идеологии. Хорват рано осознал опасность нацизма и не уставал предупреждать о ней. Когда в 1930 году национал-социалисты добились политического успеха на выборах в рейхстаг, Хорват тотчас же откликнулся на это событие пьесой «Итальянская ночь». Именно ее не могли простить драматургу фашисты. В феврале 1933 года, через полтора года после ее премьеры, когда пьеса была уже запрещена в фашистской Германии, газета «Фёлькишер беобахтер», орган нацистов, писала: «Эден фон Хорват имел наглость издеваться над национал-социалистами. Его «Итальянская ночь» рисует нас как трусов; ну, мы этому Эдену еще покажем!»
Действие пьесы происходит в питейном заведении одного из маленьких городков на юге Германии. В его завсегдатаях — «республиканцах» — нетрудно распознать социал-демократов. Возглавляющий их бургомистр интересуется, однако, больше картами, нежели политикой. Для успокоения единомышленников — и самоуспокоения — у него всегда наготове фраза: «Никакой серьезной угрозы демократической республике нет и в помине. Уже потому хотя бы, что реакция не располагает идеологическим фундаментом».
Бургомистр, таким образом, — лидер правого, трусливого крыла республиканцев. Руководитель радикально настроенного крыла Мартин (не свободный, правда, от «перегибов» левого свойства) понимает, что активная борьба с фашистами — настоятельная потребность времени, но все его усилия наталкиваются на самодовольную инертность большинства партии республиканцев.
Жутковатый оттенок придает речам бургомистра тот факт, что когда-то, лет десять, скажем, назад, им соответствовало реальное содержание — в конце Первой мировой войны пацифизм в определенной степени был оправдан. В новой же исторической обстановке его слова о мирных средствах как бы оторвались от своего содержания, стали пустой шелухой, но приобрели самодовлеющее значение в обывательском сознании, по-страусиному прячущемся от действительности в привычную фразу:
«Бургомистр. Коллеги! То, чего требует Мартин, невыполнимо. Мы не последуем примеру реакции! И мы не возьмемся за оружие! Но дадим отпор тем, кто осмелится поднять руку на республику.
Мартин. Каким же образом?
Бургомистр. О нашу несокрушимую волю к миру обломятся все штыки международной реакции!
Первый товарищ. Подумаешь, святой апостол нашелся! Пустые слова!
Бургомистр. Ничего не пустые слова! Мы больше не хотим слышать об оружии, я сам потерял на войне двух братьев жены!
Четвертый товарищ. А на будущей войне очередь будет уже за нами.
Бургомистр. Войны просто не может быть! Этого преступления мы больше не допустим! Беру это на себя.
Мартин. Коллеги! Если так пойдет и дальше, мы уже завтра окажемся в священной римско-муссолиниевской империи немецкой нации!»
Этот небольшой отрывок из пьесы содержит многие особенности драматургической техники Хорвата. Эпизод как будто взят из жизни, но «уплотнен», сатирически заострен отдельными, хотя и довольно откровенными — в духе народной комедии или «примитивной» живописи — мазками. Комизм ситуации — в том, что бургомистр вовсе не осознает, сколь убийственна его речевая автохарактеристика. Главное в ней — приверженность словам, «заклинающим» действительность, пристрастие к трескучему дежурному лексикону. Бургомистр потому и жалок в своей беспомощности и наивен в самодовольном преувеличении роли собственной персоны, что не наделен живым сознанием, а находится в рабстве у омертвелых фраз, как осколки, застрявших в его мозгу.
Республиканцев хватает только на весьма безобидную, но помпезно ими раздутую «параллельную акцию». Узнав, что фашисты готовятся провести в пивной «Немецкий день», они замышляют контрвыступление — «Итальянскую ночь». Слухи об этом доходят до фашистов, и они окружают пивную, собираясь расправиться с противниками, — республиканцев выручает лишь случай.
Изображая зловещую атмосферу накануне фашистского переворота, Хорват точен в расстановке акцентов. Он показывает, как обыватель поддается фашистскому психозу, как устраиваемые фашистами манифестации — с музыкой, факелами, пышной бутафорией, театрально взвинченными речами — увлекают сонную толпу, захваченную иллюзией разрыва с обыденностью, скукой. Люди самого бесцветного существования — женщины с улицы — льнут к фашистам, воспринимая их манифестации как что-то вроде маскарада или занимательной кинохроники. (Примечательно, что в наши дни эту ситуацию точно так же изобразит поклонник Хорвата Петер Хандке в повести «Несчастье без желаний», 1972.)
Но и сознающий опасность фашизма Мартин не вызывает у нас безраздельной симпатии. Фанатически увлеченный абстрактными политическими построениями, глобальными теоретическими реформами, он равнодушен к жизни близкого человека — спокойно посылает возлюбленную соблазнять фашистских молодчиков, чтобы выведать секреты политических противников. С его точки зрения, честь любимого человека — пустяковая жертва «общему делу». Увлечение администрированием, фетишизация того, что он считает «дисциплиной», доходят до смешного — так, он запрещает своему подопечному Карлу принимать участие в танцах — поскольку это занятие «буржуазно» легкомысленное.
Между политическими убеждениями Мартина и его интимными отношениями с Анной лежит пропасть, которую лишь прикрывают привычные слова. Когда Мартин пытается объяснить Анне, что ее стыд и ревность — всего лишь «иллюзии» и «преодоленные проблемы», она воспринимает его речь как «литературно немецкую» (hochdeutsch), чужую, отличную от живого разговорного языка.
О чем бы ни говорили персонажи Хорвата — о политике, войне, инфляции, проституции, безработице, личной ответственности, долге, призвании, жизненных ценностях и проблемах — это всегда разговор о том, «чего не ведает никто», чего никто из говорящих не представляет себе с достаточной ясностью. Персонажи Хорвата пользуются готовыми формулами — и пытаются убедить друг друга, склонить на свою сторону. У них нет слов, чтобы выразить действительные чувства, и они хватаются за клише, ходячие обороты, затуманивающие сначала их мышление, а затем подчиняющие и сами чувства. Подобные «лингвистические разоблачения» Хорвата звучат в условиях Запада поразительно современно.
Пьеса «Сказки Венского леса» получила заглавие от названия знаменитого штраусовского вальса — ко времени Хорвата он стал символом ушедшей Вены, несколько мишурной и театральной, но по-своему блестящей, Вены беззаботной, бездумной, танцующей — с очаровательной наивностью как бы впархивающей в катастрофический XX век. Разумеется, это поверхностный образ города, заслоняющий Вену Гайдна, Моцарта и Бетховена, высочайших в истории парений духа. И в XX веке Вена знала упорный труд, напряженнейшую работу мысли, дала миру влиятельнейшие школы в музыке и философии, а в литературе — столь значительные имена, как Музиль, Брох или Додерер.
Но Хорват изображает ту, иную Вену и на венский манер переносит трагедию в бытовую, приватную сферу. Мещанская среда показана в период острого экономического кризиса. Действие пьесы строится вокруг самой «обыкновенной истории»: Марианна уходит от постылого жениха, мясника Оскара к красавцу Альфреду. Но, потеряв работу, Альфред не в состоянии прокормить себя и возлюбленную, и Марианна вынуждена выступать за два шиллинга в ночных барах, чтобы не умереть с голоду. Нужда полностью определяет все заботы и помыслы мирка, в котором живут Альфред и Марианна. Как о чуде здесь мечтают о выигрыше в лотерее или на скачках. С точки зрения этой нужды любой политический переворот, установление любой «сильной» власти оправданы, если принесут с собой хоть какое-нибудь улучшение материального положения. Целый ряд деталей свидетельствует о проникновении в обывательскую среду профашистских настроений: распаленные вином и зрелищем голых девиц, бюргеры запевают о «Великой Германии»; заезжий студент из Касселя Эрих демонстрирует «вялым австриякам» бравую выправку и меткую стрельбу; отец Марианны Цауберкениг во время вечеринки начинает в духе Гитлера трактовать политическую ситуацию, громогласно призывает к войне и т. д.
Нужда способна пробудить в человеке нечеловеческую жестокость. Альфреда она делает детоубийцей: поскольку иметь детей в такое время, когда едва можешь прокормить самого себя, — «верх неразумного», он принимает меры, чтобы избавиться от младенца, родившегося у них с Марианной. Происходит это с благословения и при участии «доброй венской бабушки», выставляющей ребенка на сквозняк, чтобы он простудился. Зловещий гротеск Хорвата показывает, во что превратил «его препохабие» капитал простодушных и уютных героев венской народной комедии прошлого века — ремесленников, мелких торговцев, скромных служащих, студентов, певиц и гризеток.
Нужда делает невозможным брак Альфреда и Марианны. Их непрочный союз «по любви» распадается, но образуются два других: хеппи энд выдержан в тонах мрачной иронии. Два новых союза — по сути дела, два поражения обоих главных персонажей: Альфред приходит к стареющей, но имущей Валерии, Марианна возвращается к нелюбимому, но имущему Оскару.
Каноны венского народного театра Хорват словно выворачивает наизнанку. Традиционные свадьбы в конце пьесы — откровенная издевка над сусальной умильностью; за ними — бездна отчаяния и одиночества людей. Не по своей воле «выломившихся» из жизни.
Так же как персонажи «Итальянской ночи», герои «Сказок» плутают по действительности, не умея составить о ней адекватного представления. Они понимают, что «все пошатнулось», но начисто лишены способности проникнуть в суть совершающегося кризиса, лишены навыков самостоятельного политического мышления, а потому становятся жертвами нацистской идеологии, спекулирующей на такого рода невежестве.
«Сказки Венского леса» — заметная веха на драматургическом пути Хорвата. В дальнейшем на передний план его пьес выходят личные драмы и индивидуальные судьбы, общественные проблемы времени отражаются опосредованно — постепенно уходят в подтекст, а порой (в годы эмиграции) лишь смутно угадываются. Конечно, политический темперамент Хорвата не угас, но растущая сложность и острота социальных проблем требовали от него обязательств идеологического характера, которых Хорват не хотел или не мог на себя взять.
Особое внимание к индивидуальной судьбе отчетливо просматривается в пьесе «Казимир и Каролина», где поставлен решающий вопрос того времени: как же быть «маленькому человеку» дальше? По характерности судьбы безработного эта пьеса сравнима именно с известным романом Фаллады, а также с «Фабианом» Кестнера или «Берлин - Александерплац» Дёблина.
Фон здесь такой же красочный, как в «Сказках Венского леса», — осенняя ярмарка в Мюнхене, на которой безработный шофер Казимир и его голодная подруга, не лишенная «амбиции», теряют друг друга, чтобы — смирившись с поражением, как Альфред и Марианна, — променять свою любовь на кусок хлеба.
В каждой пьесе Хорвата есть ключевые места, содержащие «код» всего произведения. В пьесе «Казимир и Каролина» это разговор Каролины с мелким чиновником Шюрцингером, который подбирает ее после бегства Казимира:
«Каролина. ...Ах, люди везде злые, как говорится.
Шюрцингер. Так нельзя говорить, барышня! Люди ни хороши, ни дурны. Просто наша современная экономическая система заставляет их быть более эгоистичными, чем есть на самом деле, иначе они не выживут. Вы меня поняли?
Каролина. Нет.
Шюрцингер. Сейчас поймете. Допустим, вы любите одного человека. И, допустим, этот человек становится безработным. Тогда любовь сразу же проходит — автоматически.
Каролина. Вот уж ни в жизнь не поверю!
Шюрцингер. Определенно.
Каролина, Ну, нет! Если человеку не везет, порядочная женщина только сильнее привязывается к нему. Я себе это так представляю.
Шюрцингер. А я не так».
Здесь и общая правда — связь любви с расчетом в буржуазном мире, — и не менее убедительная частная (но глубоко типичная!) психологическая правда образа Каролины, ее мыслей, слов, поведения. Сын своего времени, Шюрцингер настаивает на том, что любовь, утратив материальную базу и социальную престижность, «автоматически» прекращается — в его словах ироническая перекличка с эпиграфом, взятым из первого послания апостола Павла к коринфянам: «Любовь никогда не перестает». Каролина категорически отвергает мысль Шюрцингера, потому что она идет вразрез с ее мещанскими идеалами, вернее, «жаргоном» образованных и воспитанных на романтической литературе людей, усвоенным из кино и чтения бульварных романов о «благородных» героях. В то же время, уходя к нелюбимому Шюрцингеру, она подкрепляет правоту его слов, собственной судьбой «иллюстрирует» самоуверенно излагаемое им правило. Делает она это бессознательно. В ее «сознании» — совсем иная мотивировка этого поступка; ей кажется, что она уходит от Казимира не потому, что «его выбросили», а потому, что он видит в своей безработице причину ее плохого настроения, изменившегося отношения к нему, то есть как бы подозревает ее в предательстве. Это «оскорбляет» Каролину, и, «обидевшись», она уходит, то есть все-таки действительно предает его, переложив вину за разрыв на него и считая себя правой. Такое отчуждение собственного сознания — факт, многократно и всесторонне исследуемый мировой литературой XX века; Хорват рассматривает его самые наглядные, первичные формы — убедительные свидетельства социально-исторической обусловленности отчуждения.
Ярмарочное веселье выглядит в пьесе зловещим контрастом по отношению к одиночеству героев. Кругом пьют и веселятся, но радио звучат романсы, в парке гремит джаз, слышится смех, визг, а героев гложет мысль о беспросветности существования, гложет элементарный голод — и вся эта праздничная кутерьма воспринимается ими как надувательство, как обман. Каролина и Казимир бесцельно слоняются среди жующих и веселящихся — непричастные к жизни, опустошенные, сами как механические фигурки в чудовищной карусели жизни, которая носит их туда-сюда, а потом выбрасывает «с поломанными крыльями», как констатирует Каролина с ее тягой к красивым словам.
Любовь — вот по традиции (литературной, романтической, немецкой особенно) сила, которая в состоянии преодолеть губительную механичность серенькой, повседневной жизни, принижающих душу забот о куске хлеба. Но Хорват недаром писал в 1932 году, что «за последние двадцать лет герой невероятно изменился» — он оказался в ситуации такой «социальной несвободы», что спасти его не под силу и всемогущей любви. Закон выживания в обществе, где «каждый умирает в одиночку», налагает вето на любовь и всякие высокие чувства; жизнеспособность, сила, шансы на успех равны здесь глубине нравственного падения, решительности разрыва с такими «предрассудками», как чистота, честь и т. д.
По словам австрийского писателя Альфреда Польгара, создания Хорвата — фигуры, из которых «вынута пружина морали». В их жестокости друг к другу есть что-то зоологическое, они «кусаются, чтобы не быть укушенными». Однако взгляд Хорвата на человека лишен внеисторического пессимизма. Как говорит Эрна в пьесе «Казимир и Каролина», «люди совсем не были бы плохими, если бы им не жилось так плохо. Это — чудовищная ложь, что человек плох сам по себе».
Не случайно слова эти вложены в уста женщины. Женские персонажи — единственные у Хорвата, имеющие отношение к «возвышенному», к «поэзии». Правда, здесь поэтичность неразрывно слита с мещанской «эстетикой» пошлых красивостей, но тут нет их вины, это — целиком социальная беда. Анна и Лени в «Итальянской ночи», Марианна в «Сказках Венского леса», Каролина и Эрна в «Казимире и Каролине», Элизабет в пьесе «Вера, Любовь, Надежда», разумеется, далеки от совершенства, они несут на себе груз социальных предрассудков, как и мужчины, но от мужчин, героев этих пьес, их отличает тяга к иной, светлой и чистой жизни. Свою любовь они выражают при помощи навязанных обществом знаков — открыток с голубками, надрывных романсов и т. п., но источник этой любви незамутнен, хотя и не всегда может пробиться сквозь словесный и понятийный мусор. Однако именно в обаятельных героинях Хорвата сосредоточен заложенный в его пьесах «принцип надежды» — на то, что живая жизнь одолеет мертвечину мещанских стандартов и ложных лозунгов.
Стремление к документальности, точности, политической заостренности сближает Хорвата с развивавшимся на рубеже 20-30-х годов в литературе и искусстве течением — «новой деловитостью». Однако в отличие от «чистых» драматургов «новой деловитости», таких, как Петер Мартин Лампель или Курт Корринт, с их безжизненным схематизмом и марионеточностью персонажей, Хорват берет своих героев из самой жизни. Он предлагает публике ее собственные цитаты, подслушанные в берлинских «локалях» и венских кафе, где он просиживал над рукописями до утра, или на ярмарках, до которых был большой охотник. Но он доподлинно знал и язык аристократических и буржуазных салонов, куда был вхож благодаря происхождению и ранней славе. Критики поражались интонационной верности диалогов Хорвата; друзья, знавшие его как блестящего рассказчика, сожалели, что он не мог сам исполнить все роли в своих пьесах.
Политическая злободневность, беспощадность обличения буржуазного миропорядка сближали Хорвата с пролетарскими драматургами — вплоть до текстуальных совпадений (сюжетная линия «Цианистого калия» Фридриха Вольфа, где речь идет, по замечанию Э. Шумахера, «об изнасиловании женщины буржуазной конституцией», — и сходным образом решенная тема в пьесе «Вера, Любовь, Надежда»). Но, в отличие от пролетарских писателей, позитивная программа у Хорвата почти отсутствует.
Как и Брехт, Хорват был противником «услаждения» публики и тоже делал ставку на педагогическую функцию театра, хотя и понимал ее совершенно иначе.
В театре, по Хорвату, «обучается» не разум, а душа, психика, подсознание. Театр «отводит» темные асоциальные инстинкты, посредством стародавнего катарсиса «сублимирует» их в процессе эстетического сопереживания. Именно в этом он видит «благородную педагогическую задачу театра». «Театр никогда не исчезнет, — писал Хорват, — потому что люди всегда будут желать учиться в названном смысле — и чем сильнее будет коллективизм, тем больше будет фантазия. Пока идет борьба за коллективизм, этому еще не время, но позже оно наступит — я иногда думаю о времени, которое назовут пролетарским романтизмом (уверен, что оно придет). Своей демаскировкой сознания я достигаю нарушения инстинкта убийства».
«Пролетарский романтизм» и «нарушение инстинкта» — это характерное сочетание тех лет, когда интерес к социологии и социальным преобразованиям сочетался с не менее жгучим интересом к проблемам массовой и индивидуальной психологии. Соединение того и другого осуществляется Хорватом по-писательски увлеченно, но не очень органично — примерно так, как десятилетия спустя это произойдет у «новых левых».
В пьесах Хорвата сохранилось много традиционных компонентов венского народного театра — прежде всего, изображаемая среда, характерные персонажи из народа, с их беззастенчивой прямотой поступков и метким языком, своеобразное словесное (увы, непереводимое) озорство в игре со словом, это постоянное включение в текст классических водевильных куплетов, песен, музыки. Музыка, правда, в пьесах Хорвата — в нарушение традиции — редко созвучна действию; как правило, она составляет контрапункт по отношению к нему: так, ностальгическая музыка «Сказок Венского леса» подчеркивает каннибальскую сущность мещанства, прячущуюся под маской благопристойности, «вальсового» изящества и типично венской легкости.
В духе венского народного театра и самая атмосфера пьес Хорвата,— подлинное чувство в них слито с сентиментальной чувствительностью. В эту несколько засахаренную традицией атмосферу у Хорвата врывается резкий, жестокий гротеск — порождение новых, небывалых по драматизму отношений «душ» и «вещей», новых, ожесточившихся социальных коллизий. Чуткий к общественно-историческим переменам своего времени, Хорват, в стремлении передать их на театре, оказался новатором и даже реформатором венского «фольксштюка».
Заслуга Хорвата-писателя в том, что он сознательно заострил внимание на связи между социальными процессами и языком их носителей, то есть именно и прежде всего через язык изобразил сами социальные процессы. Речь его персонажей — уже не колоритный диалект поселян или городских предместий и окраин, который мы привыкли встречать в народной драме или «региональной» литературе XIX века, а «жаргон образованных» — своеобразное и характерное для урбанизированного индустриального общества XX века явление. Этот жаргон прежде всего бросается в глаза, составляет самую характерную особенность пьес Хорвата, ибо драматург сознательно «нажимает» на эту особенность, возводит ее в драматургический принцип.
Однако в отличие от шумной группы молодых австрийских драматургов, ныне считающих себя его учениками (Хандке Бауэр, Туррини), Хорват не рассматривает «жаргон» (и вообще язык) как самоцель художественных конструкций, он видит в нем лишь средство социальной характеристики, своеобразный «ключ» к пониманию и раскрытию сложных общественно-исторических процессов. Центральной темой драматургии Хорвата является, по его собственному определению, «борьба между индивидуумом и обществом», то есть буржуазным общественным порядком.
В ожесточенной «вечной битве», которую ведут герои Хорвата, у них нет шансов на успех, потому что ведут они эту борьбу вслепую, не понимая механизма действия противостоящих сил, ведут ее в одиночку и только ради себя — в нарастающем озлоблении утрачивая всякое уважение к себе подобным, ведут ее без ясных и определенных задач, заимствуя жизненный идеал у преуспевающих буржуа. И автор ни в чем не может помочь им подсказкой, потому что ему самому неведом ответ на вопрос о том, как изменить существующие пагубные обстоятельства. Мир пролетариата и пролетарской борьбы вызывал сочувствие и искренний интерес Хорвата (он был даже уверен, как мы видели выше, в наступлении эпохи «пролетарского романтизма»), однако оставался ему, в сущности, непонятным. Рабочие в его пьесах наделены скорее мелкобуржуазным, мещанским, нежели революционным сознанием. Хорват как объективный хронист лишь регистрирует общественные обстоятельства, ставит диагноз недугов эпохи, но не знает путей излечения. Он лишь стремится «изображать мир таким, каким он, к сожалению, является».
В этом «к сожалению» — сплав иронии и грусти, характерный для целого ряда австрийских писателей 30-х годов. Особенно усилились ноты уныния и пессимизма в творчестве Хорвата после 1933 года. Трезвое чувство социальной опасности уступает место расплывчатому морализаторству и тяготению к метафизике. Как и Йозеф Рот, Франц Верфель, Стефан Цвейг, после 1933 года Хорват становится набожным, мистически ориентированным человеком, разрешение проблем времени видится ему не в политике, а в морали.
Этот процесс — переход от «политики» к «метафизике» — не следует понимать упрощенно: он не обязательно связан с художественными потерями. Но театр Хорвата — в лучшие годы — одушевлялся именно политическим темпераментом. Утрата его неизбежно должна была повести к ослаблению драматургической мощи писателя.
Пожалуй, высшим достижением Хорвата в последний период творчества являются оба его романа — «Молодежь без Бога» (1938) и «Дитя нашего времени» (1938). Первый из них Томас Манн назвал лучшим эпическим произведением года — из числа созданных в антифашистской эмиграции. Даже помня, как щедр на похвалы был крупнейший немецкий прозаик того времени, нельзя не согласиться со справедливостью этой оценки.
В литературе давно существует такое понятие, как «проза поэта». Хорват доказал, что есть и «проза драматурга». Его романы написаны как развернутые монологи — от первого лица и с пристальным вниманием к индивидуальной психологии, через которую и раскрывается общественная проблематика.
Учитель в первом романе и солдат вермахта во втором словно бы исповедуются в дневнике, но в их сугубо личных записях находит отражение эпоха: «борьба индивидуума с обществом» — честного и думающего человека, хотя и бессильного в своем одиночестве, с бесчеловечными установлениями фашистской диктатуры — исчезнув из драматургии Хорвата, нашла воплощение в его прозе.
Романы Хорвата последних лет оставляли надежду на возрождение творческой мощи писателя. Но 1 июня 1938 года, возвращаясь из Голландии в Швейцарию и находясь транзитом в Париже, он стал единственной жертвой пронесшегося над Елисейскими полями урагана; на него обрушился поверженный бурей платан — смерть наступила мгновенно. «Возрождение» Хорвата заставило себя ждать несколько десятилетий.
Теперь, познакомившись с творчеством Хорвата, легче ответить на вопрос о причинах его возрождения,
Интерес к писателю пробудился в то время, когда после периода упоения «экономическим чудом» в Западной Германии и тесно связанной с ней Австрии в полный голос заявили о себе острейшие социально-экономические проблемы современного капитализма. После массовых манифестаций молодежи в конце 60-х годов в этих странах развернулась широкая общественно-политическая дискуссия о необходимости социальных реформ, усиления борьбы с неофашизмом, о губительном влиянии буржуазного мироустройства. Все это привлекло внимание к дискуссии и художественному творчеству 20-30-х годов, и, в частности, к Хорвату, ставившему именно эти вопросы с необычайной остротой и четкостью.
Нынешний интерес к эпохе 20-30-х годов — на разных уровнях, вплоть до моды «ретро», — одна из причин возрождения Хорвата, дающего исчерпывающую информацию о социально-политической борьбе и просто «обыденности» тех лет; Но это, конечно, не главная причина. Можно назвать немало драматургов, творчество которых отличалось не меньшей актуальностью и остротой тематики, прогрессивной антифашистской направленностью. Таковы, скажем, Фердинанд Брукнер или Франц Теодор Чокор (кстати, ближайшие друзья Хорвата). Однако резонанс их творчества значительно скромнее.
Причины возрождения Хорвата следует искать и в художественной специфике, в особенностях его творческого метода, на которые заметно «поработало» время. Нередко решающую особенность манеры писателя, наиболее очевидное, броское или запоминающееся качество его художественного мира мы стремимся определить, подыскивая слово-ключ: «гармония» Пушкина, «диалектика души» Толстого, «эпический театр» Брехта, «эссеизм» Томаса Манна, «идентификация» Фриша... А Хорват, что нового, особенного внес он в литературу?
Оговоримся сразу: окончательное слово-ключ в работах о Хорвате еще не найдено. «Реформатор венской народной комедии» — верно, но слишком общо, невыразительно. «Лингвистическая анатомия» — уже точнее, хотя за пределами этого понятия остаются такие важные для Хорвата вещи, как очарование и одновременно ужас простой, банальной, запутанной, не выраженной в слове и потому не подвластной «лингвистике» жизни...
И все-таки особенность Хорвата, ставшая спустя годы столь актуальной, лежит, видимо, в области использования и одновременно разрушения традиций и штампов нестроевского народного театра, гротескносатирического обыгрывания устоявшихся форм выражения, открытия и художественной фиксации процесса отчуждения языка и сознания в современном буржуазном обществе.
Достаточно бросить самый беглый взгляд на новейшие тенденции в европейском театре и литературе, чтобы заметить, что время действительно сильно «поработало» на Хорвата.
Сходство в общественно-политической ситуации между эпохой 20-30-х годов и современностью (поляризация классовых сил в связи с экономическим кризисом, инфляцией, безработицей) имеет аналогии и в «маршрутах» движения художественно«) сознания: как тогда на смену экспрессионизму пришла «новая деловитость» с ее тяготением к репортажу, так и теперь в западноевропейском театре все большую роль стали играть различные формы документальности и неореализма, причудливо соединяющиеся подчас с гротеском.
Своеобразие сложного комплекса, который именуется театром Хорвата, состоит в том, что живучими оказались самые разные его стороны. На наследие драматурга заявляют права многие школы: и документалисты вроде Хохгута или Кипхардта; и экспериментаторы типа Хандке, разрушающие привычный язык, «наказывающие» его за службу конформизму; и критически настроенные неореалисты, как Крёц; и неонатуралисты, поборники «грубого» воспроизведения жизни в ее неупорядоченном, «нестилизованном» виде, вроде австрийцев Бауэра и Туррини...
Разумеется, права на наследие Хорвата у всех этих групп отнюдь не одинаковы. Сугубо формально экспериментаторы, как и всегда, «выдергивают» из живых и цельных художественных конструкций большого писателя отдельные «приемы», упоенно тешась «игрой» с ними. Ближе других к школе Хорвата острый социальный критицизм Крёца, хотя достижения этого молодого драматурга на пути разоблачения выраженных в языке идеологических манипуляций пока значительно скромнее, чем у его учителя. Хорват не только чутко уловил одну из решающих духовных проблем века — проблему отчуждения языка и сознания в буржуазном обществе, но и сумел выразить ее с такой пластической силой и яркостью, что заметно опередил свое время. И чем неотвратимее наступают ныне на Западе оболванивающие человека средства массовой информации, чем настойчивее распространяют они свою штампованную ложь, тем острее становится борьба против нее с позиций правды и тем современнее становится Хорват — большой и самобытный писатель, чье возвращение в литературу совершается на наших глазах.
Л-ра: Иностранная литература. – 1978. – № 4. – С. 220-226.
Произведения
Критика