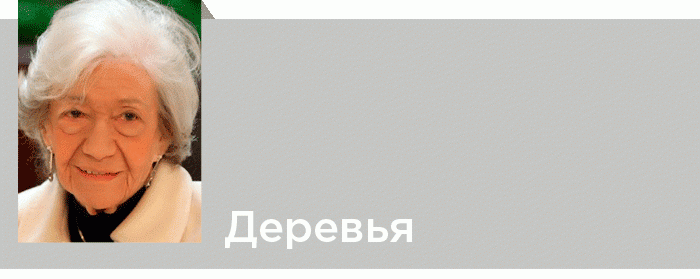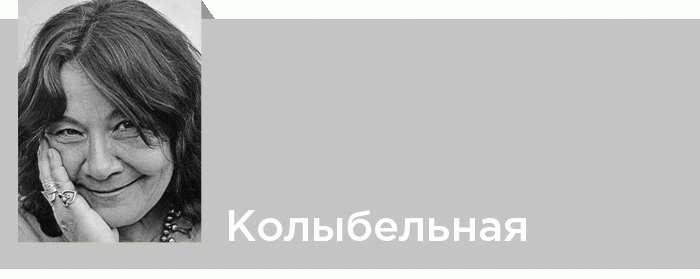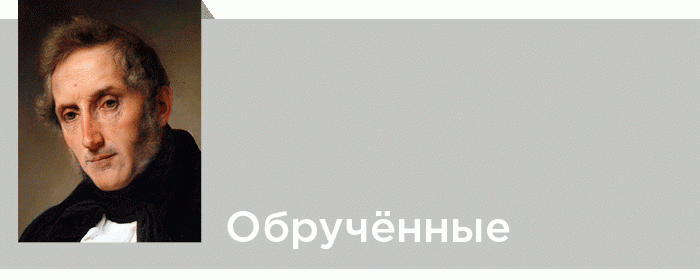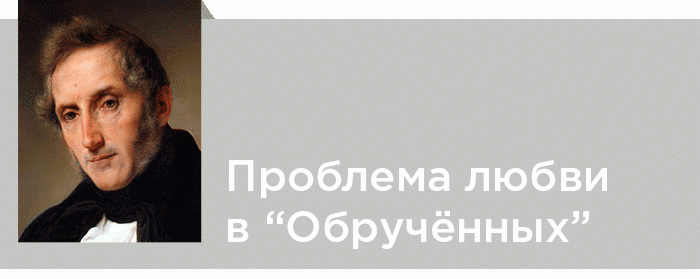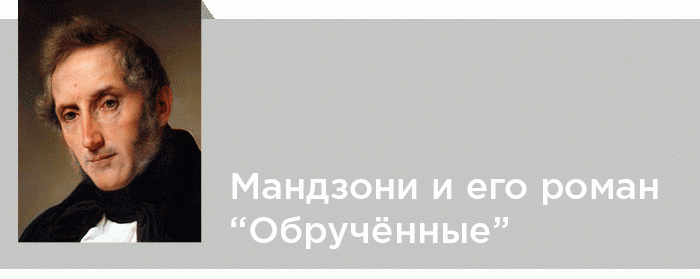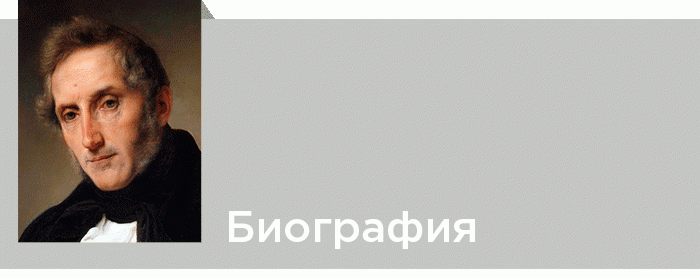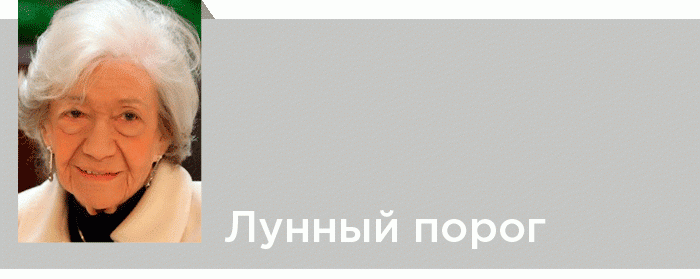Исторический смысл трагедии А. Мандзони «Граф Карманьола»

Б. Г. Реизов
I
В широких кругах читателей имя Мандзони связано с романом «Обрученные». Между тем, его драмы и теоретические рассуждения, им предпосланные, в свое время пользовались неменьшей известностью. Первая его историческая драма «Граф Карманьола», создававшаяся в момент напряженных романтических боев и бурного революционного и национально-освободительного движения, была событием, значительным не только для итальянской литературы, но и для других европейских литератур, в частности для французской.
Драма была начата в январе 1816 г., в момент появления статьи мадам де Сталь «Sulla maniera e utilità delle traduzioni» («Biblioteca italiana», январь 1816), вызвавшей классико-романтическую полемику. В августе того же года драма в ее первой редакции была закончена. В марте Мандзони сообщал Форьелю о своем замысле, о том, что план уже разработан и написано несколько стихотворных сцен. Свою трагедию Мандзони решил писать, «прочитав как следует Шекспира, а также кое-что из того, что было в последнее время написано о театре, и продумав все это». Эти работы о театре — очевидно, книга мадам де Сталь «О Германии», ее статья о переводах, «Литература Южной Европы» Сисмонди (1813) и лекции А. В. Шлегеля, переведенные в 1814 г. на французский язык под названием «Курс драматической литературы». В следующие годы Мандзони был занят своим трактатом «О католической морали». Только в июле 1819 г. он вернулся к трагедии, сократил ее, переработал и закончил в августе. В ноябре или в начале декабря трагедия появилась в свет. Она была переведена на несколько языков, на французский трижды в течение двадцати лет, переработана в либретто для опер, вызвала восторги итальянских патриотов и карбонариев и негодование в реакционных кругах. Несколько статей появилось в итальянских журналах, например, статья Сарданьи в «Biblioteca italiana», руководимой австрийским «шпионом» и убежденным классиком Ачерби, столь же критическая статья в «Gazzetta di Genova» и статья в защиту Мандзони в «Gazzetta di Milano». Во французском «Lycée Frangais» Шове напечатал статью, в которой, признавая заслуги автора, восставал противего «системы». Отозвались и английские журналы («Quarterly Review» и «Foreign Quarterly Review» co статьей Уго Фосколо), а в Германии Гёте напечатал ряд статей в защиту своего «любимца» (в журнале «Ober Kunst und Altertum»), Почти все рецензенты говорили о классических «правилах» и о новой «школе», а среди итальянских патриотов особенным успехом пользовались стихи, в которых хор проклинает братоубийственные войны между итальянскими государствами, причину иностранных завоеваний. Об идейном, философско-историческом содержании трагедии не говорил почти никто. Гёте имел основание утверждать, что критики судили эго произведение, не вникнув в его замысел и потому ничего в нем не поняв. Мандзони благодарил Гёте, который «определил ясными и великолепными словами основную идею его замысла». Однако, «основная идея», на которую обратил внимание Гёте, заключается лишь в отказе от «правил» и построении новой эстетики, связанной с характером изображаемого материала. Мандзони в предисловии к трагедии сам подсказал такое понимание своей «основной идеи»: «Каков замысел автора, правилен ли он, следовал ли ему автор», — вот принцип оценки, который он предлагал своим критикам. Замысел этот — романтическая теория драмы, получившая свое выражение в «Графе Карманьоле». Эта теория была изложена в статьях Людовико ди Бреме, Джованни Берше, Борсьери, Эрмеса Висконти, Сильвио Пеллико, в различных немецких и французских статьях и книгах. Вслед за Мандзони и Гёте почти вся критика набросилась на этот «замысел», на литературную теорию Мандзони, т. е. по существу изучала не столько драму, сколько предисловие к ней. Трагедия рассматривалась в сравнении с предисловием: насколько совершенно и полно Мандзони следовал своей поэтике в трагедии, можно ли и в какой мере назвать ее исторической и т. д. Однако Мандзони в предисловии о замысле именно этого произведения не говорит ни слова, так как теории, изложенные французскими, немецкими и итальянскими критиками, нельзя считать замыслом трагедии, сущность которой конечно же не заключается в нарушении «правил».
Сюжет трагедии довольно прост. Франческо Буссоне, кондотьер и выдающийся полководец, радом пастух, получивший титул графа Карманьолы (по названию своего родного местечка в Пьемонте), поссорившись с герцогом Миланским, войском которого командовал, переходит на службу к Венеции. После прений в Сенате, где против него выступает Марино, а за него — Марко, ему поручают ведение войны с герцогом. Разбив при Маклодио миланские войска, Карманьола отпускает на волю пленных, что комиссарам, приставленным к нему венецианским правительством, кажется предательством. Затем, после нескольких военных неудач, Сенат решает, что Карманьола изменил республике, вызывает его в Венецию якобы на совещание, арестует, предает тайному суду и казнит. Трагедия довольно точно следует историческим событиям, если не считать некоторых персонажей и сцен, вымышленных автором: это персонажи Марино и Марко, их выступления в Сенате, их разговор в IV действии и некоторые другие детали.
Гёте подробно пересказал сюжет трагедии, однако, ссылаясь на историческое введение Мандзони, он характеризовал эпоху и события совершенно иначе. Обсуждая (вопрос об измене Карманьолы, Мандзони решительно отвергает это обвинение, доказывая, что все поведение Карманьолы свидетельствовало о его невиновности: отпустив на волю пленных после битвы при Маклодио, граф следовал обычной в то время традиции; он не поддержал венецианскую флотилию, уничтоженную миланцами, по причинам стратегическим; он отступил от Кремоны, так как не мог преодолеть единодушного сопротивления граждан. Измена Карманьолы в пользу герцога Миланского кажется Мандзони психологически невозможной. Система обвинений и следствия и тайная казнь Карманьолы свидетельствуют о том, что он был невиновен. Казнь Карманьолы лежит пятном на Венецианской республике, как один из самых гнусных актов этого «тайного правосудия» и этой коварной политики. И Венеция понесла заслуженную кару: вся Италия была, будто бы, возмущена казнью невинного, этой черной неблагодарностью государства к его верному слуге. Более того, Мандзони пытается объяснить и организацию Камбрейской лиги, как кару, постигшую Венецию за казнь Карманьолы, которая была совершена за 76 лет до того. Одним из организаторов лиги, угрожавшей самому существованию «царицы Адриатики», был земляк Карманьолы пьемонтец Карло Джуффредо, (подкупленный Францией миланский министр, говоривший, что настало время полного отмщения за казнь графа Франческо Кармайьолы.
Гёте представляет все эти события в совсем ином свете. Объясняя, почему Карманьола отпустил на волю пленных, он определяет характер войны в Италии XV века. Мандзони приводит свидетельство Андреа Редузио: солдаты и кондотьеры отпускали пленных, чтобы не кончилась война и чтобы народ не стал кричать им: «Солдаты, за соху!» Ссылаясь на Редузио, Гёте говорит о солдатском профессионализме, возникшем в XV веке, и о том, что войны превратились из законной самозащиты, в которой заинтересованы все граждане, в ремесло специалистов, поддерживающих войны, чтобы не потерять жалованья. Вот почему, рассуждает Гёте, огромное значение приобретает личность военачальника и возникает безудержный индивидуализм, который ставит себе на службу обстоятельства, рассматривая распри государств как средство для достижения личной выгоды. Война превращается в довольно безобидные маневры, цель которых — не истребление военной силы противника, но затягивание войны. Отпуская пленных, согласно традициям, кондотьер вредил делу своего государства.
Гёте, в противоположность Мандзони, считает такой акт неповиновением («Insubordinationsfall») государству и почти что изменой ему.
Карманьола представляется Гёте буйным и своевольным «наемным героем», которому не хватало только притворства и лживости, чтобы бороться с Венецианским сенатом. Конфликт между Карманьолой и Сенатом Гёте рассматривает как столкновение произвола и «высокой целесообразности». Это панцирь и тога, две «несоединимые» и «противоречивые» силы, воплощенные в антагонистических образах драмы. Виновным оказывается панцирь, правым — тога.
Дальнейшее изложение поддерживает это впечатление: Марино, представитель «государственного интереса» и «высокой целесообразности», в первом действии «выступает против графа с глубокой принципиальностью и мудростью», а Марко, представитель долга, говорит «с доверием и любовью». Гёте хвалит Мандзони за то, что тот сделал Карманьолу политически «неспособным», между тем как Мандзони наделил своего героя незаурядным политическим умом (ср. речь графа э сенате, акт I, сцена 2). У Гёте Марино вырастает в подлинного героя: он воплощает в себе необходимый «закон себялюбия», которое здесь направлено не к личной пользе, а к пользе государства и даже человечества — «Zu einem grossen, uniibersehlichen Ganzen». Марко, преданный не человечеству, а одному человеку, оказывается, сам того не понимая, в противоречии со своим долгом, иначе говоря, невольным государственным преступником. Дож — сама справедливость, и Сенат воздает по заслугам симпатичному графу-изменнику или графу-самодуру.
Такое понимание трагедии, очевидно, противоречит ее подлинному смыслу, и Мандзони мог бы счесть статью Гёте насмешкой, если бы он внимательно прочел ее и если бы не был уверен в полной искренности старого «олимпийца».
Как могла произойти такая ошибка? Как Гёте мог приписать Мандзони мысли и симпатии, прямо противоположные тем, которые выражены не только в трагедии, но и в приложенной к ней «исторической оправке» («notizie storiche»)? Это объясняется позицией, которую принял Гёте в этот последний, «олимпийский» период своей жизни.
Время «Бури и натиска» давно закончилось. Противопоставление индивидуума толпе, всякого рода буйство, катастрофы и «бури» теперь кажутся бесполезными и опасными. Идеи французской революции хороши, наверное, и Германия в более или менее отдаленном будущем примет их и осуществит на практике, но к этому нужно идти медленно и постепенно, органически развиваясь, как зреющий плод. Насилие, с точки зрения Гёте, не годится, так как оно всегда предполагает индивидуальное вмешательство в события и, вместе с тем, противоречие между личностью и массой. Когда масса, множество, весь общественный организм созреет, новый строй придет сам собою, без насилий и катастроф. Следовательно, основная задача человеческой деятельности и общественного труда в том, чтобы идти в ногу со временем, не отрываться от темпа всеобщего развития, не противопоставлять себя обществу, но слиться с ним во имя дальнейшего государственного и всеобщего развития. Индивидуальная воля, своим произволом наносящая вред государству, тормозящая его неуклонно, но медленно движущуюся колесницу, должна быть раздавлена, как бы ни была привлекательна личность или мотивы, определявшие ее поведение.
В трагедии Мандзони Гёте увидел конфликт, который его особенно интересовал в последние десятилетия, и разрешил этот конфликт так, как подсказывали ему его взгляды и художественные интересы.
Мнение Гёте э течение долгого времени считалось общепринятым. Статья была перепечатана в Иенском издании сочинений Мандзони, переведена на французский язык и напечатана в парижском издании драм Мандзони. Она была переведена и на русский язык.
На Гёте ссылается первый французский переводчик «Графа Карманьолы» Огюст Троньон. Д. К. Петров считает, что «приговор» Гёте «можно принять и теперь». То же повторяется в многочисленных популярных статьях и предисловиях к изданиям сочинений Мандзони.
Позднейшие критики мало интересовались политической проблематикой трагедии. Почти все они считали трагедию слабой и, не поняв ее, открывали э ней несуществующие противоречия и недостатки, либо вообще не замечали в ней никаких проблем. А. Оветт видит в главном герое только «жертву мрачной венецианской политики», Микеле Барби утверждает, что это просто-напросто «трагедия о невинно осужденном», я потому и требовать от нее нечего, это даже не картина, а рисунок, хотя и сделанный рукой большого мастера. А. Галлетти считает, что в «Графе Карманьоле» Мандзони пытался «согласовать философию истории Боссюэ с идеей трагедии, которую, как ему казалось, он открыл в самых глубоких драмах Шекспира». Указание на Боссюэ означает, что лее находится «в руке божией», что человек не властен над своей судьбой и целиком определен непостижимыми для него замыслами провидения. Б. Кроче, пользовавшийся не только в итальянской, но и в европейской буржуазной критике огромным авторитетом, со свойственным ему экспрессионистским пренебрежением к фактам видит в этом «слабом произведении» «неразрешенное противоречие между политикой и моралью, между действительностью и трансцендентным идеалом», противоречие, отражающее «противоречие между поэтом и миром, который он не может освободить, миром истории». Л. Тонелли полагает, что «высшая истина», которую хотел выразить Мандзони, — «в констатации неизбежной скорби человека, нашей слабости, и пользы и необходимости веры»; эта «истина» проявляется в трагической непримиримости государственного интереса и человеческой совести». И никакого спасения от этой беды нет, кроме бога, который утешит человека после земных мучений и смерти. Гвидо Мандзони, ссылаясь на слова самого Мандзони в письме к Шове, — слова, несомненно, подсказанные статьей Гёте, — видит основной конфликт трагедии в столкновении между военной и гражданской властью, но в чем смысл этого столкновения, он не знает; предпочитая критиковать, он считает конфликт не драматичным и предлагает новые варианты, более, по его мнению, интересные.
И в русской дореволюционной литературе мы не найдем глубокого толкования «Графа Карманьолы». М. Ватсон рассматривает драму как столкновение «неосторожного» и «великодушного» Карманьолы с «завистливыми врагами», а недостаток ее видит в преобладании «личного, семейного чувства над общественным». Д. К. Петров, указав на историческую ошибку Мандзони в характеристике Карманьолы, основной конфликт видит в «столкновении честолюбивого генерала и гражданской власти, ревниво оберегающей свои традиции и нравы», но ничего другого в пьесе не находит, ибо в ней нет ни разработки характера, ни разработки темы, ни могучей страсти, ни «старой Венеции».
В. Фриче ищет конфликт драмы в чувствах Карманьолы, словно это классическая трагедия, и, не найдя такого конфликта, объявляет образ Карманьолы не трагическим. Он говорит также, что драма проникнута «религиозным духом», очевидно имея в виду обычное толкование главного образа: незаслуженные «ары, страдания, бедствия составляют неизбежную участь человека, опасение от которой за гробом.
Некоторые исследователи пытались связать драму с современной историей. М. Скерилло в образе графа Карманьолы находил нечто общее с Мюратом, королем Неаполитанским, на которого итальянские патриоты возлагали некоторые надежды после падения Наполеона, а также и с Наполеоном, после своих неудач покушавшимся на самоубийство.
Однако эти сопоставления не выдерживают критики. Прежде всего, нет никаких данных о том, знал ли что-либо Мандзони о последних часах жизни Мюрата, о его письмах к жене и т. д. Затем, сопоставления Карманьолы с Мюратом чрезвычайно искусственны и не позволяют говорить, о каких бы то ни было ассоциациях или «намеках». Наконец, система «намеков» характерна и возможна была для классиков, видевших актуальность трагедии в том, что она своими ситуациями или отдельными фразами напоминает зрителю о злободневных событиях современности. Романтики решительно боролись со всякого рода «намеками», так как считали, что намеки разрушают историзм и правду, а вместе с тем и художественную убедительность драмы. То же нужно сказать и о «сходстве» между Наполеоном и Карманьолой. Связь этой трагедии с современностью более органична. Общественная задача ее заключается не в прославлении личности и семейных добродетелей Мюрата и не в изучении психологии Наполеона после Ватерлоо.
Толкования эти не только не объясняют трагедии, но скорее уводят нас от ее действительного смысла. Придется прочесть ее заново, учитывая исторические обстоятельства, в которых она возникла, и задачи, которые Мандзони пытался разрешить. Почему он обратил внимание на этот мало замечательный эпизод Венецианской истории и на эту судьбу кондотьера, довольно обычную для аннал итальянского средневековья? Почему из сотен биографий, рассказанных в «Истории итальянских республик» Сисмонди, он выбрал именно эту?
В восьмом томе своего сочинения Сисмонди подробно рассказывает историю Карманьолы. Чтобы изложить этот эпизод в историческом введении к трагедии («Notizie storiche»), Мандзони мог бы и не обращаться к многочисленным указанным у Сисмонди источникам.
Сисмонди считает Карманьолу невиновным в измене. Повествуя; о многолетней войне Филиппа, герцога Миланского, с организовавшейся, против него лигой, он лишь в конце высказывает свое мнение и о Карманьоле, и о Венецианском Сенате, хотя эго мнение можно было угадать, и из предыдущего изложения. «Как только великий полководец, сделавший Филиппа столь могущественным, а затем нанесший ему такие поражения, перестал побеждать, недоверчивый и жестокий венецианский Сенат заподозрил его в измене». Сисмонди называет судей, окружающих себя «гнусной тайной», неправедными и бесчестными.
Вместе с фактами Мандзони заимствовал у Сисмонди, с которым полемизировал в вопросах религии, его точку зрения на процесс Карманьолы: соображения Сисмонди о целесообразности военных действий Карманьолы, о его намерениях, о тайном суде казались Мандзони совершенно справедливыми. Но если бы он повторил только то, что нашел у Сисмонди или в его источниках, трагедия оказалась бы драматизацией старинного анекдота, свидетельствующего о преступлениях и коварстве Совета десяти. Судьба этого «наемного героя» стала для Мандзони выражением философских теорий и размышлений, которые и составили глубокий внутренний смысл трагедии. Несомненно, окружающая историческая обстановка подсказала и выбор сюжета и его интерпретацию,
В 1796 г. для Италии началась одна из самых бурных эпох в ее истории. Огромный подъем патриотических чувств, падение феодального режима, возникновение новых буржуазных республик, которые вскоре, волею нового императора, превратились в королевства, революционные лозунги, не получавшие своего полного осуществления, освобождение от австрийского владычества, на смену которому пришло владычество французское, и страстная, упорная, многообразная борьба за национальную независимость в политическом, общественном, культурном плане — все это вовлекло в орбиту политической жизни широкие крути итальянского общества. Падение Империи, падение Мюрата, в котором многие видели опору итальянского возрождения, вторжение австрийских войск, крушение надежд на национальную независимость, ряд обманов, предательств, разочарований; политика Наполеона, политика реставрировавшихся деспотов в Неаполе, Пьемонте, Модене, Риме, опыт недавно закончившейся революционной эпохи с ее неоспоримыми достижениями и жестокими неудачами, иностранный сапог, так же, как прежде, попирающий родную землю, — все это возбуждало политическую мысль, требовало объяснения в большом историческом плане, толкало на философско-исторические размышления весьма действенного и «практического» характера. Буржуазным либералам во что бы то ни стало нужно было спасти идею развития, чтобы не впасть в отчаяние. Нужно было показать неизбежность исторического становления и необходимость всех его стадий, чтобы осмыслить неудачи как поучение и кару и как залог дальнейших успехов, необходимо было подвергнуть анализу недавние события и исторический процесс, объяснить его с позиций «реальной» политики, учитывающей наличные силы и возможности, и всю «технику» политической борьбы. В связи с этим в буржуазной историографии того времени наметились два направления. Представители одного направления изучали исторический процесс в его общих закономерностях, обнаруживающихся в малейших деталях исторической жизни народов, другие особенно интересовались техническими проблемами политики, политическими средствами, при помощи которых могут быть достигнуты те или иные цели, и условиями, которые позволяют применять те или иные средства. Первое направление ориентировалось преимущественно на Вико, интерпретированного в духе эволюционной идеи. Второе опиралось на Макьявелли.
Вслед за Руссо и в противоречии с фактами, Альфьери рассматривал книгу Макьявелли «Государь» как «разоблачение» тиранов, как самую яркую республиканскую инвективу против монархического правления. Трактат Альфьери «О тирании», так же как все важнейшие его трагедии, возник под прямым влиянии Макьявелли. Среди борцов за национальное освобождение имя Макьявелли почиталось как имя величайшего итальянского патриота, а книга его как руководство — не для тиранов, а для тираноборцев. Почитателями его были такие борцы за национальное освобождение, как Ломонако, Фосколо, Куоко. В глазах этих почитателей Макьявелли оказывается противником того, что получило название макьявеллизма.
Борьба с макьявеллизмом шла в течение трех столетий. Макьявелли создал школу, теоретически осмыслив политическую практику итальянских тиранов XVI века — предателей, убийц, отравителей, состязавшихся между собою в искусстве истреблять противников любыми средствами. Школа его была довольно значительна: в той или иной мере к ней относятся Гвиччардини, Фра Паоло Сарпи, Паруто, Ботеро, Градениго в Италии, Шоппе в Германии, Гюстав Ноде во Франции и ряд других. Макьявеллисты оправдывали самые отвратительные государственные преступления, совершаемые ради укрепления монархии или олигархии. Один из организаторов французского абсолютизма кардинал Ришелье в своем «Политическом завещании» формулировал теорию «государственного интереса», которая во Франции отныне и связывалась с его именем. В интерпретации Ришелье теория «государственного интереса» является, в сущности, тем же макьявеллизмом: она оправдывает всякого рода незаконные действия власти и «государственные перевороты» пользой, которую они приносят для государства. Однако Польза государства всегда понималась как польза правящего класса и польза правителей.
Этот процесс «превращения государства и органов государства из слуг общества в господ над обществом» неизбежен во всех существовавших до сих пор государствах. Отсюда и борьба с этой теорией государственного интереса, которую в XVIII и начале XIX века с такой страстью ведут прогрессивные писатели Европы. С макьявеллизмом связывали одно из самых крупных государственных преступлений нового времени — Варфоломеевскую ночь. Об этом говорил еще Вольтер, а М.-Ж. Шенье в трагедии «Карл IX», с которой Мандзони был, несомненно, знаком, заставил Екатерину Медичи излагать теорию государственного интереса и оправдывать этой теорией резню протестантов. Макьявеллизм как идеологическое обоснование избиений был подчеркнут в драме либерала и романтика Ш. Ремюза «Варфоломеевская ночь», написанной в 1826 г.
Политические деятели начала XIX века беззастенчиво осуществляли принципы Макьявелли, а Талейран прославился своими изречениями и «острогами», с необыкновенным цинизмом обнажающими его дипломатическую тактику. В макьявеллизме обвиняли и Наполеона, о чем свидетельствует анонимная брошюра 1816 г. под названием «Наполеон и Макьявелли», автором которой был аббат Гильон.
Но если сторонники реакции, чувствуя, что почва ускользает у них из-под ног, искали спасения в изощренных приемах лжи, интриг и насилий, то либералы считали нужным бороться с подобной практикой, апеллируя к абстрактной, общечеловеческой нравственности. Ведь история, с их точки зрения, является развитием высшей справедливости. В историческом процессе получает свое осуществление нравственная идея и возникает совершенный общественный строй будущего, который воплотит эту высшую нравственность, цель и результат коллективных трудов человечества. Поэтому не может зло служить добру, предательство и обман не приведут к торжеству справедливости, и цель никогда не оправдает средства. История имеет свои законы, которые не могут быть опровергнуты никакими тиранами и 'никакими ухищрениями. Тот, кто стоит на пути истории, будет раздавлен ее движением. Задача политического деятеля — познать эти законы, обнародовать их, чтобы всякий следовал им сознательно и свободно. Ничего не нужно скрывать и утаивать, так как правда поможет лучше, чем обман. Поэтому даже самая совершенная политическая техника, которая, оторвавшись от высокой нравственной и исторической цели, преследует личную цель правителя и тянет историю вспять, рано или поздно должна потерпеть поражение. В этом поражении заключается смысл не только нравственный, но и исторический. Значит, противопоставлять государственную пользу нравственности, т. е. следовать правилам, изложенным в книге «О государе», не только безнравственно, но и бесполезно.
Уверенность в том, что «государственный интерес» в рамках эксплуататорского государства может быть .согласован с законами подлинной справедливости, основана была на ложном основании: на иллюзиях буржуазной свободы и равенства, на непонимании того, что в буржуазном обществе «государственная польза» есть всегда польза для господствующего класса, прямо противоречащая интересам эксплуатируемых. Однако в начале XIX столетия прогрессивные исторические деятели и мыслители, требуя подчинения политики законам нравственности, сражались с феодальной реакцией во имя прогресса. Конечно, буржуазные либералы даже в самый «героический» период их деятельности не могли быть последовательны, так как постоянно боялись социальной революции и в своих требованиях .свободы и равенства не могли идти до конца. Тем не менее, они видели свой долг в борьбе с макьявеллизмом и шли на нее полные нравственного пафоса и негодования.
Борьба с макьявеллизмом в итальянской художественной литературе приобретает особенную острогу в XVIII веке. Альфьери в своих трагедиях сражался с этой теорией тирании, рассматривая ее во всех аспектах. Он изучал психологию тирана, его деятельность в семье и государстве, его одиночество и мучения, его внутреннюю опустошенность, логический путь мысли, толкающий его на самые ужасные преступления. Особенно пристальному анализу Альфьери подвергает теорию цели, оправдывающей средства, так как этой теорией прикрываются тираны ради достижения своих эгоистических замыслов. Всякий тиран утверждает, что монархическая власть необходима для защиты государства и счастья граждан, поэтому для достижения этой власти любой тиран — от Цезаря Борджа до Филиппа II, от Наполеона до Меттерниха оправдывал всякий деспотический акт, всякое подавление демократии и свободы. Именно это делает Тимофан, герой трагедии Альфьери «Тимолеон».
«Если ты видишь у моего бедра меч, обагренный кровью, знай, что применять силу побуждает меня не гордый произвол, а слава Коринфа, который доверил мне высшую власть». Стремящийся к самодержавию Тимофан оправдывает свои насилия целью, которую он преследует: «Что же мне делать, если для того, чтобы сохранить в городе спокойствие, необходимы такие средства?» — восклицает он. «Коринф и вся Греция увидят, что не всегда преступна бывает власть одного человека, что государь, даже если он пришел к трону через кровь, может облагодетельствовать народ мудрыми законами». (Акт I, сцена 1). Все дискуссии между Тимофаном, опьяненным властью, и добродетельным Тимолеоном, стоящим на страже республиканской свободы и равенства, имеют с в сей целью опровергнуть эту ложную теорию. Тимолеон противопоставляет «государственному интересу», который оказывается интересом деспота, принцип республиканского долга. Нет, никогда вероломство и тирания не приводят к благу государства: тиран всегда стремится только к своему счастью, отождествляя интерес государства со своими собственными.
Всякая тираноборческая трагедия XVIII века затрагивает и теорию тирании, изложенную в трактате Макьявелли. Приблизительно те же мотивы — в трагедии И. Пиндемонте «Арминий». В трагедии Монти «Кай Гракх» народный трибун, по имени которого названа трагедия, борясь с патрицием и типичным представителем макьявеллистической политики Опимием, не хочет пользоваться террористическими средствами и осуждает Фульвия, убившего одного из вождей патрицианской реакции. В этой трагедии, острие которой направлено против феодальной реакции, поднимавшей голову в последние годы XVIII века, тираном оказывается уже не один человек, не монарх, но целый класс, аристократия, патрициат. То же — в ряде трагедий Альфьери, в которых тираны выходят из патрициата и подавляют народную свободу в интересах небольшой кучки аристократов. Таким образом, тираноборчество естественно и неизбежно переходит в борьбу с аристократической или олигархической республикой, примером которой в итальянской истории была Венеция.
Политический строй Венеции не менялся в течение веков. Венеция была исключением среди других итальянских республик, в которых совершались непрерывные перевороты, менялись правительства, приходили к власти различные политические партии и классы. Система шпионажа, тайных судов, пыток и доносов, власть, сосредоточенная в руках десяти патрициев, военная мощь, подчинившая венецианскому льву огромные области Средиземноморья, — все это привлекало внимание политиков и внушало ужас и негодование «свободным мыслителям».
В XVI веке появляется целый ряд итальянских и латинских сочинений о политическом строе Венеции: Паоло и Доменико Морозини, Марк-Антонио Сабеллико, Дурантино, Джанотти, Кантарини. Эти сочинения к концу XVI века приобретают апологетический характер, так как прославление республиканского строя Венеции было средством тайной полемики с испанским деспотизмом. Гвиччардини рекомендует флорентинцам организовать свое правительство наподобие венецианского. Таким образом, эта «венецианская школа» политиков и историков, прославляющая строй и метод правления олигархической республики, распространяется далеко за пределы Венеции. Все же в большинстве своем она состояла из государственных деятелей Венеции и венецианских аристократов. Пользовался известностью принадлежавший к той же школе Паоло Парута, автор сочинения «Perfezione della vita politica» (1599), о котором Мандзони упоминает в «Обрученных» (гл. XXVII). Джованни Ботеро известен тем, что ввел в политическую литературу термин «государственный интерес» в книге под тем же названием («La ragion di Stato», 1589). Ботеро усматривал в венецианском строе сочетание трех принципов: монархического (пожизненная должность дожа), аристократического (Совет десяти) и демократического (Большой совет), хотя в Венеции в действительности вся власть принадлежала Совету десяти, а Большой совет не заключал в себе ничего демократического. Ботеро полемизировал с Макьявелли, но, проповедуя практику Венецианской республики, стоял на той же нравственной позиции. Дон Ферраите, герой «Обрученных», читал эту книгу и ставил ее так же высоко, как и «Государя» Макьявелли (там же).
Особенной славой пользовалась книга, долгое время приписывавшаяся Фра Паоло Сарпи, секретарю Венецианской республики и ее историографу, но написанная, повидимому, Градениго. Она появилась в Венеции в 1681 г. под названием «Opinione del Padre Paolo servita come debba governarsi internamente ed esteramente la Republica veneziana per havejre il perpetuo dominio».
Задача книги, как гласит ее название, — изучить приемы внутренней и внешней политики, которые могли бы обеспечить Венеции «вечное господство». Это господство гарантируется «правосудием», под которым автор понимает просто средство сохранить власть. Ни о какой справедливости речи нет, так как для автора самое важное — поддержать страх перед аристократами, любыми мерами подавить и запугать народ, распространить власть Венеции в колониях, уничтожить Большой совет, который «всегда немного пахнет народом», и все это проделывать втайне, посредством всяческих ухищрений и обманов. Чтобы подчинить себе народ, чтобы «заткнуть ему глотку», нужно «набить ему рот едой». Аристократов, не входящих в олигархию, нужно содержать в бедности, так как они «подобны гадюке, которая в холоде не может выпускать свой яд». Граждан Крита нужно держать, как «диких зверей», унижать их, приберегая человеколюбие для более подходящего случая, чтобы люди эти не взбунтовались, как каторжники при смягчении режима. Самые отвратительные стороны макьявеллизма, самые человеконенавистнические взгляды, грубый цинизм, явное перерождение теории «государственного интереса» в теорию интереса олигархов-«хозяев» — таково это руководство для венецианских государственных инквизиторов, для деятелей венецианской «охранки», использовавших все гнусные средства для достижения своих гнусных целей.
Никто не сомневался в том, что советы, преподанные в этой книге государственным инквизиторам, были обобщением практической венецианской политики. Исторические труды, документы из государственных архивов Венеции, воспоминания и даже апологетические сочинения позволяли проникнуть в тайны этой тиранической республики. Для ума, ищущего в исторических событиях нравственный смысл, эта долгая цепь преступлений, обманов и самого жестокого деспотизма казалась достаточным объяснением и политического упадка Венеции и потери ее самостоятельности. Для такого ума оправдание венецианской политики и венецианского «государственного интереса» было невозможно.
Невозможно оно было и для Мандзони. Философия истории, вырабатывавшаяся в борьбе с реакцией, нравственная философия, требовавшая «категорического» формального повиновения долгу и отвергавшая макьявеллизм в политической практике реакционных правительств, романтические литературные теории, имевшие своей задачей подготовку национального итальянского «рисорджименто», определили замысел Мандзони, — выбор темы и сюжета, центральные образы трагедии, ее содержание и ее форму.
Мандзони с тою же страстью, что Альфьери, сражается с макьявеллизмом. Он понимает, что эта теория служит лишь силам реакции и связывает ее с темным прошлым Италии. Но вместе с тем он сражается и с эвдемонической моралью XVIII века. Ему кажется, что нравственная ценность поступка определяется не пользой, которую он приносит, но исполнением одного и того же, всегда равного самому себе формального «долга». Очевидно, здесь сказалось влияние всей идеалистической литературы, которая более или менее последовательно развивала кантовские идеи. Она согласовалась с католическими учениями, которые как раз в это время Мандзони развивал в своем трактате «О католической морали» (1819).
Однако мораль эта, кое-как согласованная с католическими догмами, служит целям буржуазного либерализма в период его борьбы с феодальной и монархической реакцией. Мандзони подчинил эту мораль задаче всей своей жизни и творчества — национальной независимости ■; счастью итальянского народа. Поэтому, борясь с Гельвецием и защищая католичество, принимая формальный принцип абстрактного «категорического императива», и разоблачая макьявеллизм, он в то же время и прежде всего боролся против реакции и поработителей итальянского народа.
В «Графе Карманьоле» резко противопоставлены две точки зрения, две системы нравственности: мораль «государственного интереса» и мораль «категорического императива». Первая представлена Венецианским Сенатом, и глашатай ее — Марино. Другая — графом Карманьолой, и глашатай ее — Марко. И Марино, и Марко в списке действующих лиц указаны, «как вымышленные» герои («personaggi ideali»).
С первого же акта читатель попадает в атмосферу подозрительности и недоверия. Несколькими штрихами обрисована государственная машина Венеции, исключающая всякое человеческое отношение к человеку, всякое понимание нравственности. Отныне, говорит дож Карманьоле, «щит Венеции будет простерт над твоей головою, щит бдительного покровительства и мести». С самого начала Венеция подозревает и угрожает.
Марино ещё более резко выражает недоверие к Карманьоле: дельные советы, которые граф дает Сенату, кажутся Марино неубедительными. Да, нужно воевать, но Карманьола слишком горд и пылок; с таким справиться так же трудно, как с вражеским войском. Это великий полководец, но станет ли он подчиняться указаниям Десяти? И в ответ на эти рассуждения дож обещает шпионить за полководцем, которому Венеция вручает свою судьбу: ведь у Венеции есть глаз, чтобы следить за ним, и невидимая рука, чтобы его поразить.
Тогда выступает Марко: зачем омрачать подозрениями это прекрасное начало? Нужно думать не о карах, но о похвалах и наградах. Марко лучший психолог, чем Марино и дож: он понимает Карманьолу, потому что он так же 'благороден и потому что он доверяет ему. Таков пролог к дальнейшим событиям (Акт I, сцена 3).
Карманьола с радостью принимает командование армией. Нет никакого сомнения в том, что он неспособен на измену. Он отпускает пленных: «Так сладостно прощать после победы! — говорит он комиссарам Венеции. — В сердце, которое бьется под панцирем, гнев так быстро переходит в дружбу! Не отнимайте этой благородной награды у тех, кто ради вас рисковал жизнью: они сегодня великодушны потому, что вчера они были храбры!» В ответ на это комиссары твердят слова «государственного интереса»: «Они сражались за наши деньги, и потому пленные принадлежат нам». (Акт III, сцена 2).
Участь 'Карманьолы решена: несколько военных неудач, которые вызваны вмешательством правительственных комиссаров, не доверяющих полководцу, кажутся Сенату основанием для того, чтобы счесть Карманьолу изменником. Между Марино и Марко происходит разговор, в котором сталкиваются два принципа нравственности. Марино говорит о государственном интересе Марко — о голосе совести. Марко так же предан Венеции, но его представления о пользе родины, по мнению Мандзони, выше, нравственнее, правильнее, чем представления Марино: «Я друг графа, в этом меня обвиняют; не отрицаю, я его друг, и благодарю небо за то, что имею силы признаться в этом... Когда я указал на то, что за общественным обвинением скрывается личная вражда, когда я требовал, чтобы старались только о пользе государства и о справедливости, тогда я выступал не как друг, а как верный патриций». Но когда Марко узнал, что Карманьолу хотят заманить в Венецию обманом и поймать его в ловушку, он почувствовал, как все силы его души восстают против этого: «То была честь моей родины, которой грозит унижение, крик врагов и потомства, то был первый порыв негодования», которое предательство вызывает у того, кто должен предупредить его или отойти от него... Я верил, что полезным для Венеции может быть только то, что служит ее чести». (Акт IV, сцена 1).
Вот ясная, отчетливо выраженная мысль: нельзя противопоставлять полезное нравственному, потому что только нравственное может быть полезным. Безнравственные поступки приводят к гибели того, кто их совершает. Такова основная идея «Графа Карманьолы», нравственная и политическая одновременно.
Злое дело сделано: невинный человек, жертва интриг и личной ненависти, завлечен в ловушку и, осужденный неправедным и тайным судом, казнен. Это носит название «государственного интереса». Но это принесло Венеции вред. Недоверие, основанное на зависти и полном отсутствии всякого нравственного чувства, прежде всего воспрепятствовало Карманьоле осуществить свои замыслы и принести Венеции полную победу. Его казнь лишила Венецию великого и верного полководца. Он не был предателем: на упрек в том, что он отпустил пленных, Карманьола: отвечал: «Эти храбрецы вернулись бы под мои знамена, и трон Филиппа не был бы теперь занят или был бы занят другим». «И если эти широкие замыслы еще не осуществлены, то только потому, что рука, которая должна была это сделать, не была свободной».
«Крик врагов и потомства», который в глубине своей совести услышал Марко, впоследствии принесет Венеции еще больший вред. Карманьола выражает смысл трагедии в своей последней речи перед Сенатом: «Вы решили казнить меня. Но в то же время вы предаете себя вечному позору. Ныне знамя льва развевается далеко за пределами своих древних границ, на башнях, на которых, как известно всей Европе, я его водрузил. Да, здесь все будет молчать, но вокруг вас, повсюду, куда не достигает немой ужас вашего владычества, будут оценены, будут записаны неизгладимыми знаками благодеяние и награда. Подумайте о вашей истории, о вашем будущем. В скором времени наступит день, когда вам опять понадобится полководец: кто захочет прийти к вам? Вы бросили вызов солдатам. Да, сейчас я нахожусь в вашей власти; но вспомните, что я родом не отсюда, что я родился среди воинственного и сплоченного народа, привыкшего рассматривать честь своего согражданина, как свою собственную, он не останется равнодушным к этому оскорблению». (Акт V, сцена I).
Идею этого неизбежного исторического и нравственного возмездия высказывает и хор, который возвещает кару, нависшую над всей Италией, — кару за ее братоубийственные войны: «Несчастия обрушиваются не только на побежденного. Радость нечестивца скоро обращается в плач. Вечная кара позволяет ему совершать свое торжественное шествие, но она отмечает его своим знаком, она бодрствует и ожидает, и настигает его при его последнем вздохе». Эта идея возмездия пронизывает всю драму и составляет нравственный фон, на котором развивается действие. Вне этой идеи оно оказывается бессмысленным, историческое поучение исчезает, и драма превращается в скудный содержанием и малоинтересный исторический анекдот.
Венецианскую республику постигла кара: могучее государство, распространившее сеть своих торговых контор, свои флотилии и свою инквизицию на весь Левант, захирело и погибло. Мандзони объясняет это причинами нравственного и политического характера, государственным устройством Венеции, ее олигархическим режимом, естественно связанным с жестокой деспотией и с теорией «государственного интереса», неизбежно превратившегося в интерес реакционного класса. В известной мере Мандзони был прав, хотя он не видел других важных причин, а указанные им политические причины склонен был толковать в нравственном плане.
В черновом наброске драмы, созданном в течение 1816 г., эта неправедная, жестокая Венецианская республика очерчена более полно. В сценах I акта, вычеркнутых из окончательного текста, мотивы ненависти сенатора Марино к Карманьоле четко выражены: Венеции приходится прибегнуть к помощи «какого-то иностранца, сына гнусного пастуха еще более гнусного стада, который... презирает всех нас» (венецианцев и сенаторов). «Не столь тяжко потерять какой-нибудь город, как владеть им благодаря Карманьоле». И злостный умысел этой касты аристократов вскрывается в словах Стефано, единомышленника Марино: «Друзей, которые теперь его окружают, он вскоре одного за другим сделает своими врагами; тогда вас будут слушать».
Воспользоваться трудами и талантом Карманьолы и затем, по миновании надобности, убить его, отмстив за его справедливое презрение, — таков замысел Марино, выполненный тиранической олигархией.
В другой сцене, в которой выступает венецианский народ, ярко показана ненависть его к аристократам. Один горожанин говорит, что на Карманьолу, выступающего в поход, возложена «вся забота о нашем спасении». «О нашем?» — возражает ему второй горожанин: — «Вернее было бы сказать — о спасении Синьоров. Что значим мы теперь, когда всякое государственное дело стало их личным делом? Какое значение имеет для нас война? Если она окончится успешно, все будет принадлежать им, — и слова, и добыча».
Эти горожане отлично понимают, что «государственный интерес» Венеции является интересом господствующей касты.
Философская проблема, поставленная в драме Мандзони, немыслима была вне истории. Действительно, ведь нравственный смысл человеческого существования либеральные мыслители послереволюционной эпохи обнаруживали не в личной судьбе, но в историческом процессе. Судьба отдельного лица недостаточна и слишком случайна, чтобы можно было уловить в ней нравственный смысл. Невинно страдающие, жертвы несправедливости и общественных катаклизмов, все те, кто погиб в великих революционных сражениях или в кровопролитнейших войнах наполеоновской эпохи, не могут служить доказательством исторических закономерностей нравственного характера. Эти закономерности обнаруживаются лишь в судьбах народов и государств. Человечество страдает не напрасно — оно движется вперед, к более справедливому и счастливому будущему. Страдание не есть искупление первородного греха; человечество создано не для того, чтобы в вечной беде оплакивать грех праотцов, — эту точку зрения Жозефа де Местра, ультрароялистов, французской реакционной церкви Мандзони считает глубоко порочной. Он избирает своим духовником в Париже не Ламенне, в то время ультрароялиста, но Грегуара, «цареубийцу» и пылкого либерала. Он не хочет быть «пророком прошлого», но человеком будущего. Итальянские критики часто толкуют казнь невиновного графа Карманьолы как доказательство того, что человечество обречено, что оно пребывает в неизбывной беде, из которой единственное спасение — смерть. В этом они видят католическую «мораль» трагедии. Однако Мандзони нельзя ограничить религией и выводить все его творчество из католических догм — это было бы жестоким искажением исторической действительности.
«Nè Cristi e sagrestie fanno il Manzoni», — писал молодой Кардуччи еще при жизни поэта. В «Графе Карманьоле» Мандзони излагал не эту пессимистическую мораль ортодоксального католицизма, но философию истории современного ему буржуазного либерализма, оправдывавшего исторические неудачи, жертвы и катастрофы высшей справедливостью истории и неизбежным прогрессом человечества. Вот почему никакого противоречия между моральными и историческими взглядами Мандзони в трагедии нет: мораль ее вытекает из философии истории Мандзони, а эта философия истории имеет своей задачей утверждение нравственного смысла человеческих судеб, прогресса и общественной справедливости, которая установится когда-нибудь на развалинах старых деспотий, национальной нетерпимости, классовых государств, всей той системы насилий и угнетения, которую Мандзони с отвращением и негодованием констатировал в грустной современности.
Драма вышла в свет в 1819 г., когда Мандзони находился в Париже. Как раз в это время возникает во Франции новая историографическая школа, сыгравшая огромную роль в общественной борьбе эпохи. Мандзони с радостью усваивает эти новые идеи, отлично согласовавшиеся с его философскими и историческими взглядами. Эти новые идеи получают свое отражение во второй его исторической трагедии — «Адельки», в которой разработана важная проблема современной ему буржуазно-либеральной историографии. Но «Адельки» представляет собой совсем новый этап в творческой эволюции Мандзони, который и изучать следует в свете новых философских и политических задач, стоявших перед ее автором.
Л-ра: Романо-германская филология. – Ленинград, 1957. – С. 221-235.
Критика