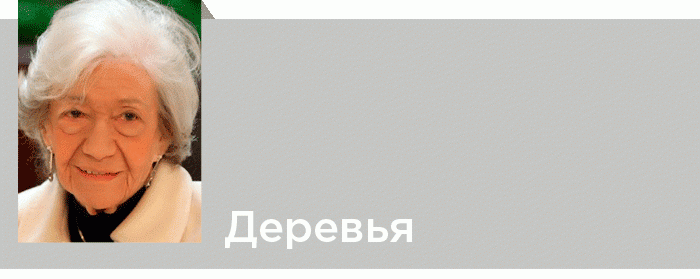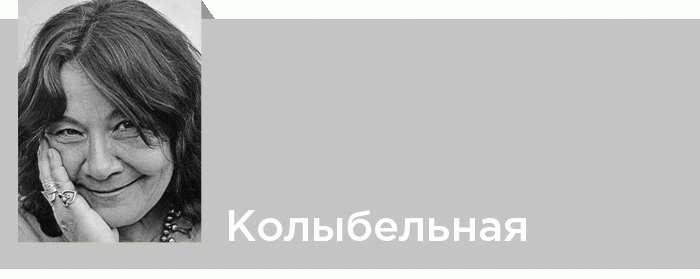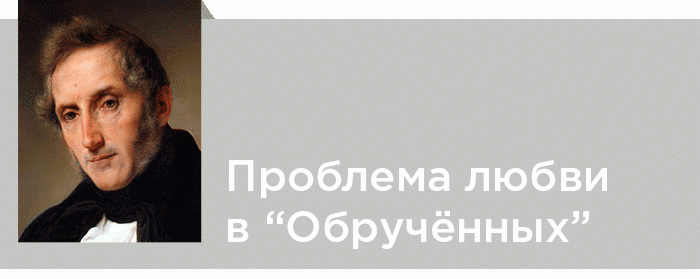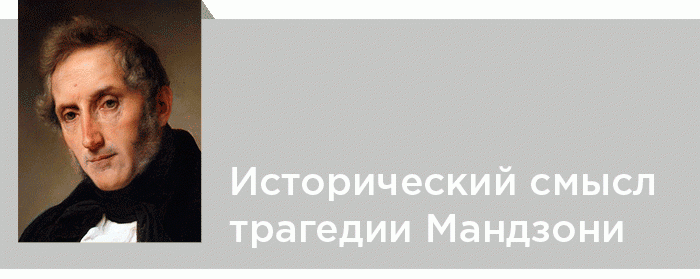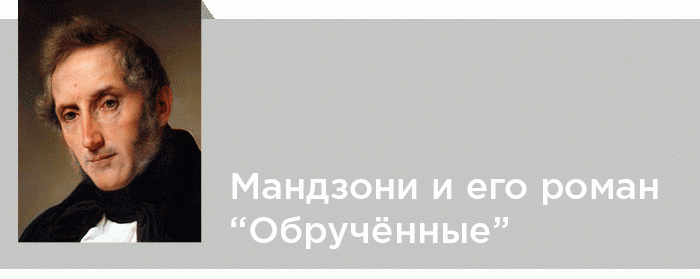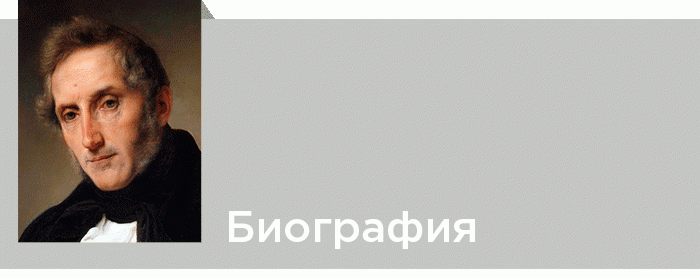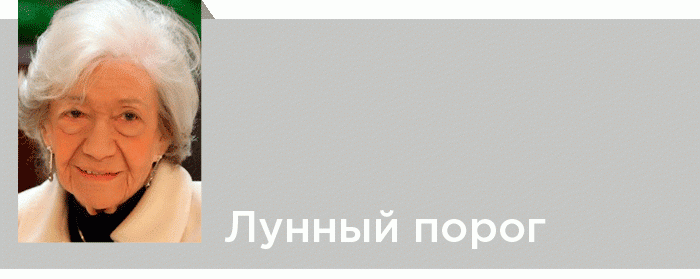Алессандро Мандзони. Обручённые
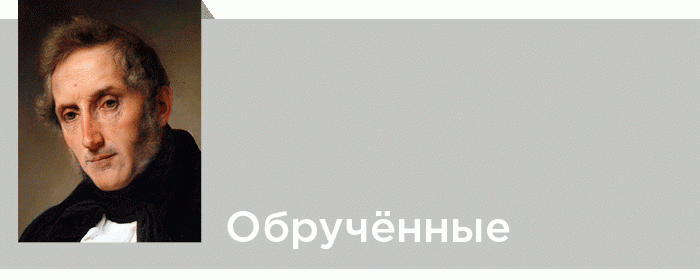
(Отрывок)
Введение
«История может, поистине, быть определена, как славная война со Временем, ибо, отбирая у него из рук годы, взятые им в плен и даже успевшие стать трупами, она возвращает их к жизни, делает им смотр и заново строит к бою. Но славные Бойцы, пожинающие на этом Поприще обильные жатвы Пальм и Лавров, похищают лишь наиболее роскошную и блестящую добычу, превознося благоуханием своих чернил Подвиги Государей и Властителей, а также и выдающихся Особ, и навивая тончайшею иглою своего ума златые и шёлковые нити, из которых образуется нескончаемый узор достославных Деяний. Однако ничтожеству моему не подобает подниматься до таких предметов и до столь опасных высот, равно как пускаться в Лабиринты Политических козней и внимать воинственному громыханию Меди; наоборот, ознакомившись с достопамятными происшествиями, хотя они и приключились с людьми худородными и незначительными, я собираюсь оставить о них память Потомкам, сделав обо всём откровенное и достоверное Повествование, или точнее — Сообщение. В нём, на тесном Театре, предстанут горестные Трагедии ужасов и Сцены неслыханного злодейства, перемежаемые доблестными Деяниями и ангельской добротой, которые противостоят дьявольским ухищрениям. И действительно, принимая во внимание, что эти наши страны находятся под владычеством Синьора нашего, Короля Католического, который есть Солнце, никогда не заходящее, а над ним отражённым Светом, подобно Луне, никогда не убывающей, сияет Герой благородного Семени, временно правящий вместо него, равно как Блистательнейшие Сенаторы, неизменные Светила, — и прочие Уважаемые Магистраты, — блуждающие планеты, проливают свет свой повсеместно, образуя тем самым благороднейшее Небо, нельзя, — при виде превращения его в ад кромешных деяний, коварства и свирепостей, во множестве творимых дерзкими людьми, — видеть тому какую-либо иную причину, кроме ухищрений и козней дьявольских, поскольку одного человеческого коварства не хватило бы для сопротивления такому количеству Героев, которые, с очами Аргуса и руками Бриарея, отдают жизнь свою на общее благо. А посему, рассказывая о событиях, происшедших во времена цветущего моего возраста, и хотя большинство лиц, действующих в них, уже исчезли с Арены жизни и сделались данниками Парок, я тем не менее, в силу почтительного уважения к ним, не буду называть их имён, то есть имён родовых; равным образом поступлю я так и с местом действия, наименование коего я не буду обозначать. И никто не сочтёт это несовершенством Повествования и нестройностью моего незатейливого Творения, разве только Критик окажется лицом, совершенно неискушённым в философии, тогда как люди, в ней сведущие, отлично поймут, что сущность названной Повести нисколько от этого не пострадала. Ведь совершенно очевидно и никем не может быть отрицаемо, что имена являются не более, как чистейшими акциденциями…»
— Но когда я одолею героический труд переписывания этой истории с выцветшей и полной помарок рукописи, и когда я, как это принято говорить, выпущу её в свет, найдётся ли тогда охотник одолеть труд её прочтения?
Это размышление, наводящее на сомнение и зародившееся при работе над разбором каракуль, следовавших за акциденциями, заставило меня прервать переписывание и основательнее поразмыслить о том, как мне поступить.
— Совершенно верно, — говорил я самому себе, перелистывая рукопись, — совершенно верно, что такой поток словесной мишуры и риторических фигур встречается не на всём протяжении этого произведения. Как настоящий сечентист, автор вначале захотел щегольнуть своею учёностью; но затем, в ходе повествования, порою на большом его протяжении, слог становится более естественным и более ровным. Да, — но как он зауряден! Как неуклюж! Как шероховат!.. Ломбардские идиомы — без числа, фразы — некстати употреблённые, грамматика — произвольная, периоды — неслаженные. А далее — изысканные испанизмы, рассеянные тут и там; потом, что гораздо хуже, — в самых ужасающих и трогательных местах, при любой возможности вызвать изумление или навести читателя на размышление, словом, во всех тех местах, где требуется некоторое количество риторики, но риторики скромной, тонкой, изящной, автор никогда не упускает случая напичкать изложение той самой своей риторикой, которая нам уже знакома по вступлению. Перемешивая с удивительной ловкостью самые противоположные свойства, он ухитряется на одной и той же странице, в одном и том же периоде, в одном и том же выражении одновременно быть и грубым и жеманным. Не угодно ли: напыщенная декламация, испещрённая грубыми грамматическими ошибками, повсюду претенциозная тяжеловатость, которая придаёт особый характер писаниям данного века в данной стране. Поистине, это — не такая вещь, чтобы стоило предлагать её вниманию нынешних читателей: слишком они придирчивы, слишком отвыкли от подобного рода причуд. Хорошо ещё, что правильная мысль пришла мне в голову в самом начале злополучного этого труда, — тем самым я просто умываю руки.
Однако, когда я собирался было сложить эту потрёпанную тетрадь, дабы спрятать её, мне вдруг стало жалко, что такая прекрасная повесть навсегда останется неизвестной, ибо как повесть (читатель, может быть, не разделит моего взгляда) она мне, повторяю, показалась прекрасной, и даже весьма прекрасной. «Почему бы, — подумал я, — не взять из этой рукописи всю цепь происшествий, лишь переработав её слог?» Так как никакого разумного возражения на это не последовало, то и решение было принято немедленно. Таково происхождение этой книги, изложенное с чистосердечием, достойным самого повествования.
Однако кое-какие из этих событий, некоторые обычаи, описанные нашим автором, показались нам настолько новыми, настолько странными, — чтобы не сказать больше, — что мы, прежде чем им поверить, пожелали допросить других свидетелей и принялись с этой целью рыться в тогдашних мемуарах, дабы выяснить, правда ли, что в ту пору так жилось на белом свете. Такие розыски рассеяли все наши сомнения: на каждом шагу наталкивались мы на такие же и даже более удивительные случаи, и (что показалось нам особенно убедительным) мы добрались даже до некоторых личностей, относительно которых не было никаких сведений, кроме как в нашей рукописи, а потому мы усомнились было в реальности их существования. При случае мы приведём некоторые из этих свидетельств, чтобы подтвердить достоверность обстоятельств, которым, в силу их необычайности, читатель был бы склонен не поверить.
Но, отвергая слог нашего автора как неприемлемый, каким же слогом мы заменим его? В этом весь вопрос.
Всякий, кто, никем не прошенный, берётся за переделку чужого труда, тем самым ставит себя перед необходимостью отчитаться в своём собственном труде и до известной степени берёт на себя обязательство сделать это. Таковы правила житейские и юридические, и от них мы вовсе не собираемся уклоняться. Наоборот, охотно приноравливаясь к ним, мы собирались было дать здесь подробнейшее объяснение принятой нами манере изложения, и с этой целью на всём протяжении нашего труда мы неизменно старались предусмотреть возможные и случайные критические замечания, дабы заранее и полностью все их опровергнуть. И не в этом было бы затруднение, — ибо (мы должны сказать это, воздавая должное правде) нашему уму не представилось ни одного критического замечания, без того чтобы тут же не явилось и победоносное возражение, из числа тех, которые, не скажу — решают вопросы, но меняют самую их постановку. Часто мы даже сталкивали две критики между собой, заставляли одну побивать другую; либо же, исследуя их до основания и внимательно сопоставляя, нам удавалось обнаружить и показать, что при всей своей кажущейся разнице они тем не менее почти однородны и обе родились из недостаточно внимательного отношения к фактам и принципам, на которых должно было основываться суждение; так сочетав их, к великому их изумлению, мы пускали обе дружески разгуливать по свету. Вряд ли нашёлся бы автор, который столь очевидным способом доказал бы доброкачественность своей работы. Но что же? Когда мы пришли к возможности охватить все упомянутые возражения и ответы и расположить их в известном порядке, — увы, их набралось на целую книгу. Видя это, мы отказались от начального замысла по двум соображениям, которые читатель, несомненно, сочтёт основательными: одно из них — то, что книга, предназначенная оправдывать другую, и даже в сущности слог другой книги, могла бы показаться смешной; другое — то, что на первый раз хватит и одной книги, если только вообще и сама она не лишняя.
Глава 1
Тот рукав озера Комо, который тянется к югу между двумя непрерывными цепями гор, образующих, то выдвигаясь, то отступая, множество бухт и заливов, вдруг как-то сразу суживается, принимает вид реки и несёт свои воды между высоким мысом с правой стороны и обширным низменным побережьем с левой; и мост, соединяющий в этом месте оба берега, делает это превращение ещё более ощутимым для глаза, словно отмечая то место, где кончается озеро и где снова начинается Адда, дабы дальше опять превратиться в озеро там, где берега, вновь расступаясь, дают воде свободно и медленно растекаться, образуя новые заливы и новые бухты. Побережье, образованное наносами трёх мощных потоков, постепенно поднимается, примыкая к двум смежным горам: одна именуется Сан-Мартино, другая на ломбардском наречии — Резегоне (Большая Пила), по многочисленным и вытянутым в ряд зубцам, которые придают ей сходство с пилой, так что всякий, при первом же взгляде на неё (только непременно спереди — например, со стен Милана, обращённых к северу), быстро распознает её по этому признаку в длинной и обширной цепи гор с менее известными наименованиями и менее своеобразным видом.
Берег на изрядном протяжении поднимается со слабым и непрерывным уклоном; дальше он пересекается холмами и долинами, кручами и ровными площадками, в зависимости от строения обеих гор и работы вод. Нижний край берега, прорезанный устьями потоков, представляет собою почти сплошной гравий и булыжник; а затем идут поля и виноградники с разбросанными среди них усадьбами, селениями, деревушками; кое-где — леса, взбирающиеся высоко по горам.
Лекко, главное среди этих селений и дающее имя всей местности, лежит неподалёку от моста, на берегу озера; случалось ему частично очутиться и в самом озере, когда вода в последнем прибывала. В наши дни это крупное местечко, собирающееся стать городом. В те времена, когда разыгрались события, о которых мы хотим рассказать, это местечко, уже довольно значительное, служило также и крепостью и потому имело честь быть местопребыванием коменданта и пользовалось привилегией содержать в своих стенах постоянный гарнизон испанских солдат, которые обучали местных девушек и женщин скромному поведению, время от времени гладили спину кое-кому из мужей и отцов, а к концу лета никогда не упускали случая рассеяться по виноградникам, чтобы несколько пощипать виноград и тем облегчить крестьянам тяжесть уборки.
От одной деревни к другой, с горных высот к берегу, с холма на холм вились тогда, да и поныне вьются, дороги и тропинки, более или менее крутые, а иногда и пологие; они то исчезают и углубляются, зажатые нависшими скалами, откуда, подняв глаза, можно видеть лишь полоску неба да какую-нибудь верхушку горы; то пролегают на высоких открытых равнинах, и отсюда взор охватывает более или менее далёкие пространства, всегда разнообразные и всегда чем-нибудь новые, в зависимости от более или менее широкого охвата окружающей местности с различных точек, а также и от того, как та или иная картина развёртывается или замыкается, выступает вперёд или исчезает совсем. Порой показывается то один, то другой кусок, а иногда и обширная гладь этого огромного и многообразного водного зеркала: тут — озеро, замкнутое на горизонте или, лучше сказать, теряющееся в нагромождении гор, а потом постепенно расширяющееся между другими горами, которые одна за другой открываются взору, отражаясь в воде в перевёрнутом виде со всеми прибрежными деревушками; там — рукав реки, потом озеро, потом опять река, сверкающими излучинами исчезающая в горах, которые следуют за ней, постепенно понижаясь и тоже как бы исчезая на горизонте. И место, откуда вы созерцаете эти разнообразные картины, само по себе, куда бы вы ни глянули, является картиной: гора, по склонам которой вы совершаете путь, развёртывает над вами, вокруг вас свои вершины и обрывы, чёткие, рельефные, меняющиеся чуть не на каждом шагу, причём то, что сначала казалось вам сплошным горным кряжем, неожиданно распадается и выступают отдельные цепи гор, и то, что представлялось вам только что на склоне, вдруг оказывается на вершине. Приветливый, гостеприимный вид этих склонов приятно смягчает дикость и ещё более оттеняет великолепие остальных видов.
По одной из этих тропинок 7 ноября 1628 года, под вечер, возвращаясь домой с прогулки, неторопливо шёл дон Абондио, священник одной из вышеупомянутых деревень: ни её название, ни фамилия данного лица не упомянуты ни здесь, ни в других местах рукописи. Священник безмятежно читал про себя молитвы; временами — между двумя псалмами — он закрывал молитвенник, закладывал страницу указательным пальцем правой руки, затем, заложив руки за спину, шёл дальше, глядя в землю и отшвыривая к ограде попадавшиеся под ноги камешки; потом поднимал голову и, спокойно оглядевшись вокруг, устремлял взор на ту часть горы, где свет уже закатившегося солнца, прорываясь в расщелины противоположной горы, широкими и неровными красными лоскутами ложился на выступавшие скалы. Снова раскрыв молитвенник и прочитав ещё отрывок, он дошёл до поворота дороги, где обычно поднимал глаза от книги и глядел вдаль, — так поступил он и на этот раз. За поворотом дорога шла прямо шагов шестьдесят, а потом ижицей разделялась на две дорожки: одна, поднимаясь в гору, вела к его усадьбе; другая спускалась в долину к потоку, с этой стороны каменная ограда была лишь по пояс прохожему. Внутренние же ограждения обеих дорожек, вместо того чтобы сомкнуться под углом, завершались часовенкой, на которой были нарисованы какие-то длинные, змееобразные фигуры, заострявшиеся кверху. По замыслу художника и по представлениям окрестных жителей они означали языки пламени; с этими языками чередовались другие, уже не поддающиеся описанию фигуры, которые представляли души в чистилище, причём души и пламя были коричневого цвета на сероватом фоне облезшей там и сям штукатурки.
Повернув на дорожку и по привычке направив взор на часовенку, дон Абондио узрел нечто для себя неожиданное и что ему никак не хотелось бы видеть: двух человек, друг против друга, так сказать, на перекрёстке дорожек. Один из них сидел верхом на низкой ограде, свесив одну ногу наружу, а другой упираясь в землю; его товарищ стоял, прислонившись к стене, скрестив руки на груди. Их одежда, повадка, выражение лиц, насколько можно было различить с того места, где находился дон Абондио, не оставляли сомнения насчёт того, кем они были. На голове у каждого была зелёная сетка, большая кисть которой свешивалась на левое плечо, и из-под сетки выбивался на лоб огромный чуб, длинные усы закручены были шилом; к кожаному блестящему поясу была прикреплена пара пистолетов. Небольшая пороховница свешивалась на грудь наподобие ожерелья. Рукоятка кинжала торчала из кармана широчайших шароваров. Сабли с огромным резным бронзовым эфесом с замысловатыми знаками были начищены до блеска. Сразу видно было, что эти личности из породы так называемыхбрави.
Порода эта, ныне совершенно исчезнувшая, в те времена процветала в Ломбардии, и притом уже с давних пор. Для тех, кто не имеет о ней никакого понятия, приведём несколько подлинных отрывков — они дадут достаточное представление об основных особенностях этих людей, об усилиях, прилагавшихся к их изничтожению, и об упорной живучести последних.
Ещё 8 апреля 1583 года славнейший превосходительнейший синьор дон Карло Арагонский, князь Кастельветрано, герцог Террануовы, маркиз Аволы, граф Буржето, великий адмирал и великий коннетабль Сицилии, губернатор Милана и наместник его католического величества в Италии, всемерно осведомлённый о невыносимых тяготах, какие испытывал прежде и испытывает по сей день город Милан по причине бродяг и брави, издаёт против них указ.Объявляет и определяет, что действию данного указа подлежат и должны почитаться бродягами и брави… все пришлые, а равно и местные люди, не имеющие определённого занятия, либо его имеющие, но ничего не делающие…, но безвозмездно или хотя бы за жалование состоящие при особе благородного звания, либо при должностном лице или купце… дабы служить ему опорой и поддержкой, либо, как можно предположить, дабы строить козни другим… Всем таким лицам приказывает в шестидневный срок избавить означенную местность от своего присутствия, при этом неповинующимся грозит каторга, а всем судебным чинам предоставляются широчайшие и неограниченные полномочия для выполнения приказа. Однако 12 апреля следующего года, заметив, что град сей тем не менее переполнен означенными брави…, которые вернулись к прежнему своему образу жизни, ничуть не изменили своих привычек и не убавились в числе, упомянутый синьор издаёт новый приказ, ещё более строгий и выразительный, в котором, наряду с другими распоряжениями, предписывает: чтобы каждое лицо, как из жителей сего города, так и пришлое, каковое по указаниям двух свидетелей явно окажется и вообще признано будет за браво и так будет называться, хотя бы и не было установлено за ним никакого преступления… в силу только таковой своей репутации, без всяких иных улик, может означенными судьями, а равно каждым из них в отдельности быть подвергнуто пытке в порядке предварительного допроса… и хотя бы таковое лицо не созналось ни в каком преступлении, пусть тем не менее оно отправлено будет на каторгу, на трёхлетний срок за одну только репутацию и наименование браво, как выше указано. Всё это, а равно и другое, что мы опускаем, предпринималось потому, чтоего превосходительство полно решимости добиться повиновения от всякого.
Когда слышишь столь сильные и решительные слова такого вельможи, сопровождаемые подобными приказаниями, невольно хочется думать, что от одного грома их всякие брави сгинут навсегда. Однако свидетельство другого вельможи, не менее авторитетного и не менее титулованного, заставляет нас прийти к заключению прямо противоположному. Вельможа этот — славнейший и превосходительнейший синьор Хуан Фернандес де Веласко, коннетабль Кастилии, обер-камергер его величества, герцог города Фриа и граф Гаро и Кастельнуово, синьор дома Веласко и дома Семерых инфантов Лары, губернатор государства Миланского, и прочая и прочая, 5 июня 1593 года, в свою очередь, всемерно осведомившись, сколь много ущерба и разорения приносят брави и бродяги и сколь дурное действие этого рода люди оказывают на общественное благосостояние в ущерб правосудию, снова требует от них, чтобы они в шестидневный срок покинули страну, повторяя приблизительно те же предписания и угрозы своего предшественника. Затем 23 мая 1598 года, осведомившись с великим для себя неудовольствием, что… в означенном городе и в государстве количество помянутых лиц (брави и бандитов) всё возрастает, и днём и ночью только и слышно, что они учиняют из засады ранения и убийства, а такожде хищения и всяческие другие преступления, каковым они предаются тем легче, что вполне могут положиться на поддержку своих главарей и пособников,…вновь предписывает те же средства, усиливая дозировку, как это обычно делают при упорных болезнях. А посему пусть всякий остерегается нарушить в какой бы то ни было части означенный указ, иначе, вместо благорасположения его превосходительства, навлечёт на себя его строгость и гнев… ибо его превосходительство, твёрдо решил считать это увещевание последним и окончательным.
Этого мнения не разделял, однако, славнейший и превосходительнейший вельможа, синьор дон Пьетро Энрикес де Асеведо, граф Фуэнтес, капитан и губернатор государства Миланского, — и не разделял он этого мнения по разумным основаниям. Всемерно осведомившись о жалком положении, в каком живёт помянутый город и государство, по причине огромного числа изобилующих в нём брави …и решив в корне истребить столь гибельное племя, он издаёт 5 декабря 1600 года новый указ, в свою очередь наполненный строжайшими угрозами, с твёрдым намерением всемерного их выполнения по всей строгости и без малейшей надежды на снисхождение.
Приходится, однако, думать, что он взялся за это дело далеко не с тем усердием, какое прилагал к тому, чтобы затевать козни и поднимать врагов на великого своего недруга, Генриха IV; история свидетельствует, как в данной области ему удалось вооружить против этого короля герцога Савойского, которого он и привёл к потере более чем одного города; как успешно он заставил вступить в заговор герцога Бирона, который поплатился своей головой; что же касается столь зловредного племени брави, то несомненно одно — они продолжали плодиться. Так было ещё 22 сентября 1612 года, когда славнейший и превосходительнейший вельможа, дон Джованни де Мендоса, маркиз Инохоза, кавалер и прочая…, губернатор и прочая… серьёзно задумал истребить их. В этих видах он отправил королевским придворным печатникам, Пандольфо и Марко Туллио Малатести, обычный указ, исправленный и расширенный, дабы они отпечатали его на предмет полного истребления брави. Но последние продолжали действовать до получения 24 декабря 1618 года тех же и ещё более сильных ударов от славнейшего и превосходнтельнейшего вельможи, синьора дона Гомес Суарес де Фигуэроа, герцога Ферийского и прочая…, губернатора и прочая… Однако и это не сжило их со света, а посему славнейший и превосходительнейший вельможа, синьор Гонсало Фернандес ди Кордова, в правление которого произошла прогулка дона Абондио, оказался вынужденным ещё раз подновить и ещё раз обнародовать обычный указ против брави. Это было 5 октября 1627 года, то есть за год, месяц и два дня до достопамятного происшествия.
Однако и это обнародование не было последним; но мы не считаем себя обязанными упоминать о дальнейших, ибо они по времени выходят за пределы нашей истории. Отметим лишь одно — от 13 февраля 1632 года, в котором славнейший и превосходительнейший синьор, герцог Ферийский, вторично назначенный губернатором, осведомляет нас, что страшные злодейства происходят от тех, кто именуется брави. Это в достаточной мере подтверждает нам, что в то время, о котором идёт речь, брави не переводились.
Что две вышеописанные личности стояли и ждали кого-то, было более чем очевидно; однако дону Абондио совсем не понравилось, когда он, по некоторым их движениям догадался, что они поджидали именно его. Ибо при его появлении они переглянулись и подняли головы с таким видом, словно одновременно сказали друг другу: «Вот он». Сидевший верхом на ограде перекинул через неё ногу и встал на дороге; другой отделился от ограды, и оба пошли навстречу дону Абондио; а он, продолжая держать перед собой открытый молитвенник, делал вид, что читает его; сам же осторожно поднял глаза, чтобы следить за их движениями; и когда он увидел, что они идут прямо навстречу ему, тысяча соображений разом нахлынули на него. Он тут же спросил себя самого, нет ли между ним и брави какой-нибудь боковой дорожки, вправо или влево, и сразу вспомнил, что нет. Он быстро перебрал в уме, не погрешил ли он в чём-либо против какого-нибудь сильного, какого-нибудь мстительного человека; но даже при всём волнении утешающий голос совести несколько успокоил его. А брави тем временем всё приближались, зорко вглядываясь в него. Тогда он запустил указательный и средний пальцы за воротник, как бы оправляя его, и, обводя пальцами шею, вместе с тем повернул голову, заодно перекосив рот и стараясь хоть краешком глаза посмотреть, не идёт ли кто-нибудь сзади; но никого не увидел. Он заглянул через ограду в открытое поле — никого; бросил более робкий взгляд вперёд, на дорогу — никого, кроме брави. Что делать? Возвращаться назад было поздно; пуститься бежать — значило бы то же, что сказать: «Ловите меня», — если не хуже. Не имея возможности уклониться от опасности, он бросился ей навстречу, ибо мгновения неизвестности стали для него так мучительны, что хотелось лишь одного — сократить их. Он ускорил шаг, погромче прочёл один стих, постарался сделать возможно более спокойное и весёлое лицо и приложил все усилия, чтобы приготовить улыбку; очутившись лицом к лицу с обоими молодцами, он мысленно сказал себе: «Ну, прямо в лапы», — и решительно остановился.
— Синьор курато, — обратился к нему один из них, впиваясь глазами в его лицо.
— Что вам угодно? — быстро ответил дон Абондио, поднимая глаза от книги, которая так и осталась у него в руках раскрытой, словно на аналое.
— Вы намереваетесь, — подхватил другой с угрожающим и гневным видом человека, который поймал своего подчинённого при попытке совершить мошенничество, — вы намереваетесь завтра обвенчать Ренцо Трамальино с Лючией Монделла?
— Собственно говоря… — дрожащим голосом отвечал дон Абондио, — собственно говоря, вы, синьоры, люди светские и отличнейшим образом знаете, как делаются такие дела. Бедняк курато тут ни при чём; они свои пироги сами пекут, ну, а потом… потом являются к нам, так, как ходят в банк за деньгами; ну, а мы, — что же, — мы, служители общины…
— Так вот, — сказал ему браво на ухо, однако тоном торжественного приказания, — помните — этому венчанию не бывать ни завтра, ни когда-либо.
— Но, синьоры, — возразил дон Абондио кротким и вежливым тоном человека, который желает уговорить нетерпеливого собеседника, — извольте, синьоры, влезть в мою шкуру. Если бы дело зависело от меня… но вы же отлично знаете, что мне тут ничего не перепадёт…
— Ну, довольно, — прервал его браво, — если бы дело решалось болтовнёй, вы бы нас за пояс заткнули. Мы ничего больше не знаем и знать не хотим. Предупреждение вам сделано, — вы нас понимаете.
— Но ведь вы, синьоры, люди достаточно справедливые и разумные…
— И всё же, — перебил на этот раз другой, до сих пор молчавший, — и всё же венчание не состоится, иначе… — тут он разразился цветистой руганью, — иначе тот, кто его совершит, не успеет в этом покаяться, некогда будет… — и он снова выругался.
— Тише ты, тише, — вставил первый, — синьор курато понимает благородное обращение; мы тоже люди благородные и никакого зла ему причинять не собираемся, если он окажется благоразумным. Синьор курато! Преславный синьор дон Родриго, наш патрон, высоко чтит вас.
Имя это пронеслось в сознании дона Абондио словно вспышка молнии в ночную непогоду, — вспышка, которая на мгновение смутно озаряет всё вокруг и только усиливает ужас. Он совершенно непроизвольно отвесил низкий поклон и проговорил:
— Если бы вы мне хоть намекнули…
— Намекать тому, кто латынь знает! — бесцеремонно и зловеще расхохотался браво. — Дело ваше! Но главное, не проболтайтесь, — ведь мы сделали это предупреждение исключительно для вашего блага, не то… хм… получится то же самое, как если бы вы совершили это венчание… Ну, так что же нам передать от вас синьору дону Родриго?
— Нижайшее моё почтение…
— Этого мало.
— Готов, всегда готов повиноваться!
Произнося эти слова, он и сам не знал, даёт ли он обещание, или только говорит любезность. Брави приняли или по крайней мере сделали вид, что принимают его слова всерьёз.
— Превосходно! Покойной ночи, сударь, — сказал один из них, уходя с товарищем.
Дон Абондио, который несколько минут назад готов был пожертвовать глазом, чтобы избежать всяких разговоров, теперь хотел продлить беседу и переговоры.
— Синьоры… — начал было он, захлопывая книгу обеими руками, но те, не вняв его обращению, пошли по дороге в том направлении, откуда он пришёл, и удалились, напевая песенку, которую я не стану приводить. Бедняга дон Абондио на мгновение застыл с разинутым ртом, словно зачарованный, а потом пошёл по той из двух тропинок, которая вела к его дому, переставляя с трудом, одну за другой, свои словно одеревеневшие ноги. Что касается его самочувствия, то мы разберёмся в нём лучше, если скажем кое-что о его характере и о той эпохе, в какую ему довелось жить.
Читатель уже заметил, что дон Абондио от рождения не обладал сердцем льва, к тому же с детских лет он должен был убедиться, что тяжелее всего в те времена приходилось животному, не имеющему ни когтей, ни клыков. А ему вовсе не хотелось, чтобы его проглотили. Сила закона ни в малейшей степени не защищала человека спокойного, безобидного и не имеющего возможности держать в страхе других. Не то чтобы не хватало законов и наказаний за насилия, совершаемые отдельными лицами. Напротив, законы изливались потоками; преступления в них перечислялись и детализировались с необычайным многословием; наказания, и без того до нелепости чрезмерные, могли, в случае необходимости, ещё усиливаться чуть ли не в каждом отдельном случае по произволу самого законодателя и сотни исполнителей; судопроизводство направлено было лишь к освобождению судьи от всего, что могло бы ему помешать произнести обвинительный приговор: приведённые нами отрывки указов против брави являются тому малым, но верным образцом. Вместе с тем, — а в значительной степени именно потому, — все эти указы, повторно объявляемые и усиливаемые каждою новою властью, служили лишь высокопарным свидетельством полного бессилия их авторов. А если и получалось какое-нибудь непосредственное воздействие, то оно выражалось прежде всего усугублением угнетения, которое и без того испытывали мирные и слабые люди от смутьянов, и усилением насилий и козней со стороны последних. Безнаказанность была систематической и покоилась на основаниях, которых указы не затрагивали либо не могли нарушить. Таковыми были право убежища и привилегии некоторых классов, частью признаваемые законом, частью терпимые и замалчиваемые либо впустую оспариваемые, а на деле поддерживаемые этими классами со всей энергией заинтересованности и с ревнивой придирчивостью. Но эта безнаказанность, сделавшись предметом угроз и нападок со стороны указов, бессильных, однако, её разрушить, естественно, отстаивая себя, должна была при каждой угрозе, при каждом натиске пускать в ход новые усилия и новые выдумки. Так оно и было на деле: при появлении указов, направленных к укрощению негодяев, последние, опираясь на реальную свою силу, изыскивали новые, более подходящие способы, чтобы продолжать то самое, что воспрещалось указами. Указы эти могли тормозить каждый шаг, могли причинять всякие неприятности благонамеренному человеку, бессильному и лишённому чьего-либо покровительства, ибо, задавшись целью держать в своих руках любое отдельное лицо, чтобы предупредить или покарать любое преступление, они подчиняли каждое движение такого лица произвольной прихоти всякого рода исполнителей. Наоборот, тот, кто, приготовившись совершить преступление, принимал меры к тому, чтобы вовремя укрыться в монастырь, во дворец, куда сбиры никогда не посмели бы ступить ногой; кто, без других предосторожностей, просто носил ливрею, которая возлагала на тщеславные интересы какой-либо знатной фамилии или целого сословия обязанность защищать его, — тот был свободен в своих действиях и мог посмеиваться над всеми этими громовыми указами. Да и среди призванных выполнять эти указы одни по рождению принадлежали к привилегированной среде, другие зависели от неё как клиенты, — те и другие в силу воспитания, интересов, привычек, подражания усвоили себе принципы этой среды и очень поостереглись бы нарушить их ради клочка бумаги, расклеенного на углах. Далее, люди, которым вверено было непосредственное исполнение указов, будь они даже неустрашимы, как герои, послушны, как монахи, и готовы к самопожертвованию, как мученики, всё-таки не могли бы довести дело до конца, поскольку они численно были в меньшинстве по сравнению с теми, кого должны были бы подчинить; весьма велика была для них и вероятность того, что их покинут те, от кого отвлечённо, так сказать теоретически, исходило приказание действовать. А помимо этого они в большинстве случаев принадлежали к наиболее мерзким и преступным элементам своего времени; порученное им дело презиралось даже теми, кто должен был бы бояться их, и самое звание их было бранным словом. Отсюда вполне естественно, что они, вместо того чтобы рисковать, а тем более ставить на карту свою жизнь в таком безнадёжном предприятии, продавали власть имущим своё невмешательство и даже попустительство, оставляя за собой возможность проявлять эту гнусную власть и свою силу в тех случаях, когда им не грозила опасность, то есть, попросту сказать, досаждали притеснениями людям мирным и беззащитным.
Человек, который собирается обижать других или ежеминутно опасается, что его самого обидят, естественно ищет союзников и сотоварищей. Отсюда в те времена было в высочайшей степени развито стремление отдельных лиц держаться определённых группировок, образовывать новые и содействовать возможно большему усилению того круга, к которому он сам принадлежал. Духовенство заботилось о поддержании и расширении своих льгот, знать — своих привилегий, военные — своих особых прав. Торговцы, ремесленники объединялись в цехи и братства, юристы составляли лигу, даже врачи — свою корпорацию. Каждая из этих маленьких олигархий была сильна по-своему; в каждой из них отдельная личность, в зависимости от своего влияния и умения, получала возможность использовать в личных интересах объединённые силы многих. Более добросовестные прибегали к этой возможности только в целях самозащиты; хитрецы и злодеи пользовались ею при выполнении своих преступных замыслов, для которых не хватило бы их собственных средств, и чтобы обеспечить себе безнаказанность. Однако силы различных этих союзов были весьма неравны, особенно в деревне: знатный и богатый насильник, окружённый шайкой брави и крестьянами, которые по исконным семейным традициям привыкли и были заинтересованы, а то и просто вынуждены считать себя как бы подданными и солдатами своего патрона, — проявлял такую власть, с которой никакая другая группа в данной местности не могла бороться.
Не знатный, не богатый, ещё менее того храбрый, наш Абондио, едва ли не раньше вступления своего в сознательный возраст, приметил, что в этом обществе он подобен сосуду скудельному, который вынужден совершать путь совместно со множеством чугунных горшков. А посему он довольно охотно послушался родителей, которые прочили его в священники. По правде говоря, он не очень раздумывал об обязанностях и о благородных целях того служения, которому он себя посвящал; добыть средства для безбедного существования и попасть в состав уважаемого и влиятельного слоя общества — вот два основания, которых, как ему казалось, было вполне достаточно для оправдания такого выбора. Но всякий общественный слой лишь до известной степени прикрывает и застраховывает отдельную личность, не избавляя её от необходимости выработать себе свою собственную систему защиты. Беспрерывно поглощённый мыслями о своём спокойствии, дон Абондио не заботился о таких преимуществах, для достижения которых требовалось приложение больших усилий или некоторый риск. Его система заключалась главным образом в том, чтобы избегать всяких столкновений, а уж если их нельзя было избежать, то уступить. Он держался разоружённого нейтралитета во всех войнах, вспыхивавших вокруг него, начиная со столь обычных в ту пору распрей между духовенством и светскими властями, между военными и штатскими, между знатными и другими знатными, вплоть до споров между двумя крестьянами, вспыхивавших из-за какого-нибудь слова и разрешавшихся врукопашную или поножовщиной. Если крайняя необходимость заставляла его занять определённую позицию между тяжущимися сторонами, он становился на сторону более сильную, однако с постоянной оглядкой, стараясь показать другой стороне, что он нисколько не желает быть её врагом, — он как бы хотел сказать: «Почему ты не сумел оказаться более сильным, я бы тогда стал на твою сторону». Стараясь держаться подальше от сильных, закрывая глаза на их случайные, вызванные капризом, притеснения и покорно снося более серьёзные и заранее обдуманные, умея вызывать своими поклонами и почтительно-приветливым видом улыбку на лицах более ворчливых и сердитых людей, с которыми он сталкивался на дороге, бедняга ухитрился без больших треволнений перевалить за седьмой десяток.
Нельзя, однако, сказать, чтобы это не оставило в его душе известной горечи. Постоянное испытание терпения, столь частая необходимость уступать другим и молчаливо проглатывать обиды — всё это настолько раздражало его, что, если бы он время от времени не давал выхода своим чувствам, его здоровье неминуемо пострадало бы. Но так как в конце концов на свете, даже совсем рядом с ним, были люди, неспособные, как он знал, обижать других, то он мог иногда срывать на окружающих долго подавляемое дурное настроение, позволяя себе некоторые причуды и покрикивая на них без всякого основания. Он любил также быть строгим критиком людей, которые не умели держать себя в узде, но делал это лишь тогда, когда эта критика не грозила ему ни малейшими, хотя бы и отдалёнными, последствиями. Всякий потерпевший был в его глазах по меньшей мере неосторожным человеком; убитый всегда оказывался смутьяном. А если кто-нибудь, принявшись отстаивать свои права против человека сильного, выходил из драки с разбитой головой, дон Абондио всегда умел найти за ним какую-нибудь вину, — дело нехитрое, ибо между правотой и виной никогда ведь нельзя провести такой отчётливой грани, чтобы одна целиком была по одну, а другая по другую её сторону. Больше же всего нападал он на тех своих собратьев, которые на собственный риск и страх принимали сторону обижаемого человека против всесильного притеснителя. Это он называл «покупать себе хлопоты за наличные деньги» и «желать выпрямить ноги у собаки»; он строго говорил также, что это — вмешательство в мирские дела, несовместимое с достоинством пастырского служения. И он громил таких людей, всегда, впрочем, с глазу на глаз или в самом тесном кругу, с тем большим пылом, чем больше собеседники были известны своей неспособностью возражать там, где дело касалось их самих. При этом у него было любимое изречение, которым он неизменно заканчивал разговоры на эту тему: «У порядочного человека, который следит за собой и знает своё место, никогда не бывает неприятных столкновений».
Так пусть же представят себе мои немногочисленные читатели, какое впечатление должно было произвести на беднягу всё изложенное. Ужас перед этими зверскими физиономиями и страшными словами; угрозы со стороны синьора, который славится тем, что угрожает не зря; налаженное спокойное существование, стоившее стольких лет усилий и терпения, а теперь разом разрушенное; наконец, предстоящий шаг, от которого неизвестно, как избавиться, — все эти мысли беспорядочно кружились в поникшей голове дона Абондио. «Если бы удалось отправить Ренцо с миром, решительно отказав ему, — куда ни шло; но ведь он потребует объяснения, — а что же, ради самого неба, мне ему отвечать? Опять же… у него есть голова на плечах; пока никто его не трогает, он чистый ягнёнок; зато, если кто вздумает ему перечить, — о!.. А тут ещё он совсем голову потерял из-за этой Лючии, влюблён, как… Паршивцы этакие! Влюбляются от нечего делать, затевают свадьбу и ни о чём больше не думают; им и дела нет до тех неприятностей, которым они подвергают порядочного человека. Горе мне! Ведь нужно же было этим двум мерзавцам встать на моём пути и взяться за меня! При чём тут я? Разве я собираюсь жениться? Почему не пошли они разговаривать с…? Ну, вот подите же, — такая уж моя судьба: хорошие мысли всегда приходят мне в голову задним числом. Что бы мне догадаться надоумить их пойти со своим поручением к…».
Но тут он сообразил, что раскаиваться в том, что не сделался советником и соучастником в неправом деле, пожалуй, совсем уже плохо, — и обратил весь свой гнев на того, другого, лишившего его привычного покоя. Он знал дона Родриго с виду и понаслышке, но никогда не имел с ним никаких дел. Только в тех редких случаях, когда дон Абондио встречал его на дороге, подбородок его сам касался груди, а тулья шляпы — земли. Не один раз случалось ему вступаться за доброе имя этого синьора против тех, кто шепотком, со вздохами и возведением очей к небу осуждал какой-нибудь его поступок: сотни раз он уверял, что это вполне почтенный дворянин. Но в данную минуту он в душе награждал его такими прозвищами, каких никогда не выслушивал из чужих уст без того, чтобы тут же не прервать говорившего неодобрительным оханием. Полный этих тревожных мыслей, добрался он до дверей своего дома, стоявшего на краю селения, торопливо сунул в замок заранее приготовленный ключ, отпер дверь, войдя, старательно запер её за собой и, стремясь всей душой очутиться в благонадёжном обществе, тут же принялся звать: «Перпетуя! Перпетуя!» — направляясь в небольшую гостиную, где она, наверное, накрывала стол к ужину. Нетрудно догадаться, что Перпетуя была служанкой дона Абондио, служанкой верной и преданной, умевшей, смотря по обстоятельствам, когда надо, сносить воркотню и причуды хозяина, а когда надо — заставлять его переносить её собственные, становившиеся с каждым днём всё более частыми, с тех пор как она переступила сорокалетний — «синодальный» — возраст, оставшись в девицах по причине отказа, как она уверяла, от всех сделанных ей предложений, либо, как говорили её приятельницы, по причине того, что ни один пёс не пожелал к ней присвататься.
— Иду! — отвечала она, ставя на стол, на обычное место, кувшинчик любимого вина дона Абондио, и медленно двинулась на зов; но не успела она дойти до порога комнаты, как дон Абондио уже входил тяжёлой поступью, с мрачным взглядом и расстроенным лицом. Опытный глаз Перпетуи сразу заметил, что случилось что-то поистине необычайное.
— Милосердный боже! Что с вами, синьор хозяин?
— Ничего, ничего, — отвечал дон Абондио и, тяжело дыша, опустился в своё огромное кресло.
— Как так ничего? И это вы говорите мне? У вас такой ужасный вид! Не иначе, как случилось что-нибудь!
— Ради самого неба! Когда я говорю — ничего, значит — ничего, либо что-нибудь такое, чего я не могу сказать.
— Не можете сказать даже мне? А кто же будет заботиться о вашем здоровье? Кто вам подаст добрый совет?
— Боже мой! Да замолчите же вы! Не надо мне ничего, а дайте-ка мне лучше стакан моего любимого вина.
— И вы меня будете уверять, что ничего не случилось? — сказала Перпетуя, наполняя стакан и не выпуская его из рук, словно собираясь отдать его не иначе как в награду за тайну, которую она так жаждала узнать.
— А ну, дайте сюда, дайте! — сказал дон Абондио, взяв стакан не совсем твёрдой рукой и быстро опорожнив его, словно лекарство.
— Так вы, значит, хотите, чтобы я вынуждена была повсюду ходить и расспрашивать, что такое стряслось с моим хозяином? — сказала Перпетуя, стоя перед ним, руки в боки и выпятив вперёд локти, пристально глядя на него, словно желая вырвать тайну из его глаз.
— Ради самого неба! Не разводите сплетен, не поднимайте шума, — тут можно ответить… головой.
— Головой?
— Да, головой…
— Вы же отлично знаете, — всякий раз, когда вы со мной говорили о чём-нибудь откровенно, по секрету, я ведь никогда…
— Что уж говорить! Вот, например, когда…
Перпетуя поняла, что задела не ту струну. А потому, тут же изменив тон, промолвила взволнованным голосом, способным растрогать собеседника:
— Дорогой хозяин, ведь я всегда была к вам привязана; если я теперь хочу узнать, то ведь это из усердия, — мне хочется помочь вам, дать добрый совет, поддержать вас…
В сущности говоря, сам дон Абондио, пожалуй, стремился освободиться от своей мучительной тайны так же страстно, как Перпетуя стремилась её узнать, вот почему, отбивая всё слабее и слабее новые и всё более напористые атаки с её стороны и предварительно заставив её поклясться несколько раз в том, что она никому — ни гу-гу, он в конце концов с многократными перерывами, ахами и охами рассказал ей злосчастное своё приключение. Когда же дошло до страшного имени главного зачинщика, Перпетуя должна была принести новую, особо торжественную клятву, — и дон Абондио, произнося роковое имя, с тяжёлым вздохом откинулся на спинку кресла и, воздевая руки, как бы приказывая и вместе с тем умоляя, произнёс:
— Но ради самого неба…
— О господи! — воскликнула Перпетуя. — Ах он негодяй, ах тиран! Нет у него страха божьего!
— Замолчите вы! Или вы хотите совсем погубить меня?
— Да что вы! Мы тут совсем одни, никто не услышит. Но что же вы будете делать, бедный мой хозяин?
— Вот видите, — ответил с раздражением дон Абондио, — видите, какие вы мне умеете давать советы. Только от вас и слышишь, что делать, да что делать, как будто попали впросак вы и мне приходится вас выручать.
— Да нет же, я что? Пожалуй, я бы и подала какой ни на есть совет, только будет ли толк?
— Ну, там посмотрим!
— Мой совет такой: ведь вот все говорят, что наш архиепископ человек святой и влиятельный, и никого-то он не боится, а когда ему удаётся проучить одного из этих тиранов и защитить какого-нибудь курато, он так весь и ликует. Так я вот что скажу: напишите-ка вы ему письмо, да хорошее, и разъясните ему, что и как…
— Да замолчите же вы наконец! Вот какие советы даёте вы несчастному человеку! Если бы, избави боже, мне всадили заряд в спину, архиепископ, что ли, стал бы со мной возиться?
— Ну, выстрелами-то зря не сыплют, — это вам не конфетти! Да и псы эти, хоть и лаются, но не всегда же кусают. А я вот заметила: кто умеет показать зубы и заставить уважать себя, тем и почёт и уважение; а потому, что вы никогда не хотите высказывать своего мнения, мы и дошли до того, что, с позволения сказать, каждый…
— Замолчите же!
— Что ж, я замолчу! А всё-таки правильно, — если весь свет видит, что кто-нибудь всегда, при всякой оказии, тут же готов спустить паруса…
— Замолчите вы или нет? Время ли теперь болтать всякую чепуху?
— Ну, будет! Успеете надуматься за ночь. Только зачем же причинять себе вред и портить здоровье? Скушали бы кусочек…
— Да, я подумаю, — отвечал, ворча, дон Абондио, — конечно, подумаю; есть о чём подумать. — И он поднялся, прибавив: — Есть я ничего не хочу, ничего, — не до того сейчас, я сам знаю, что выкручиваться придётся мне одному. Но надо же, чтобы это стряслось именно со мной!
— Вы бы хоть ещё глоточек пропустили, — сказала Перпетуя, наливая вина. — Вы ведь знаете, как это всегда помогает вашему желудку.
— Ах, не до того, не до того теперь, совсем не до того!.. — С этими словами он взял свечу и отправился наверх в свою комнату, ворча про себя: «Пустяки, подумаешь! Это с таким-то благородным человеком, как я! Что-то будет завтра?» Уже на пороге комнаты он обернулся к Перпетуе и, приложив палец к губам, медленно и торжественно произнёс: — Ради самого неба! — и скрылся.
Критика